13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Зарождение Р. С. Х. Д. в эмиграции
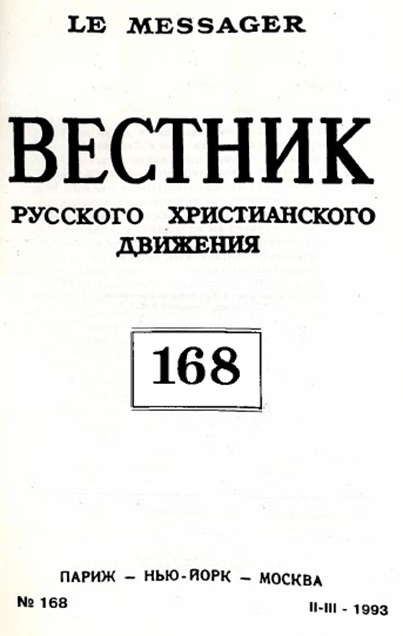
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ
ЗАРОЖДЕНИЕ Р. С. Х. Д. В ЭМИГРАЦИИ*
(Из истории русских религиозных течений
в эмиграции)
До эмиграции.
Если мне память не изменяет, я довольно поздно — около 1906-1907 гг. — услышал впервые о каких-то собраниях студентов, верующих во Христа Спасителя и входящих в Российское Студенческое Христианское Движение. Я помню из них Апол. Евсевского, Семко, Ольгу Ив. Кулешову, Ольгу Петровну Прохаско... Больше всего меня тянул туда Евсевский — он был студентфилолог, и, очевидно, на факультете мы и познакомились. Мой религиозный перелом произошел в 1902 г., и к указанному сроку я уже довольно далеко ушел в понимании (умовом) христианства. Это было уже после встречи с С. Н. Булгаковым, после издания газеты «Народ», после моих религиозных фельетонов в разных изданиях, в которые меня тащил незабвенный Влад. Ник. Лашнюков (которому я обязан первым толчком к тому, что обратился к изучению религиозных вопросов)— это было тогда, когда возникало в Киеве Религиозно-Философское Общество (первым председателем его был П. П. Кудрявцев).
Меня тянуло к богословию, к проблемам христианской культуры — моралистические же и мелко рациона-
* Первые главы из книги прот. В, Зеньковского «Мое участие в Русском Студенческом Христианском Движении». Надеемся, что в скором времени книга появится полностью в изд. ИМКА-Пресс.
330
диетические тенденции, которые были у студентов, членов Российского Студенческого Христианского Движения, меня более отталкивали. Это не мешало, конечно, самым лучшим личным отношениям с ними, иногда я посещал собрания их, а одну зиму (не помню какую) провел с 4-5 участниками много собраний по изучению Евангелия от Иоанна (которым и сам занялся в это время). Помню особенно Семко — сначала благочестивого до юродства, а потом потерявшего веру через рационализм и морализм (здесь много постарался хороший, но духовно тупой человек, Вас. Як. Головин, внук Гоголя, написавший чисто сектантскую книгу в духе Л. Н. Толстого «Шесть заповедей»). Ко мне уже тогда хаживал, приведенный отцом, Жураковским, мальчик лет 14, Толя (впоследствии отец Анатолий); он приходил каждое воскресение, проводил у меня 1/2-1 час времени, и мы с ним вели беседы на самые различные темы. Эти уже годы (1906-1907) были годами обильнейшей моей богословской переписки с С. Н. Булгаковым — о пропаже его писем (они остались в Киеве и, конечно, пропали) я искренне сожалею.
О «Движении» в Москве и Петербурге я имел очень смутные представления, слышал имя В. Ф. Марцинковского, который даже приезжал в Киев (но я его тогда еще не видел).
О том, чем я сам был заполнен религиозно в эти годы и последующие (до эмиграции), не здесь буду рассказывать.
Хочу лишь отметить, что всем вышеприведенным, хотя и доброжелательным, но в то же время равнодушным отношением к «Движению» тогда в России все у меня и ограничивалось.
Белград (февраль 1920 март 1923 г.)
Я приехал в Белград весной 1920 г., получил кафедру лишь в июне того же года. Жил я до осени вместе с проф. С. В. Троицким, с которым мы вели бесконечные, очень полезные для меня разговоры на богословские и религиозно-философские темы. Тогда же я близко
6
сошелся с иеромонахом Дамаскином (ныне митрополитом). Я довольно часто приходил к нему (он играл мне много на пианино и много и хорошо пел). Он меня ввел в сербское общество «Христианских Сестер», где я читал несколько лекций, он же познакомил меня с патриархом Димитрием, который однажды присутствовал на моей лекции (переводил ее на сербский язык иеромонах Дамаскин). В эти месяцы (до осени 1920 г.) я часто думал на тему «Россия и Православие» (на эту тему еще в 1915 году я написал в «Христианской мысли» большую статью) и думал, что я с моим пониманием того, как должно связывать Россию и Православие — остаюсь пока совершенно одинок.
Поздней осенью 1920 г. я уехал в Варшаву (в поисках путей для пересылки денег моей матери в Киев), вернулся в январе 1921 г., и тут началось мое знакомство и связь с русской молодежью (я читал лекции по психологии по-сербски и по истории русской этики — по-русски). На эти лекции приходило очень много русской молодежи.
К осени 1921 г. начались у меня лекции на богословском факультете. (История философии, этика, психология — все по-русски). Мне очень была по душе наполовину русская аудитория — и с отдельными студентами у меня стали завязываться беседы.
Однажды, в конце ноября 1921 г., один из студентов, Н. М, Терещенко, встретил меня, когда я шел к своей учительнице сербского языка (А. Н. Глушевич), стал говорить о том, что среди студентов-богословов существует небольшой русский религиозный кружок. Он прибавил, что очень мне советует его посещать. «Это будет для Вас очень полезно в религиозном отношении», — сказал он.
Я очень обрадовался этому сообщению — и на ближайшее же собрание, которое состоялось почти за городом, на квартире у Зерновых, пошел. Если мне память не изменяет, там было без меня 6-8 человек (иногда, впрочем, было и до 20): трое Зерновых (Коля, Соня, Маня), Афанасьев, Терещенко, Расторгуев, Гога Троянов, Клепинин Дима и его брат Дода (иногда и его
7
жена Наташа), Анна Николаевна Гиппиус, Ирина Васильевна Степанова (Окунева), Ася Оболенская, Ольга Веригина и другие. Верных, постоянных членов в кружке было всего 7-8. Это была весна кружка, самая ранняя и самая важная по существу его стадия. Прежде всего все они были православные, строго и вдохновенно церковные, и у всех было одно и то же стремление — исходить во всем — ив жизни и в мысли — от Церкви. Едва ли формула «оцерковление жизни» была в ходу в этот период, но по существу именно она была руководящей. Говорили мы решительно на все темы и всегда сходились на том, что в свете Православия, в свете Церкви все вопросы получают свое верное и исключительно глубокое решение. Председателя формально в кружке не было, но было естественно, что я, как старший, вносил поправки, «резюмировал», выдвигал темы и т. д. Я очень любил эти собрания — они были для меня и радостью общения с чистой молодежью, и утешением, что она есть. («Ныне отпущаеши» — я часто говорил сам себе).
В то же время я получил невольно новую, столь желанную аудиторию — глубокую, окрыленную. Я сам шел к ним всем с любовью, со своими знаниями — они тянулись тоже ко мне. В этот период (до июня 1922 г., когда Зерновы уехали на лето к родителям и встречи кружка прекратились), я особенно часто встречался с Гогой Трояновым, с Н. Н. Афанасьевым, с Маней и Колей Зерновыми. Очень помню трогательно грустное прощание со всей молодежью на последнем заседании. Я нашел в сущности новую семью, и мне расставаться с ними было так больно.
Летом 1922 я получил приглашение приехать в Берлин на конференцию молодежи, — но этому предшествовали некоторые факты, о которых нужно рассказать.
Мой брат Александр с весны 1921 г. переселился из Константинополя в Берлин, и я летом 1921 г. провел в Берлине у него около двух месяцев. Тут я очень сблизился с проф. П. И. Новгородцевым, нас сблизили встречи в храме. Я бывал у него не раз. Однажды, уже незадолго до моего возвращения в Белград, П. И. спросил,
8
не соглашусь ли я сделать религиозно-философский доклад «для церковных людей» на квартире Е. Н. Безак (о которой я знал от брата). Конечно, я принял это предложение и в следующее воскресение сделал доклад. На собрании было до 50 человек. Здесь я впервые встретил Ф. Т. Пьянова, который тогда работал в берлинской YMCA. Когда А. И. Никитин, который после съезда 1920 г. в Пекине вместе с Липеровским, Холлингером (от YMCA) и Мисс Rous (тогда генеральный секретарь Всемирной Студенческой Христианской Федерации) входил в комитет по организации религиозной работы среди русских и был уже секретарем болгарского Движения, побывал ранней весной 1922 г. в Берлине, он узнал от Ф. Т. Пьянова обо мне и о кружке русской религиозной молодежи в Белграде — и, едучи назад в Софию, остановился в Белграде и пришел ко мне. Мне он очень понравился, и я пригласил его придти вместе со мной на следующий день на заседание кружка. Между прочим, с этим связан один грустно-комический эпизод моей жизни. Никитин много рассказывал о Федерации, о Движении религиозном среди молодежи всего мира, о желательности создания русского аналогичного Движения и т. д. Тогда методы Федерации были строго интерконфессиональны; вероятно, в словах Никитина было что-то, что заставило нашу молодежь, очень строго и бережно относившуюся к идее центральности Церкви во всем, насторожиться — а Н. М. Терещенко вдруг заболел подозрением, что я с Никитиным оба масоны и что я показываю Никитину результат моей работы... О своих подозрениях мне он ничего тогда не сказал, но они запали в его душу. Месяца через два в Белград приехал (ныне покойный) Ральф Холлингер, плохо, но все же немного объяснявшийся по-русски. Он был на заседании кружка и до такой степени всем пришелся по душе, так хорошо всем стало при нем, что Терещенко не только поверил ему, что он действительный христианин, но ему вдруг стало стыдно, что чужому человеку он поверил, а своего, которого видел в его любви к Церкви, заподозрил в масонстве. Он пришел ко мне, покаялся в своих подозрениях, и с
9
тех пор мы на всю жизнь остались близкими (я позже стал крестным отцом его девочки Таси).
Никитин писал Пьянову обо мне и кружке, и, когда Пьянов организовал летом 1922 г. первую конференцию русской молодежи в Германии, он позвал в качестве руководителей П. И. Новгородцева и меня.
Конференция эта была организована скверно — все ехали по существу «в бесплатную экскурсию, но с обязательством слушать профессоров...» Но среди этой пустой и неподходящей молодежи было несколько глубоких натур (особенно помню Юру Лунина). Эта конференция (на которой я впервые узнал Г. Г. Кульмана и П. Ф. Андерсона) не оставила никакого следа ни у нас, ни у молодежи, а я стал более сурово относиться к замыслам YMCA работать среди русской молодежи, стал с известной подозрительностью относиться и к Федерации. Во мне тогда с чрезвычайной остротой жила мысль, что православные пути в работе с молодежью должны быть свободны от берлинских методов. Идея православного русского Движения впервые стала предноситься мне со всей силой.
Работа белградского кружка с осени 1922 года стала чрезвычайно интенсивна. В течение лета у меня была удивительная переписка со всеми членами кружка, особенно с тремя Зерновыми. С осени в кружке появилось немало новых и замечательных людей (самым замечательным был К. Керн, нынешний архимандрит Киприан), упомяну также Н. Иванова, ныне епископа Серафима, Леру Губанову (ныне монахиню), Е. Н. Воробьеву. В кружке появилось больше 25 постоянных членов, работа приобрела более систематический характер. О нашем кружке уже много говорили в русском обществе в Белграде — особенно с тех пор, как некоторые члены (особенно С. М. Зернова) стали собирать пожертвования на постройку русской церкви в Белграде.
Из той жизни, которая стала ключом бить в кружке, ясно определились и организационные задачи. Был выбран президиум в составе Коли Зернова, Н. Н. Афанасьева и, кажется, Керна, — на заседания звали обычно и меня. Но уже в эту зиму определились
10
и трудности в кружке, связанные, главным образом, с семьей Зерновых. Трое Зерновых, все яркие, одаренные, вдохновенные, постоянно между собой говорили о жизни кружка, о его задачах, привлекали новых членов
— вообще были исключительно активны и, конечно, достойны были всякой похвалы. Но не раз выходило так, что кружок превращался, по ядовитому замечанию Терещенко, в «салон Зерновых» — ибо они на свой страх и риск приглашали на заседания новых людей. И так как заседания происходили у них на квартире
— то это как будто было и естественно — но другие болезненно переживали это давление Зерновых, появилась «оппозиция». С особой силой все это обнаружилось при принятии в члены кружка П. С. Лопухина (впоследствии ставшего вместе с Ю. П. Граббе, тоже членом кружка в Белграде с 1923 г., деятельным работником Епархиального Управления в Карловцах,— ныне в той же должности в Париже у Карловацкого Еп. Управления). Предчувствие мое, Афанасьева и других, что из этого добра не будет, слишком, увы, оправдалось впоследствии, но Зерновы, забежав вперед, связали себя обещанием ввести его в состав кружка. Его мы уже приглашали на т. наз. открытые собрания — и никому он не нравился, но Зерновы ему покровительствовали, и это создало такую обстановку, что не принять его было уже нельзя. Позднее сами Зерновы (уже будучи в Париже) разорвали связь с Лопухиным, который вообще погубил кружок в Белграде, когда Зерновы покинули его.
Зимой (январь) 1923 года митрополит Антоний посетил кружок. Здесь был очень мучительный и трудный вопрос о встрече моей с митрополитом Антонием. Я хотел, было, уклониться от этого, но митрополит Антоний, уже наслышавшийся о моей работе с молодежью, настоял, чтобы я присутствовал на собрании. Перед собранием (за день) он встретил меня в церкви, благословил, облобызал. На собрании был вообще исключительно внимателен ко мне. С тех пор у меня с митр. Антонием навсегда уже утвердились добрые отношения.
11
Что особенно было замечательно в белградском кружке, это обилие ярких, сильных, самостоятельно пришедших в Церковь людей, особенно женщин. Соня и Маня Зерновы, Веригина, Лерочка Губанова, Ася Оболенская — называю самых замечательных (было много еще). Замечательны были их твердость в верности Православию, глубокое ощущение (это, конечно, была интуиция, дар свыше — знаний о Православии еще не было) правды и полноты Православия, могущего осветить и освятить всю жизнь, все вопросы личной и общественной жизни.
Замечателен был яркий, вдохновенный, миссионерский дух: наши члены не просто исповедовали лично веру во Христа, но с силой и вдохновением всюду говорили о Христе Спасителе, о Церкви.
Кружок привлекал к себе все чистые сердца, все талантливые натуры — и сам горел ярким пламенем, которое передавалось от одного к другому.
В феврале 1923 г. меня стали звать в Прагу в предположенный к открытию Русский Педагогический Институт. Это было связано с моей многолетней работой по вопросам психологии, педагогики, — я не мог поэтому отказаться. Расставаться с кружком, который стал моей семьей, было прямо мучительно — и если бы все члены кружка настойчиво просили не уезжать (как на этом настаивала пылкая Анна Николаевна Гиппиус), я, вероятно, все же не покинул бы Белграда. Но кружок сам настолько уже вырос, что особой нужды во мне (как то было в прошлом году) уже не было, я это чувствовал и согласился на перевод в Прагу. Но Белград навсегда определил для меня путь церковной работы с молодежью, дал мне основной материал для уяснения того, как должна складываться эта работа.
Оценивая теперь, через 30 лет, все то, что я сам переживал в работе с кружком в Белграде, что я находил у его участников, я больше всего ценю его горячее религиозное одушевление, которое создавало миссионерский пыл, глубокий и серьезный интерес к изучению Православия. В этом горячем одушевлении была не только чисто эмоциональная отданность вере, но было
12
также и определенное убеждение в том, что Православие таит в себе ключ к разрешению всех вопросов личной и исторической жизни. Все еще глубоко жили страшной русской трагедией, живо чувствовали тоску по России, — ив религиозном одушевлении искали разгадки русской трагедии. Даже не зная всех исканий русской интеллигенции в прошлом, они несли в Церковь все свои думы и мечты — и если это вытекало из юношеского идеализма, то все же это было сознательное и безоглядочное возвращение в Церковь. Эта молодежь как бы осуществляла в себе лично и в своих замыслах то, о чем писали и думали предыдущие поколения.
Прага (1923-1926).
Переезд мой в Прагу состоялся в марте месяце, но уже в конце апреля мне удалось вернуться на неделю в Белград. Связано это было с нашим Движением, и об этом нужно рассказать.
Недели за две до Пасхи я получил сообщение из Белграда, что наш кружок получил из Женевы приглашение принять участие в съезде так наз. «Юго-Восточной Европы», организуемом Всемирной Студенческой Христианской Федерацией. При этом нам сообщали, что будут русские студенты из Христианского кружка в Праге, будет А. И. Никитин. * Меня запросили из Белграда, как быть? Я отвечал, что ехать следует (съезд был под Будапештом), что я сам готов поехать тоже, что очень прошу до моего приезда никаких выступлений не делать. Белградский кружок делегировал С. С. Безобразова (ныне еп. Кассиан), бывшего уже больше полугода членом белградского кружка, и С. М. Зернову. Я приехал на второй день или третий день Пасхи, нашел там типичную для Федерации конференцию с библейскими этюдами, молчаливой молитвой, докладами и
* Из Софии был также А. И. Чекан, очень скоро все же примкнувший к белградской группе (ныне прот. в кафедральном Соборе в Париже).
13
дискуссиями. Во главе съезда стоял Henriod, который принял нас, русских, исключительно тепло и даже предупредительно. С особой внимательностью, я бы сказал, зазывающей нежностью, отнесся он к нам, приехавшим из Белграда— видно, ему говорили уже о строгой церковности белградского кружка, его настороженном отношении к встрече с протестантами. И в частных беседах, и особенно в заключительном собрании Henriod все время подчеркивал, что участие во Всемирной Христианской Студенческой Федерации вовсе не означает отхода от своей Церкви, а наоборот, ведет к более тесному и живому участию в ней. Эти заявления внешне нас удовлетворяли, но внутренно мы сознавали себя чуждыми всему этому течению. С особенной силой это сказалось в нашей встрече с русскими студентами из Праги.
Это были члены кружка, руководимого (ныне покой ной) М. Л. Бреше (которая тоже была на съезде). Кружок пражский возник, таким образом, в недрах Федерации (М. Л. Бреше была членом Федерации, а финансовую поддержку кружок получал от Д. И. Лаури, т. е. от русской секции американской YMCA — и основной формой его работы был, собственно, чисто «библейский кружок»).
Члены кружка изучали Св. Писание, т. е. читали и толковали его, отчасти руководясь некоторыми руководствами, изданными Федерацией, отчасти по собственному разумению.
Мы были поражены тем, что русским православным студентам даже в голову не приходило заглянуть в те толкования, которые были составлены св. отцами, и всем нам была ясна опасность духовного снижения до плоского рационализма при таком подходе к Св. Писанию. Самый метод — ставить на первый план тексты Св. Писания в собственном истолковании — до такой степени, так явно был связан с традициями протестантизма, что это одно уже настораживало нас. С первого же дня началась наша «борьба» с представителями пражского кружка, к чести которых надо сказать, что они очень скоро и без особого сопротивления сдались
14
нам в плен (кроме, конечно, М. Л. Бреше — см. дальше о ее выступлениях в Nyborg strand, а также и А. И. Никитина). Уже сдавшись нам в плен и с увлечением слушая речи наших делегатов, они сами стали рассказывать такие подробности о своих собраниях, которые показались нам не только страшными, но и прямо возмутительными. Так, выяснилось, что на собраниях кружка, в Праге нельзя было повесить иконы — ввиду того, что люди неверующие «могли бы тоже придти на собрание, а иконы будто бы могли их соблазнить». Все это было так странно, так неверно, так было далеко от той преданности Церкви, которая господствовала в белградском кружке, что пропасть между нами была явно непроходимой. Русские студенты (Хирьяков, Бобровников, Костенецкий) были нам близки и симпатичны, но направление, какое принял их кружок в Праге, было решительно неприемлемо для нас. И то, что наша маленькая группа «победила» не только русских студентов из Праги, но и завоевала общие симпатии на съезде, служило для нас как бы внешним признаком того, что борьба за торжество Православия не безнадежна, — и это, конечно, лишь увеличивало пыл нашей белградской группы. У нас, русских, было несколько своих собраний (т. е. общих у белградцев с пражанами, а также при участии делегатов конференции от других стран, говоривших по-русски), и на этих собраниях с какой-то небывалой силой, я сказал бы, огненностью и глубиной проявился церковный дух белградского кружка. «Белград» не просто «победил» другие кружки, но он как-то засиял перед ними. Я живо помню ту особую почтительность, доходившую до какой-то влюбленности, которую проявляли в отношении к нам, белградцам, студенты из Праги. Белградский кружок вдруг стал чрезвычайно авторитетным, стал как бы мерилом церковности — и эта традиция распространилась (после съезда в Пшерове) на все русские кружки. Это особое значение кружка в Белграде в глазах других кружков не было очень длительным — после 1924-27 года особая авторитетность и значительность кружка в Белграде стала падать.
15
После съезда под Будапештом я заехал на несколько дней в Белград, где в кружке были обсуждены доклады делегатов. Их сообщение о впечатлениях от съезда под Будапештом было принято не без холодка — во всяком случае линия строгой церковности в работе кружка обозначилась еще более ясно после встречи с пражскими студентами и с представителями Всемирной Студенческой Федерации.
В Праге я раза два-три был на собраниях христианского кружка (так наз. «Алешовского» — по названию улицы, где находилось помещение кружка). Я ближе узнал Л. Н. Липеровского и его жену, М. Л. Бреше, студентов, — но особого сближения с деятелями кружка не было. В мае месяце 1923 г. в Прагу приехал о. С. Булгаков, с которым меня связывала старая дружба. Вокруг о. Сергия стало группироваться немало молодежи, преданной Церкви, и в связи с этим и у о. Сергия, и у меня возникли планы о создании в Праге православного кружка молодежи, подобного тому, который существовал в Белграде. Я не раз рассказывал о. Сергию и нескольким еще лицам (сестрам Рейтлингер, Г. Н. Шумкину, А. Н. Кубареву и другим) о кружке в Белграде и настойчиво выражал свое желание устроить такой же православный кружок и в Праге. Надо заметить, что в Праге в течение целого года очень успешно работал по собиранию ищущей молодежи Л. Н. Липеровский, который вместе с А. И. Никитиным входил в «Комитет содействия русским религиозным кружкам». Липеровский работал вместе с Д. И. Лаури, который был тогда директором Студенческого Дома в Праге, и с М. Л. Бреше. Изредка Л. Н. заходил и ко мне, но тогда мы оба относились друг к другу очень сдержанно, во всяком случае я видел тогда в Л. Н. проводника «интерконфессионального» метода религиозной работы, тем более мне неприятного, чем более искренней религиозности и миссионерского таланта находил я в нем. У Д. И. Лаури секретарем служил В. С. Слепян, который вел социальную и отчасти религиозную работу среди русской студенческой молодежи в Праге, Брно и Братиславе, а также и в Пшибраме, где в Горной Академии
16
было несколько русских студентов. (Слепян был позже секретарем РСХД в Берлине. В 1946 г. был арестован Советами; по-видимому, он погиб в Сибири).
Пражский кружок М. Л. Бреше и Л. Н. Липеровского имел уже свой первый съезд летом в 1922 г., и естественно, что на лето 1923 г. тоже намечался съезд, который был намечен на середину июля в Штернберге (близ Праги). В связи с тем сдвигом, который уже наметился на съезде под Будапештом, этот съезд было решено создать по возможности ближе к «церковному» типу съезда. Всего на съезде было до 70 человек (считая гостей из Белграда, — откуда приехали Н. Н. Афанасьев и А. В. Оболенская, — из Парижа, откуда приехала М. Н. Андрусова, — из Софии, Брно и Берлина). На съезд были приглашены от профессоров о. С. Булгаков, П. И. Новгородцев, П. Б. Струве и я.
Прежде рассказа о самой конференции, упомяну о моей поездке в июне месяце 1923 года в Париж с обеими сестрами Зерновыми. Парижский кружок, возникший по инициативе члена Французской Студенческой Христианской Федерации A. А. Мироглио и знавший А. И. Никитина, который посетил кружок весной 1923 г., вступил со мной в переписку, приглашая меня приехать в Париж для прочтения ряда лекций в Париже. Деньги на поездку мне давал А. И. Никитин (из средств упомянутого комитета), он готов был субсидировать поездку еще кого-либо из состава кружка в Белграде. Я выбрал С. М. Зернову, уже имевшую опыт по съезду под Будапештом; прибавив к средствам, данным мне А. И. Никитиным, некоторую сумму от себя, я смог взять с собой и сестру С. М. — М. М. Зернову. Мы пробыли вместе в Париже целую неделю, и за это время состоялось, кажется, 4 собрания парижского кружка, а также имелось много отдельных бесед. Уже тогда было ясно, что в Париже может образоваться сильное христианское Движение. Из наиболее видных участников парижского кружка того времени надо назвать М. В. Лаврову, М. Н. Андрусову, В. В. Петрова, П. Е. Ковалевского.
Возвращаюсь к съезду в Штернберге. Перед началом съезда о. С. Булгаковым был отслужен молебен, а затем
17
начались занятия съезда. По утрам были «библейские» этюды с разного рода «поучительными» беседами. На съезде присутствовал и только что выехавший из Москвы В. Ф. Марцинковский, который оставил у меня, да и у всех, тяготевших к православной форме Движения, очень тягостное и неприятное впечатление своей придирчивой и настойчивой критикой Православной Церкви (не случайно он примкнул потом к баптистам).
Не буду говорить о докладах, записи о них имеются в «Духовном Мире Студенчества» (журнал, издававшийся Л. Н. Липеровским, № 2), но отмечу, что съезд проходил под знаком все более обострявшегося расхождения между «белградским» и «пражским» направлением. Вокруг белградцев собралась довольно большая группа молодежи (до 15 человек), которая настойчиво проводила ту мысль, что все русские кружки должны решительно порвать связь с интерконфессиональной традицией и строить свою работу по типу той, которая велась в Белграде. Эта группа несколько раз устраивала особые свои собрания, что возбудило чрезвычайное напряжение у остальных членов съезда. Между тем это было естественно: как же иначе было разрушить уже окрепшую традицию интерконфессиональных кружков? Атмосфера борьбы всегда неприятна — особенно когда одна сторона наружно готова на компромиссы, не уступая по существу, но маскируя свою неуступчивость внешними переменами. Съезд в Штернберге лишь продолжил то, что началось под Будапештом. Он подчеркнул внутреннюю ценность белградской позиции, ее религиозную значительность, — и, с другой стороны, выявил бедность и узость позиции пражан. «Победа» Белграда здесь стала еще крепче, но главный эпизод всей этой борьбы за Православие должен был разыграться позже. [1 стр. рукописи утеряна] «номинализма» в среде православных. В чистой «номинальности» принадлежности к церкви, в отсутствии четкой личной преданности Господу Иисусу Христу Марцинковский видел главную духовную причину того, что безбожие так легко овладело Россией. Все это звучало презрением к Церкви, непониманием ее значения для русской
18
души. Правда, бывшая в сообщениях Марцинковского, так невыносимо обрастала клеветой на духовенство и церковный народ, что его речи окончательно отвратили всех, у кого не ослабела связь с Церковью, от группы «интерконфессионалов». Все это создавало внутреннее напряжение в кружках Праги — а между тем срок, определенный Никитиным и его сотрудниками для первого общеэмигрантского съезда представителей русских религиозных кружков, надвигался. В начале августа в Прагу приехал Никитин для работы в организационном комитете. На некоторые заседания приглашали и меня — в этих заседаниях принимали обычно участие Никитин, Липеровский, Бобровников, Хирьяков, Лаури, П. Т. Лютов и еще несколько человек (не помню точно кто). На одном из первых же заседаний у меня разыгрался с комитетом конфликт, имевший несомненное симптоматическое значение для будущего русского Движения, Обсуждалась программа дня на будущем съезде — причем на каждый день молитвенная часть слагалась из чтения Евангелия и некоторого meditation — точнее говоря — проповеди на тему Евангелия. Хотя церковные молитвы и предполагались в начале и конце съезда, но в промежуточные дни церковных богослужений не предполагалось. Я предложил устроить ежедневно литургию, молитвенное и вдохновляющее действие которой, конечно, не может быть сравниваемо с проповедью молодого человека. Мое предложение было категорически отвергнуто, опять же во имя интерконфессионального метода. Этим настойчивым подчеркиванием основного значения в постановке религиозной работы именно интерконфессионального метода, он, силой вещей, скажу еще, тупым пристрастием к нему его руководителей, становился главной темой для предстоящего съезда. После отказа иметь ежедневные литургии со стороны Организационного Комитета, я имел совещание с о. С. Булгаковым, и оба мы пришли к решению, что в данном пункте мы уступить не можем, — и на следующем заседании Организационного Комитета я от имени о. Сергия и своего заявил, что мы отказываемся от участия в съезде.
19
В связи с тем, что белградская группа, часть пражской и парижской были определенно уже с нами (о. С. и мной), наш отказ грозил срывом самого съезда — и тогда комитет предложил нам такой компромисс: если найдутся 5-6 желающих иметь утром литургии, «допустить» их до начала дневного порядка (день должен был начинаться в 8 час утра, время для литургии отводилось на 6:/2 час, утра). Мы с о. Сергием пошли на этот компромисс, уверенные, что литургии соберут достаточно народа, но я лично все же отказался, ввиду общей интерконфессиональной тенденции Организационного Комитета, быть председателем первого съезда (как это намечалось комитетом): председателем съезда стал А. И. Никитин.
Из событий, предшествовавших съезду в Пшерове, запомнился мне еще один эпизод — характерная беседа с Д. И. Лаури. Он, кажется, субсидировал организационный комитет, во всяком случае стоял близко к созыву съезда. Будучи секретарем YMCA, он мыслил русские кружки (которые сам начал заводить — из его кружка вышли Ю. Г. Бобровский, Л. П. Филатов, Вася Кадьянов и др.) как «отдел» YMCA или Федерации. Когда я ему сказал однажды, что нужно будет на съезде выбрать «Бюро русских религиозных кружков» (что должно было означать возникновение самостоятельного русского Движения), он воспринял мою мысль, как фантазию, не имеющую никакой основы. Еще одно воспоминание должен здесь записать — мое предложение о. Сергию создать некоторое объединение профессоров, связанных с Церковью. Моя мысль заключалась в том, что возникновение религиозного Движения среди молодежи — возлагает чрезвычайную ответственность на нас, профессоров. Я видел уже в вопросе о допущении на съезде литургии, как важно пристально следить за всеми сторонами движения. На одной беседе в квартире о. С. Булгакова, где, кажется, присутствовал П. И. Новгородцев, было решено, что я должен быть проводником в студенческое Движение нашего профессорского влияния, но это как раз и предполагало, что мы, профессора, будем сами между собой обсуждать разные вопросы,
20
связанные со студенческим Движением. Чтобы договорить на эту тему, скажу здесь же, что на съезде в Пшерове состоялось первое профессорское собрание (о. Сергий Булгаков, Новгородцев, Бердяев, Карташев и я), на котором, по предложению Карташева, было решено не создавать нового общества, а восстановить здесь, за границей, деятельность братства св. Софии, учрежденного в России в 1918 году и утвержденного патриархом Тихоном (из членов братства за границей были Карташев и Лосский). Собрание приняло предложение Карташева, мы признали себя отделением Всероссийского Братства во имя св. Софии; председателем был избран о. С. Булгаков, я — секретарем, в члены братства включались еще Г. Трубецкой, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский, Г. В. Вернадский, П. А. Остроухое, П. Б. Струве — очень острым был вопрос о Л. П. Карсавине, которого так и не пригласили в состав братства (как и И. А. Ильина). Так возникло наше братство, о котором впервые евразийцы пустили дурные слухи (письмо Н. С. Трубецкого П. Н. Савицкому с разными нелепыми обвинениями против нас). Устав поручили выработать А. В. Карташеву, совместно с Г. Е. Трубецким — всю эту историю, чреватую тяжкими церковными событиями, не буду здесь рассказывать.
Пшеровский съезд (1-7 октября 1923 г.)
Мы выехали из Праги около 3 час. дня — уже съехалось много молодежи из Белграда (Соня и Коля Зерновы, Ася Оболенская и др.), из Парижа-(Милица Лаврова), из Софии (А. И. Чекан, Никитин, кажется, Владимирский), из Берлина (Пьянов-, [пропуск] Кульман), из Латвии (Литвин, Истомина), из Эстонии Анна Федоровна Шмидт (потом жена о. Г. Шумкина), Т. Е. Дезен, но главное большинство было из Праги. Всего съехалось 33 делегата молодежи. Из старших приехали о. Сергий Булгаков, Новгородцев, Карташев, Бердяев и я; из иностранцев — мисс Rous, Холлингер, Кульман, Лаури. Был также Л. Н. Липеровский, Л. А. Зандер (приехавший в Прагу с Дальнего Востока летом). От станции
21
железной дороги все пошли пешком: был прекрасный день, идти нужно было проселочной дорогой. Наша вся компания растянулась, вероятно, на полверсты — шли группами, знакомясь друг с другом.
В замок пришли около 4 ½-5 час. и стали размещаться. Замок представлял собой сочетание двух зданий под углом. Направо, внизу, был огромный зал, который был отведен под заседания, в углу отвели место для церкви. Дальше внизу шла столовая, наверху спали мужчины. В левом здании расположились женщины. Позади замка шел огромный парк, опускавшийся уступами.
Вечером предстоял молебен, а утром на другой день литургия — поэтому нужно было приготовить место для церкви.
Тут начались странности — какие-то мистические преграды для церковных служб. Началось с того, что священные сосуды, привезенные о. Сергием, нельзя было вынуть из ящика, т. к. о. Сергий забыл ключи, пришлось искать плотника, а за отсутствием его — молоток и т. п. Затем Ал. Ал. Петров (ныне игумен Афанасий), который знал пение (он был псаломщиком у епископа Сергия) и должен был «изображать» (в единственном числе, как нам казалось) «хор», сел в шезлонг, в котором разорвалась материя, и, упав, он так больно ударился кончиком спинного хребта, что потерял сознание. Слава Богу, через 1/2 часа он оправился.
Юлия Рейтлингер, которая должна была приготовить алтарь (ибо для литургии все надо было приготовить с вечера), приехала с тяжкой мигренью и не могла взяться за работу (ее потом заменила Ася Оболенская).
Мы сидели в зале с Новгородцевым и переживали это «мистическое противление» всей обстановки церковным службам с грустным, болезненным чувством, особенно я, но Новгородцев утешал меня, говоря, что все в конце концов наладится. Слава Богу, так и вышло.
Вот настало время молебна. Алтарь оказался уже отделенным простынями от остального зала, престол уже покрыт полотенцами, на него были положены Евангелие и крест. На простынях висели иконы. Стали
22
зажигать лампады, и на наших глазах в углу засветилась наша церковка. У икон стали зажигать свечи — да в таком количестве, что для них уже не было места. Образовался неожиданно и хор. Вот вышел в облачении о. Сергий и начал свое слово — полное силы, вдохновения, призывных молитв. Словно электрический ток пробежал по всем — и когда начался молебен, многие становились на колени. В зале было уже темновато, но тем свободнее, горячее молились. Уж в этот вечер вдруг все почувствовали, что все мы церковные люди, что Церковь есть наша опора и радость, что здесь мы будем искать для себя вдохновения и указаний... После молебна о. Сергий объявил, что литургия начнется (часы) в 6 час., и это было не приказание, а приглашение, которое было принято всеми (вопреки уверениям Никитина и др.) как абсолютно естественная вещь. Вечер прошел во взаимном знакомстве, и на другой день к литургии собрались решительно все. Так началась и с этого времени навсегда утвердилась та особенность русского Движения, что оно является литургическим, т. е. что каждое утро служится литургия, в которой члены собрания находят молитвенную помощь и которая дает основной тон всему дню. Самое сочетание в одном дне двух служб (литургии, а вечером вечерни с утреней — последнее было сверх программы, но без позволения руководителей вошло в состав дня), доклады и прения, еда и прогулки — все это было слито, спаяно чем-то общим; основой дня все же оставалась Церковь, которая как бы доминировала над всем.
С утра на следующий день, после литургии и «медитации» (они продолжались 4 дня, явно ненужные и постепенно отмершие) начались доклады и прения. Не помню подробностей, отмечу лишь сообщения Карташева, о. С. Булгакова и Бердяева.
Доклад Бердяева, в некотором смысле, был основополагающим, т. к. в нем была до исключительной очевидности показана неправда и ослабляющая сила «интерконфессионального» метода. Как всегда у Бердяева — новых мыслей не было — он сказал то, что думали и чувствовали многие, но он придал такую
23
яркую и даже блестящую форму этим мыслям, что противиться им было невозможно. Никитин и Марцинковский как-то еще пробовали защищать интерконфессиональный метод, но безуспешно. Помню, что Никитин еще многие годы после Пшерова, отмеченного таким сиянием для всех, вспоминал о нем с горечью и болью. Думаю, что это зависело от боли, нанесенной Бердяевым его основному тогда убеждению (что интерконфессиональный метод будто бы стоит выше церковности). Бердяев чрезвычайно просто и ясно показал, что при интерконфессионализме встреча христиан идет по линии минимализма, т. е. снижения нашего церковного сознания до минимума. В речи Бердяева интерконфессиональный метод был отвергнут нашим Движением — и главная, освященная традицией в мировой Студенческой Христианской Федерации преграда для нашего Движения выйти на путь церковности отпала. Этот доклад, вместе с господствующей напряженностью церковного настроения на съезде, произвел тяжелое и глубокое впечатление на инославных друзей, которые собрались после него для обмена мыслями. Потом Холлингер, Rous, Кульман просили о. Сергия и меня для особого разговора и поставили вопрос — оставаться ли им среди нас ввиду ярко выраженного церковного характера, какой обнаружился в объединении русских кружков. Этот вопрос, вероятно, заключал в себе разочарование (со стороны таких правоверных защитников интерконфессионализма, как Rous, хотя, впрочем, последняя, когда оставила работу в Федерации, тоже перешла на церковную работу, вступив в деятели объединения протестантских миссионерских обществ). Со стороны Холлингера, Кульмана — это было, наверное, выражением их деликатности: как представители междухристианской организации (YMCA), они считали, что не должны вмешиваться в те дела, которые ведутся Православной Церковью непосредственно. Этим объяснялась тема нашей беседы. Мы оба — о. Сергий и я,— не сговариваясь заранее, стали на точку зрения, которая впоследствии получила наименование «экуменической». Мы указали, что всячески
24
стремясь углубить и укрепить церковный характер в религиозной работе с молодежью, мы вовсе не хотим поворачиваться спиной к братьям — западным христианам, а наоборот, хотим сотрудничать с ними, хотим учиться у них их большому опыту христианской, социальной и педагогической работы. Наш ответ успокоил наших друзей, но нотка осторожности, некоего боязливого недоумения, некоторого торопливого согласия «заранее» на все, что захочет Русское Движение, осталась у руководителей YMCA и Федерации до сих пор — для них встреча с русскими до сих пор является дверью к пониманию Православия, великого, но непонятного им. Не следует забывать (это очень хорошо выразил американский богослов Морисон в статьях после Оксфордского съезда 1937 г. в журнале «Christian Century»), что понятие о Церкви у протестантов бедное и узкое: для них Церковь в плане историческом не заключает в себе ничего мистического, никакой объективной трансцендентной реальности. Поэтому эта сила и яркость прикосновения к запредельной реальности, какие отличают наше православное благочестие, их поражала, умиляла, привлекала (вся история духовного перелома у Г. Г. Кульмана выросла из этого).
Если доклад Бердяева был решающим в смысле отхода от традиционной интерконфессиональной системы работы в Федерации, то доклады Карташева и Булгакова вводили в проблемы Православия по существу. Помню, что после доклада Булгакова, который зачаровал аудиторию так, что она словно не в силах была придти в себя и молчала, — встал Карташев и сказал молодежи, взяв слова Спасителя к самарянке: «Если бы ты знала, кто перед тобой». Личность о. Сергия, его личная страстная молитвенность (на всех глубоко действовало его служение, мне, впрочем, слегка тяжелое по напряженной страстности), его глубокие проповеди и какая-то тайна мысли, отпечатлевшаяся в его задумчивом выражении лица — все это заранее как бы отдавало молодежь в рабство о. Сергию, который предстоял перед всеми, как некая вершина мудрости, правды и отрешенности от грязи и суеты в самом Православии.
25
Слова Карташева верно отразили то, что сам он думал об этой почти провиденциальной встрече одного из самых ярких и замечательных русских людей, отдавших весь свой талант и силу и жизнь Церкви, — с новой молодежью, в оцерковлении которой для нас, старших, открывалась надежда на воскресение России.
Доклад Карташева поразил другим. Он говорил о назревшей необходимости организации церковных сил, о выявлении полноты и богатства Православия в жизни. Всем известно «магическое» красноречие Карташева, обаянию которого поддаются все, и старые и молодые. Но здесь, на фоне все более раскрывающегося богатства Православия,— эта задача, которую он ставил — «нести всему миру икону Православия», — казалась не только сияющей, как бы свыше намеченной для русских людей, но и непосильной. Вообще Пшеров был для молодежи откровением о Православии, о Церкви; это откровение окрыляло, раскрепощало в глубине души то, что таилось там, заставляло звучать эти новые струны, вдохновляло сладостным призывом, но и доводило души до изнеможения, сладостного по своей мистической полноте, — но и мучительного по своей непосильности. Душа загоралась, но и как бы тут же сгорала; все, что рассеивалось в дневной суете, за ночь вновь собиралось в душах, которые со дня на день становились все более насыщенными. Недаром к концу съезда у многих было чувство «хорошо, что съезд кончается, ибо душа не может больше выдержать такое напряжение». Речь Карташева потрясла не тем, что говорила о полноте Православия, а тем творческим призывом, который звучал в ней. Для нас, старших, было только чуждо сильное звучание католических образов (Карташев говорил, например, о возможности появления «орденов» в Православии и т. п.), но и нас она волновала. После речи Карташева, во время перерыва, я подошел к нему и, не говоря ни слова, поцеловал его — так сам я был счастлив, слушая его речь. Мне рассказывал потом Хирьяков, что кто-то подошел к нему и сказал: «Смотри, Зеньковский целуется с Карташевым», — на что Хирьяков, сам взволнованный,
26
ответил: «Подожди, через день-два мы все будем целовать друг друга».
Эти слова оказались вещими.
Прежде чем подойти к описанию двух последних дней, имевших какой-то солнечный, можно сказать, ослепительно сияющий характер, — хочу сказать пару слов об участии высшей иерархии на съезде 1923 г. Это было время номинального примата православной чешской архиепископии; архиепископом был арх. Савватий. Он чувствовал себя чужим среди русской публики, побаивался ее, на съезд приезжал всего на один день, дал благословение, ничего не сказал и уехал. Наш русский епископ в Праге, еп. Сергий, пробыл, кажется, два дня, тоже ничего не говорил, но, с присущей ему любовью, много общался с молодежью. Что касается еп. Вениамина, который был викарием арх. Савватия в Прикарпатской Руси, то он приехал, кажется, на 4-ый день, войдя — начал с довольно сердитого наставления о том, что Движение не должно ставить себе никаких миссионерских целей, т. к. само ничего не знает о Православии, — однако, через день уже, после общения с молодежью — его настроение совершенно переменилось. Епископу Вениамину, как известно, присущ редкий дар общения — с ним все сходятся просто и без затруднений. На съезде он был вечно окружен молодежью, без конца рассказывал о русских монастырях и подвижниках. Рассказывал он, увлекаясь сам и зажигая этим увлечением молодежь. Карташев удачно охарактеризовал его речи, как «живое Добротолюбие». Это, действительно, была как бы хрестоматия, вроде книги Поселянина — в этих рассказах перед очами молодежи раскрывался богатый, не знающий границ мир внутренней жизни, духовного делания. Часто уже вечером, смотришь — сидит где-то в уголке еп. Вениамин, а вокруг него масса молодежи мужской и женской, все слушают его с таким трогательным вниманием, с такой сосредоточенностью на лице, точно они молятся, точно уходят всей душой в мир внутренней жизни. Это не были лекции — это было свидетельство человека, часто лично видевшего тех, о ком он говорил (например, об о. Иоанне Крон-
27
штадтском). Если прибавить к этому, что еп. Вениамин, кроме дня, когда он сам служил, участвовал в церковном хоре и своим уверенным и звучным тенором вел хор, то не будет преувеличением сказать, что в последние дни он стал как бы душой съезда. Неверным в этом выражении будет только то, что съезд имел еще другие свои живые центры, вокруг которых кристаллизовалась жизнь съезда — имел и свой надличный центр, могуче и неотразимо приковавший к себе души — Церковь и богослужение. Я совершенно точно могу сказать, что для целого ряда лиц, помимо общего, потрясающего откровения о полноте, силе и богатстве Православия, сами богослужения, при четком и ясном чтении и пении разных частей его, впервые открывались и в своем содержании, и в своем мистическом смысле. Подошла суббота — предпоследний день. Духовное состояние съезда, если бы можно было сюда применить эти образы, достигло такой температуры, что дальше, казалось, некуда было идти. За предыдущие дни прошли в душах такие глубокие, существенные сдвиги, которые в других условиях надо считать просто немыслимыми. Я сам был свидетелем того, как не в одной душе таяло все, что стесняло, угнетало внутреннюю религиозную жизнь. Вот пример — одна девушка, вышедшая скоро замуж за одного из лучших моих друзей-учеников, уже на третий день простаивала богослужения почти в непрерывных слезах. Я ничего не говорил ей, она и не замечала того, что я ее вижу (я стоял сзади), я потом узнал, что она 15 лет не говела, хотя и хотела говеть, но ложный стыд ей мешал. Это возрождение души, это раскрытие ее недр производило на меня самого чрезвычайное впечатление — я и тогда и после говорил сам себе, что тем, что съезд помог хотя бы одной душе вернуться прямо и просто к Богу, — он навеки оправдан. Но такие же или аналогичные процессы происходили еще у многих. Без труда, без усилий души отдавали себя Церкви, как бы безмолвно давали Богу обет служить Ему всей душой. Эти процессы, естественно, сопровождались волнением в глубине души, — и электрическим током волнение одних пере-
28
давалось другим. Казалось, что благодатное осенение душ уже достигло своего предела, что дальше уже никуда и не следует идти, чтобы не дать разболтаться этому священному одушевлению, этому религиозному огню, который пылал в душах с исключительной, дотоле незнакомой им силой... Но вот окончились дискуссии, путь Движения определился, я был выбран председателем Движения, Липеровский его секретарем, было выбрано бюро из представителей всех стран. Деловая и идеологическая часть съезда была окончена, но нас ждало еще его мистическое увенчание. Его предчувствовали, к нему нас подготовляли, но никто не мог представить себе того, что было в действительности.
В субботу вечером, после всенощной, о. С. Булгаков попробовал устроить общую исповедь. Это было глубоко и сильно, он после общих молитв перед исповедью просил всех каяться по тем указаниям о грехах, которые он будет делать. В зале было полутемно, горели лампадки, немного свечей перед иконами — а вся огромная зала уже было в полумраке. Разбросанно, каждый как бы войдя во внутреннюю клеть, часто стоя на коленях, слушали слова священника — «каюсь в том, что недостаточно любил Господа нашего Иисуса Христа» и другие слова, и в ответ слышался шепот «каюсь». Каждый испытывал себя. После общего отпуста грехов началась дополнительная индивидуальная исповедь, продолжавшаяся приблизительно с 9 час. вечера до 4 час. утра. Незабываемая ночь, непостижимая тайна и радость исповеди, когда шепотом говорились слова покаяния и шепотом священник делал свои указания. К индивидуальной исповеди шли буквально все — и это братство в покаянии, эти коленопреклоненные фигуры, в безмолвии, в темноте искавшие у Бога ключа к новой жизни, далекий, неразличимый шепот исповедника и священника — это была огненная, живая и палящая сила, которая свыше, благодатным озарением освящала душу, укрепляла, утешала, вдохновляла и звала. Нельзя забыть эту ночь... Многие, уже после исповеди, долгое время еще молились. Я и теперь не могу без
29
волнения вспоминать эту ночь, которая мне кажется чудом, как бы видением того, что должно делаться в юной душе. Спали все очень мало. Хотя литургия в воскресенье (заключительная) была назначена на 8 час., но все так привыкли вставать в 6 час., что встали в то же время и в воскресенье. Уже с вечера, когда вообще и деловая часть кончилась, и мысли всех устремились к Церкви, барышни стали убирать, чистить зал, где была церковь, нанесли много зелени, цветов. Утром собрали поздние осенние цветы, все убрали, церковь и зал стали неузнаваемыми, словно все готовились к браку. Это и была Кана Галилейская или наша Пятидесятница... Как описать литургию, это особое, торжественное, почти жуткое ожидание св. Причастия? Когда пришел его момент — казалось — что душа больше не выдержит, что она разорвется в слезах, что нужно как-то выразить внешне, что скоплялось в душе всю неделю. После св. Причастия и юноши, и девушки стали, поздравляя друг друга, — целовать друг друга, и в этом было что-то от св. Пасхи. Оттого так и естественно родилось пение пасхального канона и песни «Воскресение Христово видевше». Казалось, что все точно во сне, что это не наяву. Возбуждение, которое накоплялось так долго и достигло своего мистического завершения в исповеди и св. Причастии, теперь рвалось наружу. У всех было чувство свыше пришедшего обновления, если угодно — рождения в новую жизнь — притом дающего и новые задачи и новые силы. Все значение ПШЕРОВА в истории Движения тем именно определилось, что в переживании восторга и радости не было ничего чисто психологического, а наоборот, был действительно духовный подъем, как бы временное преображение. Не только все участники съезда — старшие и младшие стали братьями и сестрами, не только взаимные отношения вдруг стали легкими, радостными, дорогими, но именно это сознание какой-то свыше данной благодатной радости, Богом завещанного в ней задания определило преданность Движению. Пшеров стал священным знаменем Движения, а не только сладостным воспоминанием, с Пшеровом связана в
30
Движении его чистая и беспредельная преданность Церкви, его безмолвно, но твердо данное обещание отдать свою жизнь на службу Церкви. Как в акте венчания душевная связь двух людей в любви не только свидетельствуется перед Церковью и благословляется, но объективно сама становится малой Церковью — так в Пшерове исчезла тема «Мы и Церковь», и взамен ее родилось сознание, радостное и ответственное, «Мы в Церкви», мы прикоснулись к ее тайне, мы вобрали в себя эту тайну, мы обещались, мы хотим нести миру эту тайну о Церкви, это благовестив о ее силе и полноте, о ее жизни и радости. В Пшерове мы все как бы духовно рождались — это странное и, вероятно, неточное выражение все же дает намек и на то глубокое потрясение, которое пережили все, на тот перелом, который увел всех на новый путь жизни, и которое, вместе с тем, было не внешним обязательством, а горело в душе огнем светлого, скрепляющего вдохновения.
Удивительный финал, истинное осияние свыше благодатию св. Духа. Считаю и себя, и всех тех, кто был на Пшеровском съезде, счастливыми, ибо его неописуемая радость не может быть повторена. Конечно, как показала дальнейшая жизнь Движения, всякий, кто глубоко и от всего сердца входил в Движение, — переживал «свой Пшеров», приобщался к той неугасимой, горящей лампаде, которую возжег в сердцах наших в Пшерове Господь, но завет Пшерова, его живая мелодия, его непоколебимая отданность Церкви в любви и радости, живет в сердцах именно тех, кто пережил Пшеров. Когда на втором съезде Движения (1924 г. в том же Пшерове), где половина участников состояла из лиц, бывших на первом Пшерове, захотели как бы искусственно, нарочито вызвать то же умиление сердца, то же горячее движение любви к Церкви, какими были наполнены сердца на первом Пшерове, т. е. захотели подражать первому Пшерову — эта затея, естественно, не удалась... После св. Причастия был чай, потом свободное время, когда возбужденно говорили, обмениваясь впечатлениями, — возбуждение это стало постепенно
31
мельчать, терять свою духовную сущность, подменяться больше душевным, чем духовным веселием.
Днем состоялись благодарственный молебен и заключительное собрание, после которого все двинулись в Прагу. Жалко было покидать место, где столько было пережито, не хотелось расставаться друг с другом, и мы решили в тот же день вечером пойти к о. Сергию Булгакову (который жил тогда в Deivice — в предместье Праги). Когда мы действительно встретились все у о. Сергия вечером, то только и говорили о том, что будем «делать». Это было так характерно и так отвечало тому, что скопилось в душе во время съезда... Соня Зернова, возвращаясь домой, завернула перед Белградом в Хоповский монастырь к игуменье Екатерине и о. Алексею Нелюбову (который был тогда духовником всех членов белградского кружка), чтобы рассказать о том, поистине чудесном, что зажгло и ее, уже до Пшерова пламеневшую миссионерским пылом.
Пшеров кончился, рождение русского Движения совершилось, и оно вступило в жизнь.
Итоги Пшеровского съезда.
Еще во время Пшеровского съезда (в предпоследний день) Холлингер и Кульман, уже зная, что я буду избран председателем Движения и руководителем его центрального органа, повели со мной «тайный» разговор о Марцинковском и Липеровском, как двух оплачиваемых Комитетом по русским делам (после оказалось — Всемирной Студенческой Хр. Федерацией в Женеве) секретарях. Их вопрос заключался в том, считаю ли я желательным, чтобы содержание М. и Л. шло через наше бюро или независимо от него. Оба прибавили, что в полное распоряжение бюро будут даны некоторые средства из Женевы на дальнейшее развитие русского Движения, но жалованье М. и Л., финансированное из Женевы (по 25 фунтов в месяц), не может быть изменено без Женевы. Я отнесся с чрезвычайной осторожностью к вопросу Холлингера и Кульмана и сказал, что я лично считаю более желательным, чтобы М. и Л. получали
32
деньги помимо нас. Мои мотивы были следующие: 1) Марцинковскому я не доверял и не считал возможным, чтобы он оставался секретарем русского зарубежного Движения (звания председателя Российского Движения мы не могли, конечно, отнять у него). 2) В Федерации Движение в России сохраняло свое членство, мы же, как зарубежное Движение, до тех пор, пока не определилась наша связь и наше отношение к Движению в России (Сов.), были для Женевского Центра «случайным» образованием, почему же нам нужно было иметь назначаемых Женевой секретарей?
Я вообще еще не утратил в 1923 г. моего прежнего сдержанного и даже недоверчивого отношения к Федерации — и поэтому считал более предпочтительным сотрудничество с Федерацией, но не более. Ведь от Федерации и во имя ее шла со стороны Никитина, Липеровского, Бреше упорная борьба за сохранение интерконфессионального метода в работе. Наш Пшеровский съезд категорически разорвал с этим методом, — а М., и даже Липеровский, будучи на службе Федерации, лишь мнили бы себя на нашей службе. И не мы их себе выбирали в секретари, а нам их дарили, т. е. навязывали. Поэтому, не отказываясь от сотрудничества с ними, я считал правильным, чтобы они оба оставались в прежнем положении и чтобы мы не были связаны обязательством в отношении Марцинковского и Липеровского. Этот порядок, т. е. что М. и Л. получали содержание помимо нас, сохранился, если не ошибаюсь, до 1926-27 года, после чего уже все секретари, выбранные съездом, получали деньги от нас (исключение составлял Ф. Т. Пьянов, но о его положении в Движении скажу дальше отдельно).
Недоверие со стороны русского Движения к услужливым дарам от Женевы было не у меня одного. Оно, к сожалению (не стыжусь это сказать), охватывало почти все русское Движение — и хотя я не разделял глупых подозрений, что мы находимся в сетях масонов, я должен был считаться с общим настроением. Я сознавал одно — мне надлежало помочь молодому и новому (в истории русской интеллигенции) течению — найти
33
свои формы, и если в этих исканиях нам может быть полезен заграничный христианский опыт, мы должны его использовать, но все же всегда держаться своего пути. Это было очень нелегко — собственно вполне «своим» был лишь белградский кружок, да в лице Кульмана, я сразу это чувствовал, мы обрели человека, желающего помочь русскому Движению найти свой особый путь — все же остальные (с исключением, пожалуй, и Холлингера), и особенно русские секретари (plus papistes que le pape), стремились непременно втиснуть нас в общие формы Федерации. К тому же в ряде мест у нас не было «своих» людей. Вот география Движения осенью 1923 г.: 1) Париж — находился под влиянием Федерации, через Мироглио. Однако в Пшерове парижане, особенно в связи с моей и сестер Зерновых поездкой летом 1923 г. в Париж, тянулись (но не больше) к Православию. 2) Берлин — царство YMCA с русским секретарем Ф. Т. Пьяновым. Берлин уже подпадал, благодаря Бердяеву, Франку и др., под влияние Православия (впервые определенно в Движении это сказалось на съезде 1924 г., куда пригласили еп. Вениамина), — но в 1923 г. это было место еще ненадежное. 3) Прага — с одной стороны определенный и яркий Православный кружок (во главе с Юлией Рейтлингер), а с другой стороны — Алешово с М. Л. Бреше во главе, с традиционным и закоренелым интерконфессиональным методом, за который все еще стояли многие из русской молодежи. 4) Белград — ярко и сплошь Православный кружок. 5) София — царство А. И. Никитина с интерконфессиональной идеологией. Однако Никитин, как самый чуткий из прежних деятелей, явно шел навстречу «оцерковлению» Движения, хотя разрыв в Пшерове с интерконфессиональным методом он пережил очень тяжело. 6) Прибалтика — пока царство YMCA, но с тяготением к Православию. В этих условиях мое решение относительно М. и Лип. мне и сейчас представляется верным.
Я должен тут же отметить, что очень долго мои отношения с Липеровским были трудными и натянутыми — окончательно стали хорошими лишь когда
34
мы прожили вместе в 1926 г. в одной комнате две недели в Нью-Йорке (на 125 ул.). Но осенью 1923-1924 г. было еще много тяжелого между нами. Так, после Пшеровского съезда, кто-то из членов Православного кружка предложил собраться на квартире Ю. Рейтлингер всем «стоящим за Православие» членам Пшеровского съезда. Об этом собрании стало известно Липеровскому, и он очень болезненно пережил то, что большое и оживленное собрание было без него. При первой же встрече со мной он горько жаловался мне, особенно нападая на меня самого, считая меня инициатором этого, как он говорил, «обособления», все говорил о том, что мы таким образом не объединяем, а разъединяем русское Движение. Липеровский долго не мог забыть этого эпизода, который положил тяжелую печать на наши личные отношения. Раз в 7-10 дней он приходил ко мне, мы с ним обсуждали разные дела, но оба мы чувствовали, что нарастает «двоевластие». Я, по старым навыкам русской работы, да отчасти и по дурной черте своего характера самому все делать, считал, что, став председателем Движения, я являюсь не только «почетным» главой его, но и его руководителем, его иерархическим возглавителем. Липеровский же, исходя из западной практики и считая себя «генеральным секретарем», а во мне видя нечто вроде «свадебного генерала» — для почета, хотел все держать в своих руках. Я вообще всегда считался с его мнениями и планами, но постепенно брал в свои руки все личные отношения. Не только Белград, отчасти Париж и Прага, но и Берлин считались со мной, вели со мной переписку. Настоящего «центрального органа» у нас поэтому не было, а было два центральных лица — я и Липеровский, каждый имел свои связи, друг друга осведомляя, конечно, обо всем. Меня это положение не тревожило, т. к. я сознавал, что не могу сразу взять все в свои руки — особенно те группы, которые были связаны с YMCA (Берлин, отчасти Прага), так как тут были налицо специальные иностранные секретари (Э. И. Макнотен, П. Ф. Андерсон, Г. Г. Кульман); с Федерацией и ее ставленниками — я чувствовал — легче установить пра-
35
вильные отношения. Всегда тактично и мирно, но настойчиво я связывал с собой все дела; Липеровский чувствовал, что центральное его значение все слабее, и это его и волновало и раздражало. Я часто чувствовал, что он смотрит на меня исподлобья. За осень Прага и ее окрестности быстро покрылись рядом кружков — все они были или православными, или «евангельско-православными» (напр., кружок Ю. П. Степанова в Горных Черновицах — тут изучали Евангелие, но руководствовались св. отцами при толковании его). На Рождестве кружки собрались в студенческом доме в Праге для общего праздника. Было шумно, весело, счастливо. Я должен тут же упомянуть, что, будучи председателем Движения, я чувствовал себя очень связанным и с профессорской группой — больше всего, конечно, с о. Сергием, который все больше (через Ю. Рейтлингер) входил в работу Православного кружка в Праге, ставшего в это время центральным для Праги. Ряд церковной молодежи (А. А. Петров, ныне игумен Афанасий, H. С. Седов, ныне о. Серафим, Г. Н. Шумкин, ныне о. Г. Шумкин, создавший со своей женой — он женился весной — Анной Федоровной кружок в предместье Праги) и др. примкнули к Православному кружку. Такие яркие люди, как Юля (сестра Иоанна) и особенно ее сестра Катя (ныне Е. Н. Кист), В. Новгородцев, Хмырев придавали заседаниям кружка особенно живой характер — часто все же пылая ревностью о Церкви больше, чем нужно было — в смысле резких оценок «Алешовского» направления. Две струи (православная и интерконфессиональная) все же не сливались, и это сильно осложняло нашу пражскую жизнь. В Православном кружке было много девушек, часто очень незаурядных (Дюна Бонч-Богдановская, ныне Любимова, Марианна Андрусова, ныне Афанасьева, Ася Оболенская, ныне монах. Бландина), и этот особый «аромат» «девичьего» пиэтизма вызывал и зависть и острую критику. Отец Г. Флоровский (тогда еще не священник) пустил тогда острое, недоброе слово о Движении, как «организации умиления». Справедливо здесь было лишь то, что возникавший в это время (особенно среди нашей женской
36
молодежи — впереди всех здесь шли талантливые сестры Рейтлингер) культ о. Сергия Булгакова уже имел в себе нездоровые элементы. О. Сергий пускал к себе только «избранных», посещал только собрания (не всегда, впрочем) Православного кружка; с великого поста начались особые его богослужения в помещении, где жили студенты и профессора (в Худобине — на краю Праги), и это дало дальнейший толчок культу о. Сергия, во многом им заслуженному, но имевшему в себе некоторые нездоровые черты.
Возвращаюсь к жизни в Движении. За осень в Праге очень выдвинулся Л. А. Зандер, приехавший к концу лета из Владивостока. Его блестящий дар изложения, профессорский опыт, глубокая церковность делали его очень нужным для всех кружков человеком, но его личная дружба с Липеровским все же больше его связывала с Алешовым, чем с Православным кружком. Он очень тяготился этим положением — он уже тогда был страстным поклонником о. Сергия Булгакова, все его симпатии влекли его к Православному кружку, а его личная близость к Липеровскому (с которым он, кажется, жил тогда) отделяла от Православного кружка. Все же, когда, по просьбе парижан, наметилась необходимость поездки лекторов в Париж — было решено (не помню где и кем), что кроме Липеровского туда поедет и Зандер. Поездка имела место во второй половине января. Оба должны были вернуться к съезду бюро Движения — этот съезд должен был состояться в середине февраля в Праге. Поездка Зандера и Липеровского в Париж получила огромное значение для образования Движения в Париже. Здесь, прежде всего, при них создалось братство св. Троицы, доныне уцелевшее в своей глубокой духовной сущности — во главе братства встал недавно переехавший из Константинополя в Париж о. Александр Калашников; горячим апостолом братства была его старшая дочь Валентина (ныне Зандер). Созданием братства было положено твердое и незыблемое основание для «православное™» Движения в Париже. Такие яркие люди, как Павел Евдокимов,
В. А. Зандер, Катя Серикова (ныне Меньшикова), ее
37
брат Жорж, ныне о. Георгий, Петя Ковалевский — это все были исповедники Православия — к ним примкнули прежние «интерконфессиональные» деятели, среди которых сразу выдвинулась высокодаровитая, глубоко религиозная и духовно утонченная Милица Лаврова (ныне Зернова). Во время поездки Липеровского и Зандера было решено летом 1924 г. собрать в Париже первый местный съезд (он состоялся в Аржероне).
Помню хорошо то утро, когда ко мне на квартиру в Праге пришел очень взволнованный, только что приехавший из Парижа Липеровский. То «торжество Православия» в парижском Движении, свидетелем, участником и создателем чего он сам был, как бы закончило в нем отрыв от старого типа кружковской жизни.
Ведь Липеровский — сын священника, лично всегда очень преданный Церкви — поэтому для него лично не было никакой трудности в том ярком и властном обращении молодежи к Церкви, какое обнаружилось в Пшеровском съезде, но то, что «православная группа» Праги и Белграда его, так сказать, не принимали (тогда ведь не без оснований), видя в нем одного из проводников интерконфессионализма, — это его отделило, как бы отбросило в сторону интерконфессионального течения. Он тяготился этим положением, невольно его отрезавшим от «церковников»; но вот в Париже никакой стены между ним и тамошними «церковниками» не было: при удивительном даре сближения с людьми, Липеровский легко и сердечно сошелся с этими церковниками Парижа, и именно это чувство влекло его по приезде в Прагу ко мне — он как бы невольно хотел предстать передо мною как деятель и участник именно церковного течения в Движении.
Приближалось время съезда бюро в Праге. Никто из нас, руководителей, ясно не представлял себе, в чем собственно должна состоять работа, мы только одно знали наверное — что нам нужно было подготовиться ко второму общему съезду осенью 1924 г.
Приехали из Софии Никитин и А. И. Чекан, из Белграда Н. Зернов, из Парижа П. Е. Ковалевский и М. В. Лаврова, из Берлина Федоровский, а также представители
38
Праги. Кроме того были Холлингер, М. Л. Бреше и Д. И. Лаури. Наша работа началась с молебна в малом приделе, отведенном Православной Церкви в св. Николаевском храме. Еп. Сергий сказал очень теплое слово на тему: «Не бойся, малое стадо». Затем мы отправились на Алешово, в помещение кружка, и начали работу.
Прежде всего пошла информация, показавшая, что православный характер нашего Движения всюду обнаруживается со все возрастающей силой. Затем были обсуждены вопросы местных съездов (в Германии, Франции, Болгарии, Праге), были намечены контуры бюджета (поездки и т. п.). В общем бюро наше явило и свою реальность, жизненную силу Движения, которое стало расширяться, и рост после Пшеровского съезда — с какой-то необыкновенной силой, — и вместе с тем вскрыло организационную дряблость Движения. Я лично это чувствовал очень сильно, сознавая свою ответственность за это, ибо на меня, как на председателя, Пшеров наложил особую задачу — так сказать «хранить дух Пшерова». Из информаций с мест выяснилось, какую громадную роль играют посещения тех или иных мест, где есть русская молодежь, лекторами и секретарями Движения.
С другой стороны, становилось все яснее, что нарастает контраст между «расширением» и «углублением» Движения. С одной стороны, Движение сразу стало как бы кристаллизационной точкой для самых различных групп молодежи; Движение, в известном смысле, становилось быстро и легко «модным» — но ясно было, что к Движению примыкали слишком различные группы, хотя все тяготеющие к Православию, но слишком по-разному понимающие его. Особенно сложно было положение в Берлине, где одна группа, уже сплотившаяся раньше на политической почве, образовала кружок и вошла в Движение. В составе этого кружка был даже известный политический деятель, крайне правый монархист Тальберг, о котором я еще в России наслышался много скверного. Мои опасения, увы, очень скоро оправдались — так же, как и недовер-
39
чивое отношение к Лопухину (в Белграде). Но как было отказать в приеме в состав Движения группе, бесспорно преданной Православной Церкви? Тем настойчивее выдвигался вопрос о конкретном раскрытии идеологии Движения. Этим, в значительной степени, определилась программа предстоящих летом съездов — помимо чисто «миссионерской» (призывной) части, в нее предложено было включить темы о конкретном понимании церковной идеи. Обращусь к характеристике местных съездов 1924 г.
40
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
