13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Запад и СССР
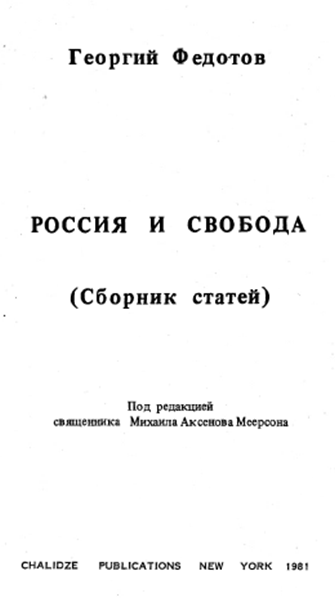
Разбивка страниц настоящей электронной статьи сделана в соответствии с этим изданием.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
ЗАПАД И СССР
(«Новый Журнал», № 11, Нью-Йорк)
В последней статье моей в «Новом журнале» (№ 10), озаглавленной Россия и Свобода — я выразил убеждение, что свобода в новой советской Московии может прийти только с Запада. Но в предпоследней —Рождение Свободы — (№ 8) западная свобода показывалась в состоянии тяжелого кризиса. Сопоставление этих двух точек зрения приводит к выводам, далеким от оптимизма. Может ли больной европеец вдохновить порабощенную Россию пафосом свободы, который он сам утратил? Где они, те могучие голоса, которые, ворвавшись в царство смерти, должны разбудить спящих? Во всяком случае, пока, влияние России на западный мир — Европу и Америку - во много раз сильнее возможного влияния Запада на Россию. Оно поддерживается все еще не померкшим обаянием советского коммунизма, разлагающим демократические убеждения левой интеллигенции рабочего класса. Оно, за время войны, разлилось широкой волной по всем странам и всем социальным классам, поддержанное победами Красной Армии. Россия выступила в новой роли — спасительницы западной цивилизации от гитлеровского варварства. Ее участие в освободительной войне заставляет прощать все. Сейчас линия русской оккупации остановилась на Эльбе. Это значит, что не только Восточная, но и значительная часть Центральной Европы отторгнута из сферы западной, свободной и демократической культуры и включена в орбиту тоталитарной мировой державы. К западу от этой черты русская экспансия действует по внутренне-политическим линиям. Но остановка на линии Эльбы и Альп результат лишь первого раунда. Сейчас направление экспансии СССР передвинулось в Азию, на Ближний и Дальний Восток. Европа, или то, что от нее осталось живого, получила передышку. Это время дано, чтобы задуматься над смыслом происходящего, произвести проверку совести и приготовиться к обороне. Время и нам, изгнанникам Европы и духовным сынам
220
ее, поставить вопрос или ряд вопросов. Как могло случиться, что Европа позволила без борьбы отрезать от себя половину своего тела? Как могло случиться, чтобы тоталитаризм, который вчера был признан несовместимым с основами нашей цивилизации, теперь принят в состав демократического мира, призван решать его судьбы и многими признан новой, самой совершенной формой демократии? Не трудно видеть, что этот вопрос и множество других, связанных с ним, сводятся к проблеме общего кризиса современной культуры. Этот кризис протекает в трех планах: духовной культуры, социально-политических и внешне-политических, или международных отношений. Наше понимание кризиса сводится к следующему. Во всех сферах жизни кризис является результатом распада исконного единства христианской цивилизации. Долгое время распад этот сопровождался освобождением огромных творческих сил. Гордая сознанием своего могущества культура эта мнила обосновать себя на перманентном конфликте, на свободной игре противодействующих сил. Но, наконец, распад достигает таких пределов, при которых жизнь становится невозможной. Тут вступают в действие революционно-фашистские силы, пытаясь осуществить новую интеграцию, на основе новых доминант, совершенно несовместимых с историческим типом христианской культуры. Между ними возможна лишь борьба на жизнь и смерть. Такова схема. Проследим ее развитие в трех указанных сферах, под одним лишь углом зрения, отмеченным в заглавии: как в атмосфере внутренне-европейского кризиса вырастала роль России, которая из вчерашней ученицы и члена европейской семьи, становилась судьей и мстительницей и готовится стать наследницей Европы.
1.
В средине прошлого века европейская культура достигла своего апогея. Она безраздельно господствовала на трех континентах — и в правящих классах России. На двух остальных материках, считавшихся варварскими, она разливалась, не встречая сопротивления; их окончательное духовное завоевание представлялось вопросом времени – уже недалекого, Европейская культура имела право считать себя мировой. Вместе с тем она смотрела на себя не как на одну из возможных цивилизаций, а как на цивилизацию вообще, как на продолжение, в ходе однолинейного прогресса, греко-римской, уже универ-
221
сальной традиции. Если теперь эта претензия кажется неоправданной, то вполне законным было то высокое самосознание этой культуры, которое позволяло ей считать себя цветом и вершиной человечества. Во-первых, всякая живая культура, как система ценностей, должна считать себя высшей, если не единственной. Релятивизм в мире ценностей есть начало распада и смерти. Во-вторых, европейская культура имела и все объективные основания (религиозные, нравственные, интеллектуальные и эстетические) для сознания своего первородства.
Однако, внутри этой культуры было далеко не благополучно. Правда, ее наука и техника шли от успеха к успеху. Социальный прогресс был несомненным. Раскрепощение рабов, освобождение народов и быстрый подъем благосостояния низших классов делал девятнадцатое столетие самым благословенным в истории мира. Но давно уже, много веков назад, глубокая трещина прошла между христианством, которое оставалось еще живой религией масс и официальной религией наций — и тем научным рациональным миросозерцанием, которым жила культурно-творческая интеллигенция, В то время считалось, что отмирание религии и составляет завершение прогресса, что религия, сыгравшая свою положительную роль в истории, может быть убрана, как леса после постройки здания, Наука была призвана заменить ее. Связь между культурой и христианством была не совсем оборвана, но она держалась на одной этике. Нравственные основы жизни девятнадцатого века были еще в известной мере христианскими. Нельзя, конечно, как это часто делается, считать гуманизм девятнадцатого и двадцатого века чистым выражением христианской этики, Точная формула его была бы: иудео-христианский этический минимум, разбавленный не-христианским гедонизмом. Но в этом сплаве некоторые, подлинно-христианские ценности — напр., культура свободы н сострадания — достигли такого цветения, как ни в одну из древних, более религиозных эпох христианской жизни. Девятнадцатый век забыл о христианском происхождении этих ценностей. Для него они, странным образом, вытекали из самого понятия цивилизации, как научного просвещения, хотя языческая культура Ренессанса могла бы исцелить от этой иллюзии. Но только этими ценностями питался весь огромный энтузиазм социального прогресса, как освобождение рабов и бедняков. Только это согласие в основном этическом кодексе поддерживало единство борющихся классов, единство верующего народа, и неверующей интеллигенции в пределах национального государства, связь государства в системе европейского равновесия.
222
Около 1850 г., как раз на перевале великого века происходит ряд духовных взрывов, впервые угрожающих нравственным основам западной цивилизации. На расстоянии нескольких десятилетий появляются: «Коммунистический Манифест», «Цветы Зла», «Записки из Подполья» и первые произведения Ницше. Лишь через два поколения ядовитые газы, вырвавшиеся из этих бомб, спустились в широкие слои интеллигенции и отравили их сознание. В наши дни всякий подросток, в самые нежные годы, проходит чрез эту ядовитую зону, и редко выходит из нее не отравленным: даже если он никогда не открывал этих книг. Каждая из них указывает разные пути или тупики. Общее для них — отрицание гуманистического христианства не как метафизики, а как нравственной основы жизни. Сюрреализм, фашизм и коммунизм произрастают на этой общей почве.
Полстолетия и более буржуазное общество не беспокоилось особенно по поводу «Цветов Зла», вырастающих в его подполье. Они казались нестрашными уродствами, чудачеством богемы или бредом революционеров. Здоровый организм был уверен, что сумеет преодолеть всякие яды. Но шли годы, и этот организм стал проявлять признаки той «атонии» или духовного безволия, которое страшнее всех острых болезней. В сфере культуры его имя — релятивизм. Во второй половине девятнадцатого века все оценки «благонамеренных» людей начинают приобретать относительный характер. В начале века Истина (или Наука), Свобода, Справедливость, Красота были абсолютами, в которых светились отблески заходящего солнца религии. В конце века то были уже относительные теории или условные нормы. Демократия или правовое государство — удобная форма для нашего цивилизованного общества. Но, может быть, деспотизм вполне пригоден для менее цивилизованных наций. Наша физика и естествознание позволили удовлетворительно описать и объяснить наличные данные опыта. Завтра новое открытие может перевернуть всю нашу картину мира; может быть, Птоломей окажется более прав, чем Коперник. Нам нравятся классические картины и статуи наших музеев; но есть другие формы искусства — древние и экзотические — может быть, не менее прекрасные. Наша этика хороша для нашей экономической и социальной системы; этика каннибалов пригодна для их примитивного хозяйства. И т. д., и т. д.
То была полоса чрезвычайно благоприятная для развития историзма, который перерос рамки одной науки — истории, и окрасил собою все области наук о духе. Об опасности исто-
223
ризма, как мировоззрения, предупреждал Ницше. Историки конца века проявляли изумительную способность «вчувствоваться» в чужие культурные миры. Но для них понимание означало оправдание и даже, зачастую, апофеоз. От Моммсена до Виппера — мастера исторической науки занимались реабилитацией тиранов; можно утверждать, что для подрыва демократического сознания историческая наука сделала больше всякой другой.
История необычайно расширила культурные горизонты человека девятнадцатого века, воскрешая угасшие миры. Живое искусство идет в том же направлении. Художники открывают японское, китайское, египетское искусство — не для изучения только или восхищения, но и для подражания. Европейский художник потерял веру в себя. Он усомнился во всех завещанных предками канонах прекрасного и уверовал во множество путей искусства. Из этих путей для него исключался только один — торный путь от Ренессанса до наших дней, справедливо или нет, представлявшийся изжитым. Замечательно, что среди исторических перевоплощений нового искусства оказались в пренебрежении не только греческий мир (за исключением архаики), который доселе всегда ложился в основание всех «возрождений», но и романско-готическое средневековье, некогда воспитавшее отрочество и юность «Фаустовского» человека. Почему? Это остается загадкой. Может быть, потому, что религиозный ключ к нему был утрачен, а внешние формы были еще слишком знакомы и опорочены связью с упадочным церковным искусством нашего времени. Во всяком случае, художники вдохновлялись далеким, а не близким. В тоске по экзотике выражалось отвращение к себе и к своим предкам. В этих условиях расширение художественного восприятия, открытие новых миров означало не обогащение, не рост возможностей, а обессиление и обезличение.
В жажде более острых впечатлений, стимулирующих бессильное воображение, спускались от древних культур к примитивам, пока не открыли искусство негров, как будто вполне адекватное западному нео-варварству. Но эстетический мир, еще в меньшей мере, чем научный, может быть оторван от нравственного. Более глубокое эстетическое восприятие предполагает соответствующую моральную «чувствительность». Искренняя и глубокая любовь к мексиканскому искусству, например, погружает душу в кровавые испарения массовых человеческих жертвоприношений, а влюбленность в негритянские
224
идолы или пляски заражает эротикой свальных оргий. Искусство совсем не такая пустая и невинная вещь, какой его воображают буржуа, употребляющие его для украшения своего домашнего быта. Толстой понимал это. Впечатляющая музыка или талантливый роман могут сделать больше для воспитания (или разложения) человека, чем тысячи церковных проповедей или школьных уроков.
Искусство Востока открывало европейскую душу заразительной силе восточных религиозных токов. Но они же влияли и непосредственно. Шопенгауэр пролагал дорогу буддизму, за которым шла волна браманизма, и в чистой эссенции — для немногих - и в синкретизме тео- и антропософии для массового потребления. Что влечет европейскую душу к религиям Индии и вообще Востока, это свобода от чувства греха и личной ответственности, блаженное слияние с космосом и утрата постылого и больного «Я». Пантеизм Востока уничтожает самое сознание личности, находящей себя в нравственной борьбе. Личность — это самый нерв иудео-христианского религиозного сознания. Отказ от нее означает тайную волю к самоубийству; влечение к пантеизму есть тоска по безболезненной, анестезированной смерти, эвтансии.
Любопытно, что восстание против викторианского морализма в английской литературе дает ту же пантеистическую реакцию. Она заметна у таких человечных и как будто христианских писателей, как Томас Гарди, Голсворти, и у их преемников — Мэри Уэбб, Вирджинии Вульф и Чарльза Моргана. Это все первые имена английской школы, вероятно, первой в Европе — во всяком случае, в междувоенные годы. Писатели еще живут внимательным и печальным интересом к человеку, еще полны жалости к его бесцельной жизни и неотвратимой смерти. Но из их человека вынут тот стержень («Я»), который ранее делал его героем драматической или трагической борьбы. От отчаяния спасает лишь ощущение космического лона, которое принимает в себя, в свой вечный круговорот, им порожденные души.
Пантеизм и увлечение восточными религиями характерны для томных и упадочных настроений fin de siecle - еще не изжитых кое-где и поныне. Но западный мир, потерявший чувство личности, еще полон животных, биологических сил. Вместо эвтанасии он ищет теперь омоложения, как прокаженные средних веков, в ваннах человеческой крови. Где раньше, где позже — везде поколение утонченников сменяется поколением
225
бруталистов. Пониженный до шепота декадентский стих переходит в неистовый рев футуриста. Вместо духа, машина делается предметом обожания; аристократия и массы одинаково увлечены спортом. Вчера еще комнатная, худосочная молодежь, теперь в скаутских лагерях воспитывается для войны. Презрение к книге становится почти всеобщим. Европа готовится к полосе войн и революций.
Для нашей фашистской эпохи характерно отвращение к человеку — к его лицу и телу — в современной живописи; отвращение к его эмоциям — в музыке. В лучшем случае место человека в искусстве занимает математическая красота чистых пространственных и ритмических форм; в худшем — жажда дисгармоний и эрос безобразия. Именно в этот момент Пикассо открывает искусство негров, и французские сюрреалисты, последовательно и сознательно, соединяют с эстетическими дерзаниями проповедь садизма.
Впрочем, во французской литературе пафос насилия был редким явлением. Может быть, среди ярких талантов лишь Анри Монтерлан искал обновления в мужестве и жестокости, в древней языческой религии быка и солнца. Зато бесчеловечность во французской литературе утвердилась гораздо раньше других. Артистизм Стендаля и Флобера требовал такого же холодного любопытства к живому, страдающему человеку, с каким естественник подходит к миру животных и растений. Бессознательной предпосылкой этого демонического объективизма было сладострастие, умертвившее человеческую теплоту и составляющее, до самого конца, основной пафос французского искусства. В этом, если угодно, была и трагическая тема его; но это трагизм не нравственной борьбы, а бессилия и рока.
Любопытно, как новая тема — обновление через насилие проникает в ту литературу, которая была и остается хранительницей заветов человечности. У англичан, параллельно с потухающей кривой пантеизма, возникает и новая школа имморалистов, то легких и веселых, то вполне серьезных. Киплинг воспевал войну и аристократизм белой расы. Честертон с мальчишеским задором изобразил свержение английской демократии, произведенное «Наполеоном из Ноттингхиля». Б. Шоу, который сделал более, чем кто-либо другой, для подрыва демократических идей в Англии, сам, правда, не проповедовал войны, но всегда унижал культуру мира и свободы перед чужестранным тоталитаризмом - немецким или русским. И, наконец, Д. Г. Лоренс объявил религиозную войну интеллектуаль-
226
ному и эстетическому, миру старой Англии во имя иррациональных, биологических инстинктов. Торжество их он видел скорее в половой жизни, чем в войне. Его ненависть к социализму и технической культуре мешала ему сделаться настоящим фашистом, но в своем мексиканском романе «Крылатый змей» он идеализирует политическое движение, направленное одновременно против христианства и демократии.
Германия, которой суждено было сделаться средоточием мирового фашизма, духовно дольше других ему сопротивлялась. В этом заключается один из парадоксов новейшей истории: влияние политики иногда насильственно вторгается в сферу духовной культуры, деформируя ее. Для Германии, как и для России, поражение в войне 1914--—1918 г. означало срыв с их исторических путей. Немецкая философия дольше других боролась против релятивизма; в нео-кантианстве и других идеалистических течениях она пыталась спасти, что можно, из христианской этики. Когда ее политикам понадобилось оправдание языческого динамизма, они искали его скорее заграницей (расизм, империализм), чем в собственной традиции Ничше- Вагнера. Веймарское пятнадцатилетие создало больное искусство — искусство страха, отчаяния и безумия — но не насилия. То было предфашистское, но не фашистское искусство. Грядущий нацизм почти не отразился на нем; потому, вероятно, к нему и не отнеслись достаточно серьезно. Культурная Германия болела Достоевским и готовилась стать жертвой собственных детей; дети-то занимались не культурой, а военными играми.
Культура Америки носит характер странного раздвоения; она одновременно и наиболее отсталая и наиболее передовая страна. Официальная Америка и огромное большинство ее народа живет в наивный и счастливый век, соответствующий Европе не то восемнадцатого, не то девятнадцатого столетия. Она полна упоением собственных сил и возможностей. Она хочет наслаждаться жизнью, и из обрывков гуманитарного христианства и своей конституции творит себе веселую религию доброго гедонизма, с обязательной улыбкой и забвением смерти. Не помня о христианском происхождении своей демократии, и все еще празднуя освобождение от недавно властвующего пуританства, Америка в своей анти-христианской школе и науке подрывает основы собственной жизни. Этой цели служат и «прогрессивное воспитание» и три кита, на которых держится американский университет, антропология, психология и социо-
227
логия. Америка не имеет серьезной философии, которая могла бы задержать на метафизической и этической ступени религиозный декаданс. Оптимизм нации питается ее огромными техническими и экономическими ресурсами, делающими ее, впервые в истории, самой мощной державой мира. Но этот близорукий оптимизм не в силах создать великого искусства. Он обслуживается Бродвеем и беллетристикой, стоящей ниже литературного уровня. Вся молодая и талантливая литература Америки живет отчаянием, ненавистью и неврозами, напоминающими и Веймарскую Германию и передовую Францию. Истинный художник, даже и в падении своем, сохраняет нечто от пророка. Он живет впереди своего времени, жадно впитывая в себя те, даже самые уродливые и мерзкие впечатления, которые ведут в будущее. Американская передовая литература живет презрением и ненавистью к обществу, ее породившему, и к человеку, им порожденному. Поскольку она проникается духом насилия и сознательно примыкает, в отрицательных реакциях, к коммунизму, она приобретает не только предфашистский, но и про-фашистский характер.
Какую роль в этом культурно-духовном процессе играет Россия? Сравнительно скромную, если речь идет о ее культуре; огромную, если взвесить факт русской революции и ее тоталитарного завершения.
Россия изменила своей гуманитарной и этической традиции с 90-х годов. Но вся ее великая литература и искусство, открытые Европой слишком поздно, создания девятнадцатого столетия. Мало что из позднейшего просочилось на Запад. Но зато и христианские традиции русского девятнадцатого века не были восприняты, или восприняты поверхностно. Художнический гений Толстого убедителен для всех. Его религиозный гений влиял на Европу не евангельским морализмом, а натуралистическим пантеизмом, которого она искала. Достоевский заражал своими неврозами, разлагал и продолжает разлагать гуманистический оптимизм Запада, но его христианская метафизика, его опыт построения нового религиозного гуманизма прошли бесследно.
За то русская революция зажгла костер, на который вот уже скоро тридцать лет, как летят все бабочки старого мира, чтобы сжигать в нем свою совесть и крылья. Если оставить пока в стороне чистых социалистов, заинтересованных в построении нового мира — равенства и справедливости — большинство интеллигенции, с тем сознанием, которое охарактеризовано вы-
228
ше, влекутся на огонь не столько потому, что он обещает рождение нового, сколько гибель старого. Ненависть к старому, как и у русских символистов, приявших революцию, доминирует. Вот почему никакие провалы нового советского строя не могут перевесить значения того факта, что революция уничтожила буржуазию «как класс», убив миллионы людей. Кровавый кошмар ее — не пугает. Эстеты и авантюристы, презирающие собственное рабочее движение и свой умеренный демократический социализм, в Москве с наслаждением вдыхают кровавые испарения. Ненависть к капитализму, которым живет почти вся современная интеллигенция, вовсе не означает ненависти к экономической эксплуатации и, уже подавно, сострадания к человеку-работнику. Капитализм это символ всей современной цивилизации, механической и бездушной, обесчеловечившей человека; в последнем счете, для современной души ненависть к капитализму есть ненависть к самой себе. Но советская Россия как раз живет индустриально-механическим пафосом раннего капитализма; она как раз производит сознательно и планомерно, средствами государственной тирании, то обесчеловечение человека, которое на Западе явилось результатом вековой экономической эволюции. Этого не хотят знать, потому что не видят, не интересуются человеком. В России чтут огромную разрушительную силу, способную взорвать на воздух старый мир.
2.
Политический строй Европы — демократия — разлагается с двух концов: мы говорим, справа и слева, танцуя от печки французской революции. В генеалогии современного фашизма левые силы решительно преобладают. Сорель, Муссолини, Ленин и Сталин вышли из крайне левого фланга социалистического движения. Только Гитлер был не причастен к Интернационалу, — но он и пришел позже других, на готовое. Охранительные и реакционные силы старого мира, группировавшиеся вокруг монархий и остатков родовой аристократии, оказались удивительно бессильны. В решительной борьбе они везде, кроме Испании, скорее стали на сторону демократии — очевидно, как меньшего зла. Фашизм, по своей идеологии, был движением республиканским и плебейским. Для Муссолини союз с Сардинской династией был актом оппортунизма и, может быть, личного тщеславия, вроде брака Наполеона с австрийской эрцгерцогиней. Что касается Гитлера, то самых
229
серьезных врагов он нашел в прусском юнкерстве (покушение генералов).
Сто лет тому назад, картина была иная. Демократия, торжествовавшая — идеологически и номинально — во французской революции, шла под знаменем индивидуалистического рационализма. Реакция, которую она вызвала против себя, обращалась к силам иррациональным и безличным — к средневековью, еще доживающему в народных массах, к религиозным и монархическим чувствам, к традиции, к принципу социальной иерархии и, наконец, к национальной душе, перед которой должно склониться личное самосознание. Такова философия немецкого исторического романтизма, Де-Местра и Бональла во Франции, русского славянофильства. В те годы народный традиционализм был большой силой, которая могла задержать на десятилетия победу рационализма и либеральной буржуазии. Но за девятнадцатое столетие цивилизация спустилась так глубоко в народные низы, что реакция не могла уже делать ставку на их религиозные или патриархальные пережитки. Самое большее, на что мог опереться Гитлер в своем антирационализме, были элементарные биологические инстинкты —крови и расы — пережившие разложение национальной души. Но и они должны были вступить в неразложимый комплекс с современными механическими силами: хозяйства, техники, военной мощи. В фашизме итальянском и русском иррациональные мотивы почти отсутствуют. Материнским лоном ленинизма-сталинизма был марксизм — в крепком, неразбавленном виде 1840-х годов.
Оба гения — родоначальники современного социализма, Сен-Симон и Маркс — дышали воздухом реакции своего века и глубоко впитали его в себя, однако, очистив от всего иррационального. Между ними есть, конечно, существенная разница. Сен-Симон, истинный сын Наполеоновской Франции, — враг революции и ее идей; Маркс, современник новой революционной эпохи, становится ее философом, и хочет быть практиком. Сен-Симон увлекается одновременно и средневековым католицизмом — началом иерархии — и прогрессивными возможностями буржуазного индустриализма. Маркс презирает все традиции и, уважая прогрессивный рационализм буржуазии, ненавидит ее. Истинная душа реакции, воплотившаяся в Марксе, — отрицание личности и свободы. Органические силы истории, которыми жил романтизм, превратились у него в механические, но сохранили свою безличность. Так же как и реакционные романтики, Маркс считает бессмыслицей борьбу с ними
230
и относится к ним с крипто-религиозным преклонением. Они являются у него носительницами революционного процесса, требуя от личности беспрекословного повиновения своим наукой выводимым законам. Отречение от свободы, от личной скалы ценностей, от этики вообще, становится впервые долгом революционера. Более того, вследствие диалектического характера исторического процесса, все этические опенки революционера, без которых он не может обойтись, выворочены на изнанку. Письма Маркса не оставляют места сомнению: он радуется всякому злу, совершающемуся в мире, даже насилию нал пролетариатом, ибо зло, самым сгущением своим, приближает свое отрицание — революцию. И обратно, ничто так не противно ему, как усилия добра (для него безнадежные): смягчение эксплуатации, улучшение жизни трудящихся, кооперативные и профессиональные движения, даже политические завоевания социализма. Все, что смягчает зло, способно продлить его существование. Это настоящая философия злорадства, которая на практике совпадает с позициями крайне правой реакции. И, подобно реакционерам, Маркс, противник цивилизованной борьбы, оказывается апологетом насилия. Только полная мера насилия применяется после победы над побежденным врагом. Его учениками отрицается террор тираноборце», но приемлется террор революционных тиранов.
Невозможно отрицать, что Ленин был верным учеником такого Маркса — эпохи Коммунистического Манифеста. В его лице в наши дни Маркс redivivus еще раз разрушает рабочим Интернационал. При жизни Маркса его немецкие ученики строит с.-л. партию, мало считаясь с брюзжанием учителя. На практике, они шли путем Лассаля. Даже Энгельс почтительно изменял своему покойному другу. Учитель Бернштейна может считаться родоначальником демократического социализма. Но никто не заменил Маркса на посту непогрешимого пророка. Маркс был гений, и что написано его огненным пером, того не вырубили десятки топоров честных плотников.
Отношение Маркса к демократии, как к одному из видов добра, было резко враждебным. Политическая свобода, всеобщее голосование, парламент, плебисцит, были предметом его яростных насмешек, во всяком случае после переворота 1851 года во Франции. Для него все это лишь лицемерное прикрытие голого факта диктатуры буржуазии. Придет время, и она сменится диктатурой пролетариата. Само насилие не смущало Маркса, скорее импонировало ему. Но сговор, соглашение с врагом — основы демократии — были ему противны.
231
Столь же противны ему идеалистические предпосылки демократии-либерализма: суверенные права личности, вера в творческую свободу человека, в его нравственное достоинство. Человек был в истории рабом или каналом бессознательных сил, воплощением класса, а не лицом. И отношение к нему определялось отношением к его классу. Макиавеллизм должен быть политическим выводом подобной социологии.
Чтобы понять по достоинству оценку Марксом демократии, нужно помнить, что она относилась не к упадочному, расчетливому, коммерческому строю позднего капитализма, а к юношеской, восторженной идеологии средины века. Та демократия — идеал, а не действительность — была знаменем на баррикадах Парижа. Она только что обновила свои лозунги, завешанные восемнадцатым веком, в новом, полу-христианском романтизме. Она сама была почти религией для людей такого калибра, как Гюго, Герцен, Маццини. В 1848 году она сливалась с социализмом утопистов. Социализм мог бы вполне считать ее своей матерью, как она признавала его своим сыном. Благодаря Марксу, сын отрекся от этого благородного родства. Вместо того чтобы выводить свои требования из принципов демократии, он предпочел обосновывать их на совершенно ином, механическом, аморальном миросозерцании.
Мы знаем, что историческая социал-демократия, следуя Энгельсу, а не Марксу, не только приняла демократический строй Европы, но и боролась за него. Более того, в двадцатом веке в Германии она была почти единственной серьезной демократической партией. Но ее отношение к демократии было чисто инструментальным. Она хотела, говоря словами Энгельса, «нагуливать красные щеки» в атмосфере демократического парламентаризма. Но она, верная Марксу, не переставала разоблачать перед массами буржуазную подоплеку демократических идей. Для нее они и учреждения, на них основанные, были хороши лишь как оружие в борьбе за интересы пролетариата. Возможность иных средств всегда оставалась открытой. Массы воспитывались в холодной отчужденности от тех идеалов, которыми некогда жила, и уже переставала жить буржуазия. Невозможно было и представить себе, что они станут умирать за эти идеалы, для них чужие. Но всякий политический строй живет лишь до тех пор, пока люди готовы умирать за идею, лежащую в его основе. Японцы готовы умирать за своего императора. Англичане и американцы, слава Богу, еще готовы умирать за свободу. Но немецкие рабочие не могли умирать за Веймарскую республику, хотя и считали ее «самой демокра-
232
тической в мире»; в их сознании это означало только лучшую, т. е. наименее гнусную, форму буржуазного господства.
Если пролетариат относился холодно к демократии, то буржуазия держалась ее более по привычке, чем по убеждению. Скептицизм давно уже подорвал веру в великие слова свободы и равенства, которые, вне религиозной атмосферы породившей их, звучали отжившей риторикой. Демократия оказалась удобной, комфортабельной формой жизни, совсем не такой страшной, какой она угрожала быть в героические времена революций. Потребность в кумирах удовлетворялась уже не идеями демократии, а живой реальностью отечества или нации. Заново открытая в начале девятнадцатого века, нация пережила крушение революционных кумиров; она-то могла существовать и вне всякой метафизической почвы. Правда, обездушенная, она превратилась в комплекс интересов, но за ними стоял комплекс страстей. Высокое и низменное, святое и порочное сливалось в ее содержании. Это была жизнь, а не голая абстракция, И нация, вместо свободы, сделалась политической религией — идолопоклонством — буржуазии.
Если буржуазия, в своем релятивизме, держалась за демократию, то культурная элита, в сменяющихся волнах поколений — презирает ее. Сначала, в эпоху эстетизма, она считает всякую политику грязным делом и уходит от нее в мир искусства и философии. Во Франции разрыв между интеллигенцией и политикой, столь роковой для ее национальной жизни, начинается в годы Второй Империи. Это и была настоящая «измена клириков», а не та, за которую упрекал интеллигенцию Бенда, т. е. вторичное ее возвращение к политике в начале двадцатого века. Франция была в этом отношении самой несчастной страной, но та же разобщенность между культурой и политикой чувствовалась всюду — менее всего в Англии. Даже в Америке, не знавшей декадентства, политика стала, или считалась, делом нечистоплотных профессионалов.
В эпоху брутализма все изменилось. Молодежь, воспитанная в спорте и жаждущая борьбы, вернулась в жизнь нации (La Cité), но с топором в руках, чтобы рубить под корень опостылевшее дерево свободы. С самого начала ее дороги разошлись. Одни шли под знаменем нации и войны, другие - социализма и революции. Их объединяла жажда героической жизни, катастроф, насилия. Слово violence, со времени Сореля, для французской молодежи приобрело священный смысл, тождественный слову «борьба» в лексиконе русской интеллигенции. Демократия, как и капитализм, были предметом общей
233
ненависти. Выставить свою кандидатуру в парламент означало измену всем принципам чести и непримиримости как для правого, так и для левого радикализма. Правые долго шли за Морасом и романтической утопией старой монархии; левые, лишенные крупных вождей, метались между марксизмом и синдикализмом. Переходы из стана в стан были нередки (Жорж Валуа). Их разделяла в сущности одна острота национального чувства или его отрицания, но именно в этой области обращения всегда возможны и не носят печати ренегатства.
Если бы власть идей была сильнее власти исторических фактов, то и фашизм и коммунизм имели все шансы родиться во Франции. Но социальный остов страны оказался устойчивым, и судьба или героизм Франции подарили ей безрадостную победу (1918 г.). Коммунизм и фашизм родились в странах побежденных или униженных и сообщили им необычайный ореол в глазах революционной интеллигенции других, более счастливых (и более скучных) стран. В Москву, в Рим и в Берлин потянулись паломники, жаждущие нового мира, построенного на революционном насилии. Между коммунизмом и фашизмом завязались сложные отношения подражания, конкуренции, борьбы. Развитие этих отношений может быть представлено в следующей схеме. В известном смысле коммунизм породил фашизм — не как систему идей, а как организованное движение. Итальянский фашизм и немецкий нацизм явились национальными реакциями на угрозу коммунистической революции. С другой стороны фашизм сразу же облекается в те политические формы, небывалые в истории, которые созданы русской революцией: абсолютная власть вождя, скованная железной дисциплиной партия, как аппарат пропаганды и принуждения, и массы, непрестанно и искусственно вовлекаемые в политическое брожение, активно-пассивные, повинующиеся с восторгом, выполняющие чужую волю, как свою собственную. Первое столкновение коммунизма с Западом, еще демократическим, приводит к его поражению. Фашизм оказывается сильнее его, апеллируя и к социальным и к национальным, т. е. более глубоким инстинктам масс. В России коммунизм, в его марксистско-ленинской идеологии, несомненно ожидала та же судьба, что и на Западе. Он спасает себя, усваивая национальную идеологию своих врагов и нечувствительно сближается с фашизмом, ибо национальная идея была главной чертой их разделяющей. В этой новой форме СССР включается в орбиту фашистской Оси держав, начинающих борьбу против оставшихся демократий за мировое господство. Раздор в их стане —
234
нападение Германии на СССР — обеспечило победу демократической коалиции, но уже при участии тоталитарного союзника. С разгромом всех конкурентов, Москва остается единственным центром мирового тоталитаризма, который все еще сохраняет имя коммунизма. Коммунистические партии всего мира ставятся на службу русского империализма, социальная революция делается формой русской военной экспансии.
Вся эта эволюция коммунизма, т. е. поворот его на 180 град, от крайне-левой до крайне-правой точки, по-видимому, нисколько не ослабила в мире его обаяния. Одни отходят, другие приходят к нему, но раболепные восторги перед Москвой не прекращаются. Это лишний раз доказывает, какую ничтожную роль в комплексе коммуно-тоталитарных притяжений играют положительные социальные мотивы: справедливости, сочувствия трудящимся и угнетенным. Радикализм отрицания настоящего и беспощадное, на трупах, строительство нового общества, основанного на абсолютной несвободе, по-прежнему влечет созревшие для тоталитаризма сердца.
Для понимания психологии коммуно-тоталитаризма необходимо строго различать между партийным коммунистом и попутчиком. Эго совершенно разные породы людей. Коммунист человек чрезвычайной узости мысли и большого волевого напряжения. Он примитивен, ненавидит свободную мысль и личную ответственность, но полон горения деятельности и борьбы. Попутчик — обыкновенно человек широкий и культурный, который хочет все понять и все простить. Изъеденный релятивизмом, он лишен способности собственных оценок и нуждается в постороннем давлении или активации, чтобы согреть свои остывшие жизненные инстинкты. Его тянет к силе, подобно слабой женщине. Он, как Ибсеновская Гильда, мечтает о могучих викингах, которые смогли бы его изнасиловать. Во имя чего, для него, пожалуй, безразлично. Недавно он любовался красотой и гимнастической выправкойHitlerjugend. Теперь московские песни и марши, особенно после всех побед, приводят его в восторг. Поскольку попутчик человек политических интересов, бывший демократ или социалист, он исходит из сознания бессилия классической демократии построить новый мир. Неуверенный в правильности новых планов, он готов оказать им доверие в кредит: «Может быть, что-нибудь да выйдет. Во всяком случае, их энтузиазм изумителен. С такой верой можно двигать горами. А жертвы? — История без них не обходится...»
Тем временем русский фашизм не стоит на месте. Вся-
235
кий фашизм представляет неустойчивую, переходную форму власти, продукт революционной эпохи. Из трех составляющих его элементов, ранее других сходит на нет народ. Он устает от бесплодного кипения внушаемых страстей. Он хочет покоя, и правительство все реже привлекает его на демонстрации, фальшивые выборы, заседания псевдо-советов. Но в России и партия, обескровленная казнями и чистками, потеряла свой идеологический костяк. Она стала пропагандистским орудием в руках вождя, который сделался абсолютным монархом страны. Все более подчеркивается его связь с самодержавными строителями Империи. Наиболее адекватное свое отражение он находит в образе Ивана Грозного. Продолжительное отчуждение от Запада, не смягченное и общими жертвами войны, сообщает советской монархии восточный характер. Ей не хватает наследственности, не хватает религиозного освящения. Но эволюция не остановилась на сталинизме. Идеология 1945 года, сочетание Маркса с Иваном Грозным, является крайне неустойчивой и внутренне нелепой. Заигрывая с церковью, Сталин как бы примеряет на себя шапку Мономаха. Тень Византии, уже реабилитированной в СССР, падает на советскую Россию. Е с л и развитие будет идти в том же направлении (единственное основание исторического предвидения) и достаточно долгое время, то монархия именно Византийского, а не русского типа (т. е. принципиально не-наследственная и сверхнациональная) явится последним завершением русской революции. Только она покроет своей порфирой не одну Россию. Половина Европы уже вовлечена насильственно в орбиту России. В остальной половине коммунисты и попутчики работают усердно, хотя и бессознательно, на пользу грядущей Византии, подобно тому, как сто лет тому назад, часть ослепленных радикалов 1848 года строили трон Наполеона III.
3.
Духовное и социальное состояние Европы нашего времени напоминает Грецию четвертого века до Р. Хр. Тогда устои демократии были подорваны борьбой классов и религиозно-этическим скептицизмом. Великий демократический век Греции оказался кратковременным и переходным — между древней аристократией и грядущей монархией. Лучшие умы, смущенные хаосом демократического разложения, искали опоры в авторитарных режимах, своих и чужестранных: в аристократии Спарты, в тирании Сиракуз, в монархиях Македонии и
236
Персии. Сравнение нашей эпохи с Грецией Пелопонесских войн принадлежит, как известно, Шпенглеру. Оно удачно покрывает сходство и внутренних и международных отношений. Греция истощила свои силы в бесконечных войнах отдельных городов, соединенных общностью языка, религии и культуры. Бессознательно они жаждали политического объединения, бессильные осуществить и даже проектировать его. Силы местных городских патриотизмов разбивали все попытки к прочному объединению. Единство пришло извне; сперва его несет Македония, потом Рим.
Европа наших дней тоже давно переросла национальные границы. Ее духовная жизнь и на сохранившихся вершинах и в одолевающем варварстве представляет несомненное единство. Есть только одна общеевропейская музыка, общеевропейская живопись. Искусство слова, как связанное с языковым многообразием, естественно, более национально. Однако, и оно не замкнуто; и в подлинниках и в переводах оно доступно всей семье европейских (теперь уже и азиатских) народов. Литературные направления оказываются общими всем нациям или группам наций. Влияние Толстого, Достоевского, Пруста Джойса, Кафки универсально. Вне этих «чужестранных» воздействий развитие национальных культур просто непонятно. В духовной жизни нации являются не солистами, а инструментами в оркестре, хотя и лишенном дирижера. Наука была интернациональна всегда. Что массы, да и средние классы, «духовно» питаются интернациональным месивом из спорта, кино и газеты, общеизвестно.
Но единство европейской культуры не является результатом современного вавилонского смешения языков, продуктом индустриально-технического века. Напротив, чем дальше в прошлое — в восемнадцатый век, в Ренессанс, в Средневековье, — тем крепче и глубже культурное единство христианского мира, выросшего на развалинах Римской Империи. Лишь девятнадцатый век создал обоюдоострую идею национальных культур. Романтическая по своим корням, она привилась как раз в эпоху распада и романтизма и вообще духовности, ее частично оправдывающих. Она политизировалась и сделалась орудием защиты интересов, экономических и политических, повсюду однородных.
В настоящее время основная социальная проблема, общая всему европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма, уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому или социалистическому хозяйству. Политическая проблема, связан-
237
ная с социальной - зашита свободы и демократии от правого и левого фашизма - всюду одна и та же. Фашистские обвалы в половине Европы связаны не столько с национальными традициями, сколько с несчастной политической и экономической конъюнктурой. Правый фашизм — такой же международный политический продукт, как и коммунизм.
Экономическая конкуренция между отдельными частями единого западного мира, две мировых войны, особенно последняя, необычайно обострили национальные чувства и страсти, уже лишенные не только духовного, но и материального оправдания. В отличие от былых войн в истории, современная война не есть «нормальное» явление, временное нарушение мира, после которого культурная жизнь восстанавливается. Она не восстанавливается ныне, а идет к быстрому разрушению. После изобретения атомной бомбы всем стало ясно, что третья мировая война будет концом западной цивилизации.
Войны возможны и даже неизбежны в силу сосуществования многих (или немногих) государств с неограниченным суверенитетом. До тех пор, пока в единой системе нашей цивилизации существует множество независимых правительств, каждое с собственной международной политикой, армией, военной промышленностью, тайными военно-техническими лабораториями, мир живет на вулкане. Малейшая искра может взорвать его на воздух. Международное единство является не роскошью, не мечтой идеалистов, а вопросом жизни и смерти.
В эпоху политического одичания и национальной ненависти совершенно немыслимо представить себе, чтобы пятьдесят суверенных наций, собравшись в Женеве или Сан-Франциско, свободно отказались от своего суверенитета или важнейшей части его: избрали общее правительство и объединили под его командованием свои армии и военные средства. Эта стопроцентная демократическая схема теперь является большей утопией, чем она была в гуманном и пацифистском девятнадцатом веке. Правда, теперь отказ от суверенности диктуется национальным самосохранением. Но в том-то и состоит разница между интересами и страстями, которые ныне правят миром, что страсть владеет человеком или народом, губя все его разумно понятные интересы и самую жизнь. Рассудительный эгоизм встречается в мире в виде редкого исключения.
До сих пор объединения наций в истории происходили почти всегда путем завоевания. Этот путь открылся и перед Европой с начала второй мировой войны. Первой вступила на
238
него Германия, сильнейшая из великих держав. Завоевание Европы ей действительно удалось. Она погибла потому, что вступила в безумную борьбу с тремя великими державами вне-европейскими, или лишь отчасти европейскими. Внутренне, германская гегемония была порочна в самой своей основе потому, что, осуществляемая нацизмом, означала не уравнение народов в общей империи, но их порабощение господствующей нацией. Наполеон, который лелеял мечту о европейской империи, в наши дни имел бы все шансы осуществить ее; даже Бисмарк. Полубезумный Гитлер был совершенно непригоден для этой задачи. Но что задача его не была химерической, видно хотя бы из того, что в числе людей, сотрудничавших с ним среди завоеванных народов, были не одни шкурники, но и идеалисты, вроде Де-Мана, для которых единство Европы было дороже национальной независимости, а, главное, представлялось исторически неотвратимым.
На смену Гитлеру приходит Сталин, как Македонский Филипп после крушения спартанской гегемонии. Гитлер подготовил для него почву. После германского гнета, русское владычество в первые дни казалось освобождением. Для многих — для евреев, например, — оно было, действительно, физическим спасением. Для большинства народов оно не принесло облегчения. Изменилось отчасти направление террора: истребляются не евреи, а высшие классы. Но интеллигенция, особенно демократическая, является общей жертвой. Для многих национальностей — литовцев, эстонцев, латышей — русский режим оказался тяжелее немецкого. Тем не менее военная обстановка была благоприятна для русской экспансии. Союзники, зависевшие от поддержки русских армий, не могли серьезно ей сопротивляться. Анти-демократический террор проходит под флагом расправы с немецкими «сотрудниками». Официально, СССР считается одной из трех держав-освободительниц; даже раздел на сферы влияния не нашел выражения в документах. Как далеко зашла русская экспансия, видно из следующего. Представьте себе, что во Франции происходит коммунистическая революция. Она немедленно вызовет подобные же революции в Испании, Италии, может быть, и в Бельгии. Угрожаемые английской интервенцией, действительной или только воображаемой, вожди революции, в большинстве агенты Москвы, приглашают на помощь братскую Красную Армию, которая без труда оккупирует западную Европу. Присоелине- ние северной анклавы — вопрос времени. Пора подумать о третьей возможности. Третья сила, которая могла бы, рассуж-
239
дая теоретически, объединить Европу, это Британия. После кровавой тирании Германии и России, даже военное завоевание Англией было бы счастьем и подлинным освобождением. Но достаточно сделать такое предположение, чтобы понять его нелепость. Такая возможность противна всему характеру английской демократии. Англия могла некогда завоевывать территории дикие, или казавшиеся ей дикими. Но выступить в роли Наполеона, даже освободителя, было бы для нее моральным самоубийством. В этом и состоит благородная слабость демократий: для них закрыты многие пути и средства, которые естественны для фашизма.
По счастью, Европа не стоит перед дилеммой: свободное слияние двадцати народов — или их насильственное завоевание. Сила, необходимая для того, чтобы право воплотилось в жизнь, не обязательно принимает форму голого военного насилия. Она может иметь характер защиты, помощи, гарантии. Одни экономические преимущества союза с мощной империей могут склонить к нему малые государства, неспособные организовать свою хозяйственную жизнь. Но еще более могучим импульсом явилась бы защита от агрессора если бы эта защита давала реальные, а не бумажные гарантии. До сих пор мы видели лишь один счастливый пример: Грецию. Англия не завоевывала Греции и не подавляла ее внутренней свободы. Напротив, она спасла ее от завоевания бандами, организованными Москвой. Вот почему Греция представляет теперь единственный остров свободы на Балканах.
Гейла и право не являются несовместимыми. Напротив, разумная политическая сила всегда оформлена правом, живет и действует в правовой атмосфере. Лига наций юридически может, и, следовательно, должна быть обществом равных. Великие державы вовсе не нуждаются в юридических преимуществах, чтобы осуществить свою волю. Их фактическое влияние всегда увлечет за собой равноправных, но более слабых сочленов. До войны уже часть европейских держав — Бельгия, Португалия, Греция — ориентировались на Англию (как другие на Францию) в своей международной политике. Это не превращало их в вассалов, не умаляло их суверенитета. Во внутренней жизни зависимость от Англии не сказывалась ничем; Только политические насильники не выносят воздуха равенства. Им нравится ставить свой сапог на шею не только врагов, но и друзей.
Но, разумеется, чтобы общество равноправных наций стало реальной силой (отличной от Женевы или Сан-Франци-
240
ско), нужно, чтобы за ним, особенно на первых порах, стояла единая воля, берущая на себя ответственность. Совершенно немыслимо предоставить вопрос о войне, т. е. о существовании мира, на волю случайного голосования. Нельзя допустить, чтобы жизнь и смерть всех нас была в зависимости от одного голоса, скажем Чили или Сан-Доминго. Первая Лига Наций погибла потому, что ни одна из великих держав не взяла на себя ответственности — они сами были расколоты, — и «Общество Наций» плыло по течению, без руля и без капитана. В последний ответственный час, когда на весах судьба мира, кто-то должен бросить на эти весы всю свою мощь и всю свою волю, чтобы добиться подчинения слабых ради общего спасения. Греки называли это гегемонией. Гегемония не есть тирания. Это водительство, ответственность — необходимое условие объединения разнородных, разделенных, вчера еще суверенных сил.
Свобода Европы была бы спасена, если бы таким гегемоном явилась Британия. Родина нашей свободы, много веков пользовавшаяся ею для себя, в законном, но узком эгоизме, за последний век Британия явилась освободительницей мира. Свою империю, сколоченную насилием, как и все другие, она постепенно, перестроила в Commonwealth, в семью свободных наций. Эта задача, вполне законченная для всех доминионов, теперь решается в мире цветных, или вне-европейских народов. Вчера освобождены арабы, сегодня освобождается Индия. В Европе собственный интерес давно уже сделал Англию противницей всякой агрессивной великодержавности и, следовательно, защитницей малых наций. В своей Империи она создала такие свободные и равноправные формы сожительства народов, которые могут быть применены и к Европе, без посягательства на законную свободу ее народов. Россия тоже создала в Конституции СССР государственную форму, способную к бесконечному расширению. Юридически обе системы являются федерациями, весьма напоминающими друг друга. На деле, одна означает всеобщую свободу, другая — всеобщее рабство. Только политический кретинизм — весьма, правда, распространенный, — может уравнивать эти системы в общем имени «сфер влияния», или в схеме борьбы двух империализмов.
Но Англия не обнаруживает воли к гегемонии в Европе. Едва ли это объясняется непониманием своих интересов или демократическим безволием. Отсутствие воли, в данном случае, свидетельствует об отсутствии достаточной силы. Действительно, Британская Империя находится в состоянии медленного,
241
но все еще блестящего заката. Экономически, Англия давно уже дала опередить себя сперва Германии, потом Соединенным Штатам. Из этой войны Англия выходит почти бедной страной, исчерпавшей свои некогда богатые ресурсы. Это сила, которая может еще постоять за себя, сохранить свое достояние, но которой как будто не по плечу новое бремя.
До сих пор мы рассматривали Европу в географическом смысле, как независимый мир. В этом мире, действительно, остались только две великие державы, и соперничество между ними не оставляет никакой надежды для свободы народов. Но Европа давно уже перестала быть миром — культурным миром, — а недавно, в сущности с этой войны — перестала быть и средоточием мира. Ее культура еще господствует на всех континентах и морях. В этой культуре старый маленький материк еще остается мозгом мира. Но экономические и политические силы ее отхлынули за океаны. Как ни парадоксально это звучит в географических терминах, Америка сейчас является центром Европы — как культурного мира. Из этой войны Америка выходит ничуть не поколебленной, с возросшим экономическим и военным потенциалом, самым могущественным государством мира. От того, куда склонится ее политическая воля, зависят сейчас судьбы и Европы и мира.
Мы знаем, что официальное отношение Америки к миру наций выражается формулой: одна из «Трех Великих». Если бы ее отношения к каждой из двух остальных были совершенно одинаковы, дело единства мира было бы безнадежно: он распался бы на три вооруженных зоны, готовящихся к третьей, последней войне. Согласие между тремя невозможно; те, кто делают ставку на это согласие (официальная печать всего мира) строят на песке. Бумажное здание, спроектированное в Сан-Франциско, построено на заведомо ложной предпосылке, что все «Три Великих» одинаково нуждаются в мире и готовы отказаться от агрессивной войны. Конечно, и Гитлер отказался бы от войны, если бы без нее мог получить власть над миром. Одна из трех стремится к той же цели, готовая на все: менее всего ее волнует вопрос о жертвах — жизнь своих и чужих граждан для нее ни почем. Единственный вопрос — лишь в наличности технических средств. Другая жаждет мира, не ставя никаких завоевательных целей; она желает сохранения приобретенного, готовая и здесь благоразумно отступать. Третья стоит на распутье. Еще вчера защищенная двумя океанами, она жила в иллюзии безопасности. Рузвельт разбудил «е, указав на далекий пожар, который рано или поздно подойдет и к ее бере-
гам. Запомнит ли она этот урок? Его смысл в том, что судьба Америки решается в маленькой далекой Европе. Там сталкиваются головы двух «Великих», тела которых покрыли все остальные материки. Может ли для Америки быть безразличным, какая из двух империй — зона рабства или свободы — устоит в грядущем столкновении?
Но, ведь, все дело в том, чтобы предупредить это готовящееся столкновение? Да, конечно. Но это удастся лишь в том случае, если Америка встанет всецело и безоговорочно на сторону силы миролюбивой и свободолюбивой. Объединение сил двух демократических империй сосредоточит в их руках такую мощь, против которой всякая агрессия обречена. Диктатор вернется в свои границы, займется мирным строительством, но лишь тогда, когда повсюду, на своих рубежах и за ними, будет видеть единую и для него непреодолимую мощь двух великих демократий.
Понимает ли Америка свою историческую миссию? Не вся, конечно. Есть американцы таких не много — которые готовы идти с Москвой против Лондона: одни в надежде торговых барышей и унижения старого конкурента; другие от «детской болезни левизны» и безнадежной политической слепоты. Многие — это более типично — не желают связывать себя ни с кем из двух «союзников», поддерживая то одного, то другого в зависимости от чисто-американских интересов. Это позиция, на которую перешел почти весь былой изоляционизм. Она кажется национально обоснованной, но это лишь иллюзия близорукости. Она содействует мировой анархии, распаду мира между тремя сферами и подготовке новой войны. «Великие Три» разделены противоречиями слишком глубокими, чтобы изжить их частными уступками: они не могут согласиться даже в вопросе о мундирах немецких военнопленных. Система безопасности, построенная на фикции этого согласия — карточный домик. Хартия Соединенных Наций имеет только декларативное значение. Надо поскорее забыть об этой утопии примирения тигров и ягнят и обратиться к единственной очередной задаче: союзу Двух и объединению вокруг него только миролюбивых народов.
У среднего американца существуют большие психологические препятствия для сговора с Англией. Они проистекают из различия воспитания и светских манер, а также из недостаточного знания современной истории. Для многих последние десятилетии демократического развития Англии прошли неза-
243
меченными, и Георга VI все еще путают с Георгом III. Но гораздо красноречивее этих по существу семейных трений простой факт: за последнюю четверть века Америка дважды вступала в войну, приносила большие жертвы, — по существу, ради спасения Англии. Обратно, война против Англии психологически представляется для Америки невозможной — чего нельзя сказать ни о каком ином государстве. Моральные ценности, вложенные в последнюю войну у обеих англо-саксонских наций — одни и те же. Что же касается материальных интересов, то здесь, конечно, расхождения имеются на каждом шагу, но они существуют и между отдельными штатами Америки, между ее Севером и Югом, Востоком и Западом. Современная Англия экономически не соперник Америки, и сильнейший союзник может быть великодушен.
Если эта политическая линия победит в Америке, то вся изложенная выше черновая схема Британской гегемонии^ в Европе нуждается в расширении и корректуре. При поддержке Америки, Англия остается ведущей державой в Европе, как Соединенные Штаты в Западном полушарии. Но эти две сферы (возможно, и две федерации) необходимо объединяются в союз демократий или Атлантическую Федерацию, в которой первое место естественно будет принадлежать Америке. Такая федерация может осуществить внутри себя все то, что остается сегодня утопией для Соединенных Наций: единство международной политики, армии и некоторых общих политических основ демократии. К ней примкнут и доминионы Британской Империи и союзники Америки на других континентах (Китай). Атлантическая Федерация, хотя и не всемирная, будет недосягаемой ни для какого врага. Она сделает войну невозможной. Если же ей удастся обеспечить внутри себя новый экономический порядок и подлинную социальную демократию, то ее влияние распространится далеко за ее политические границы. Тогда можно надеяться, что солнце свободы растопит и «вечный полюс» России.
* * *
Если ближайшие годы увидят разрешение военно-международной проблемы, и человечество, объединенное вокруг ведущих англо-саксонских демократий, сможет разоружиться и вернуться к мирному труду, какие огромные задачи ожидают его! Международный кризис лишь наиболее острое выражение социального недуга, которым болеют все без исключения демократии. Социально-экономический вопрос уже сейчас стоит во
244
всей своей грозности перед Европой; завтра встанет перед Америкой. Все наши привычные, завещанные предками ways of life, заводят в тупик. Или социальная реформа — или гражданская война, которая в демократии наших дней заканчивается фашизмом, каков бы ни был ее исход. К счастью, здесь Англия указывает дорогу. Нужно только желать, чтобы пути Англии и Америки не разошлись слишком далеко.
Но пусть и социальная проблема решена. Пусть рационализировано мировое хозяйство, безгранично увеличились производительные силы, удовлетворены материальные потребности масс. Пусть само разделение на элиту и массы отмерло, и бесклассовое общество стало реальностью — все это еще не спасает свободы и демократии… Мы видели, что болезнь нашей цивилизации кроется глубже, в самом восприятии мира и жизни. Социализм отвечает только на вопрос «Коммунистического Манифеста». Но кто ответит на крик Ницше, Бодлера, Достоевского, Киркегарда? Демократия не может существовать без демократического сознания. Это сознание подорвано уже сто лет тому назад. Больное общество вырабатывает яды фашизма непрерывно, с каждым новым своим поколением. В любой момент «ретроградный господин» Достоевского или Наполеон из Ноттингхиля может изорвать хрустальный дворец, воздвигаемый с такими усилиями и жертвами.
Бог почему последняя борьба за свободу происходит в глубине, духа. Здесь даются сражения, почти невидимые для современников, но исход которых определит судьбу мира через столетие, Это не мешает их актуальности и для наших дней. Напротив, новое, в свете нашего исторического опыта, религиозное обоснование демократического идеала, есть сейчас самая важная задача свободолюбивой и социалистической мысли.
245
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
