13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Зачем мы здесь
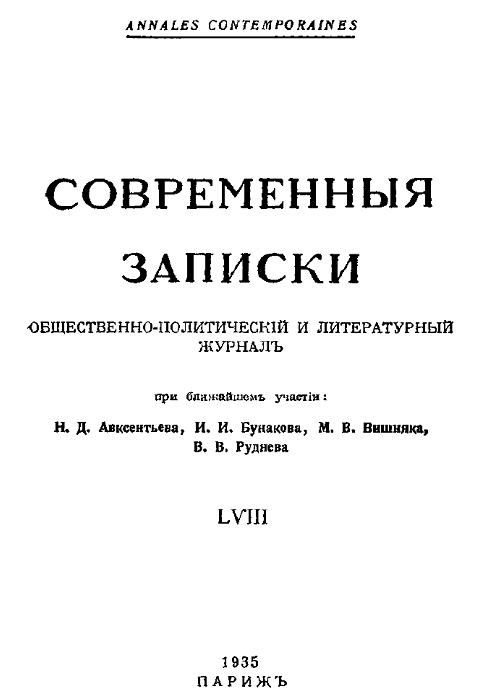
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?
Блаженни изгнани правды ради.
За последние годы эмиграция живет с очень пониженным самосознанием. Это прежде всего относится к ее «левому» сектору, который сохранил большую трезвость мысли и чувство действительности. Постоянные разочарования подорвали веру в свои силы и даже в смысл своего дела. Здесь чаще всего говорят об эмиграции, как о «несчастье». В пореволюционном секторе несчастье эмиграции становится уже болезнью, иногда грехом: «эмигрантщина»! Преодолевать в себе «эмигрантщину» считается первым условием политического реализма. Поспешим заранее согласиться: да, конечно, эмиграция несчастье. Конечно, она несет с собой предрасположение к духовным и душевным заболеваниям, связанным с пребыванием в искусственной среде, с оторванностью от родной почвы. Идолы, призраки, тени — населяют полумрак, в котором мы живем. Борьба с этими призраками, постоянное бодрствование, духовная гигиена — составляют первый долг и первое условие здоровой жизни для каждого из нас. Все это так. И, однако: только ли болезнь, только ли несчастье? Взятый нами эпиграф дает смелость ответить отрицательно. Нет, не только несчастье, но и «блаженство», не только болезнь, но и подвиг.
Когда-то мы все повторяли эти слова. Но потом они выветрились, утратили смысл. Когда мы слышим их — чаще всего в тех устах, которые меньше всего имеют на них право — они звучат фальшиво. Но правда, заключенная в них, не перестала быть правдой оттого, что она захватана фарисеями. Я вовсе не хочу поощрять эмигрантское самодовольство, которого у нас тоже достаточно. Речь идет не о нас, а о нашем призвании. Чем выше оно, тем больше приходится краснеть за себя. Именно оно дает мерило для суда и самоосуждения. Но без него наша жизнь — я говорю об общей, общественной
433
жизни в эмиграции — теряет всякую реальность. Без него начинаешь чувствовать себя в царстве теней.
Сейчас мы вступаем в один из решающих моментов нашей жизни. Многие — особенно молодые — пересматривают сейчас заново вопрос в своем самоопределении. Зачем мы здесь? Почему не на родине, чтобы работать для ее восстановления, чтобы защищать ее от готовящейся военной грозы?
Скажу заранее: для того, кто отказывается от нравственного критерия, кто ставит свою деятельность в зависимость от исключительно утилитарных, политических или национальных соображений, трудно оправдать пребывание в эмиграции. Это пребывание для большинства означает вынужденное бездействие, медленное умирание. Во имя чего приносятся эти жертвы?
Слово «правда» может дать ответ — для того, кто не совсем забыл значение этого слова. Правда на пути изгнания противопоставляется участию в общей неправде, в общем неправедном деле, в строительстве, в работе, даже в подвиге, в основу которого положена коренная неправда. Понять правду изгнанничества нелегко русскому человеку, привыкшему к круговой поруке, к общей ответственности. Достоевский и вся связанная с ним линия русской совести, кажется, прямо призывает к участию в общем грехе, возлагая на всех равную и общую ответственность. В русской совести и в русском религиозном сознании есть этот болезненный уклон, который можно было бы грубо назвать соборностью общего греха.
Оставшиеся в России только потому и могут, как-никак, жить и работать, что они сняли с себя личную ответственность — конечно, в известных, для каждого особых, пределах. Кто этого не смог и не захотел сделать, те выбрасываются из жизни — в тюрьму и ссылку — идут путем изгнания. Их изгнание бесконечно тяжелее нашего: оно приближается к мученичеству и нередко становится им. Но в идее это все тот же путь, путь изгнанников за правду: недаром существует в России термин «внутренняя эмиграция».
Какой смысл имеет этот подвиг? На этот вопрос ответим вопросом же: должен ли подвиг иметь смысл? Не является ли последний творческий акт человека — в святости, в подвиге, в жертве — совершенно бескорыстным и не имеющим смысла вне себя и ниже себя? Религия не столько подчиняет его себе, сколько уясняет его природу, природу абсолютного. Вся жизнь человека не имеет другой цели и ценности, как его жертва и способность на жертву. Оправдание нации — только в осуществленных ею в истории ценностях, и среди них героизм, святость, подвижничество имеют, по крайней мере, такое же онтологическое значение, как создание художественных памятников или научных систем. Вечный спор о первенстве Ахилла или Гомера не может быть решен односторонним выбором.
Спускаясь ниже, в область социальных оценок, мы говорим:
434
известные акты спасают честь нации. Исход из большевистской России миллионов людей, не пожелавших подчиниться деспотии Ленина, каковы бы ни были частные и личные мотивы у каждого из них, спасает честь России — в истории. Иным теперь кажется, что, оставаясь на родине (и предавая свои святыни), можно было принести больше пользы. Но не больше ли душа родины ее сегодняшней пользы? Что останется жить в веках — и в вечности: прибыль культурной продукции или творческий акт, хотя бы в форме жертвы?
Вечный символ правды, живущей в нации, несмотря на грешность ее исторических путей: «семь тысяч мужей, которые не преклоняли колен перед Ваалом». Не преклонить колен всего лишь отрицательный жест. Оппортунисты всех цветов, хотя бы и церковные, никогда не поймут его смысла. Но эти семь тысяч спасают народ, спасают его историю — от вечного забвения. Это они делают его достойным «вечной памяти».
Но утверждая правду изгнанничества, можно ли отрывать его от правды, ради которой оно принимается? Сколько из нас покинули свою родину, просто спасая свою жизнь, просто потому, что не было другого исхода. Жизнь в России так ужасна, так приближается к популярному представлению об аде, что о бегстве из нее мечтают не только самые сильные, но и самые слабые духом. Горечь личных обид может переходить даже в ненависть к своему народу, в потребность отрезать себя от него навсегда — в национальном сознании, в религии. Столько различных биографий покрывается общностью внешней судьбы! Недаром приобрело право гражданства различение эмиграции и беженства.
Но если взять даже чистую эмиграцию, стойкую, принципиальную, не„ сомневающуюся в своей «правде», действительно ли ее изгнание непременно является «блаженством»? Легко быть изгнанным за правду; но трудно за правду жить в изгнании. Правда — не статуи богов, которые можно унести с собой из горящей Трои. Она должна быть постоянно оживляема, заново переживаема в сердце и сознании. Иначе она мертвеет, оставляя лишь шелуху старых слов. Даже самые великие и вечные слова становятся ложью в тупом и равнодушном произношении. Родина, свобода, демократия, царь и т.д. — пламенные слова, некогда звавшие на подвиг и приведшие в изгнание. Но как потускнели многие из них за 15 лет! То вечно ценное, что ощущалось за каждым из них, трепетное биение жизни в них — отлетает. Его нужно постоянно возвращать и воскрешать, быть может, находить для него новые слова, потому что политическое слово недолговечно. Сплошь и рядом отрицательные инстинкты и страсти оказываются более могучим стимулом к действию. Люди думают, что они живут любовью к России, а на деле, оказывается — ненавистью к большевикам. Но ненависть к злу, даже самая оправданная, не рождает добра. Чаще всего из отрицания зла родится новое зло. Вот почему «изгнанничество за правду» ста-
435
новится труднейшим подвигом и немногие могут выдержать этот искус - изгнания.
Признаемся: трудное для политика оказывается более посильным рядовому человеку, который в тяжком физическом труде зарабатывает свой кусок хлеба. Разумеется, если человек достаточно силен духом, не спился, не идет ко дну, что тоже не редкость. Но именно здесь, в низах эмиграции, в глухой провинции, на заводах и хуторах, легче всего найти тех настоящих, прямых и чистых русских людей, встреча с которыми порой заставляет вспыхнуть ярче в сердце память о родине. Для них Россия уж, конечно, не только большевики. Они несут на себе ее нравственный образ, отпечаток ее скромной и доброй красоты. В шуме столиц, встречаясь с измученными, нервными, озлобленными людьми и думая о том, что в России жизнь не менее калечит людей, иногда впадаешь в слабость думать, что русский человек, каким мы его знали когда-то, исчез безвозвратно. Потому так и дороги эти встречи с безымянным подвижничеством трудовой эмиграции. И если были у них — а у большинства, конечно, были — грехи перед Россией: отрыв от народа, классовое презрение к «хаму», предрассудки сословия, касты, партии — неужели они не искуплены пятнадцатилетней каторгой, которая для многих из них проходит в условиях не менее тяжких, чем, например, для декабристов и для многих политических каторжан старого времени? Теперь, когда чаша их страданий переполнена до краев, когда их гонят из страны в страну, лишая самого священного и неотъемлемого права человека — права на труд, т.е. на жизнь, — хочется подольше остановиться мыслью на этих тружениках, которые ближе всего к идеалу блаженного изгнанничества.
Однако те из нас, которые принадлежали к «ор- дену интеллигенции» или к активной России, не могут ограничить своего изгнаннического служения безмолвным и физическим трудом. Да и многие из молчащих не согласны на такое самоограничение. Для большинства изгнание само по себе — не служение родине, а лишь условие для этого служения. Чем заполнить быстро катящиеся, пустые годы? Что можем мы сделать для России или дать ей отсюда? Законный вопрос, но который является источником бесконечных ошибок, блужданий и даже новых преступлений перед Россией.
В своем активном самосознании эмиграция распадается на три группы: военную, политическую и культурную. Каждая из них мечтает по-своему содействовать освобождению России и строительству новой жизни: войной, политической организацией, творчеством русской культуры.
Сегодня мы взялись за перо, чтобы поговорить об этой последней форме служения России. Мы считаем ее главным, если не единственным оправданием нашего деятельного бытия. Лишь вскользь придется коснуться двух первых форм активности, неудача которых лишь подчеркивает основную линию нашего призвания.
436
Ядро эмиграции было составлено из отступившей и прошедшей через Галлиполийское сидение белой армии Врангеля. Это обстоятельство до сих пор определяет духовную структуру самых активных ее слоев. Они чувствуют себя прежде всего воинами. Армия, разоруженная физически, не разоружилась морально и живет мечтой о военном походе против красной России. Весна за весной несли крушение этих иллюзий, которые однако возрождаются с новой силой. Надежды на интервенцию угасли. Но возродились надежды на мировую войну, которая в общем пожаре и крушении может принести и конец большевизму. Несомненная реальность военной опасности, особенно сгустившаяся за последнее время, поддерживает живучесть воинского духа эмиграции. Это не мешает ему быть одним из главных источников призрачности нашего бытия. Тысячи людей не желают серьезно отнестись к тем новым трудовым и профессиональным условиям, в которые поставила их жизнь. Не монтер а поручик, не шофер, а полковник. Сознание приковано к ячейкам старого, давно утонувшего мира. Люди, еще полные сил, живут одним воспоминанием. Суровый и поучительный опыт жизни проходит бесследно в сознании. Даже техническая выучка нередко забрасывается все из того же презрения к настоящему. Говорят — и это, кажется, верно, — что крепкая полковая спайка поддерживает людей на известном моральном уровне: дает недостающую социальную дисциплину. Но искупает ли это преимущество тот основной самообман, на котором строится жизнь? Война может вспыхнуть, большевики могут свалиться, Россия может развалиться тоже — до границ северной Великороссии. Все это в пределах исторических возможностей. Но чтобы была восстановлена старая императорская армия и чтобы слесаря с 15-летним стажем заняли в ней командные посты, — это выходит из пределов самой смелой политической мечты.
К тому же химера эта не так уже невинна. Несчастье воинского сознания начинает порой становиться грехом. Спекуляция на всеобщую войну есть одна из типичных форм извращения совести. Ведь война возможна не под белым, освободительным знаменем. Для всего мира война, бесспорно, означает страшное бедствие, может быть, гибель. Расчет на политическую удачу, купленную такой ценой, есть расчет Ленина: мировая война — пролог к революции. Здесь в эмиграции, — как везде, в стане побежденных и раздавленных, — поднимаются духовные миазмы. «Чем хуже, тем лучше». Это путь обольшевичения национальной идеи. Большевистская психология возможна ведь при всяком политическом содержании.
Чем реальнее становится перспектива будущей войны, тем сомнительнее для многих из воинов, не утративших нравственного и национального чувства, их участие в ней. На чьей стороне сражаться? За большевиков или за врагов России? Самый вопрос мучителен. Уже теперь он раскалывает воинскую массу на два непримиримых ста-
437
на. Сражаясь в армиях обеих коалиций, бывшие галлиполийцы будут фактически драться друг против друга. Стоило блюсти так долго корпоративные традиции и на оружии основывать свое русское единство, чтобы закончить его в междоусобии?
Столь же печальны итоги на политическом фронте эмиграции. Огромные усилия, воля, страсть, жертвенность были затрачены — с ничтожными или отрицательными результатами. Ни политическое объединение эмиграции, ни реальная борьба с большевиками не выходят из области фразеологии. Борьба исчерпывается внутренним нервным кипением, и не находящие выхода политические страсти направляются на своих собратьев по несчастью. Основная причина политического бессилия эмиграции — в пропасти, которая легла между ней и Россией. Выше искусственных стен, возведенных цензурой и ГПУ, поднялись психологические перегородки, делающие взаимное понимание почти невозможным. С нашей стороны — долгое время умышленное закрывание глаз, подмена реального образа России созданной нами грубой схемой. Теперь, когда познание России сделало большие успехи, остается психологическое непонимание, моральная невозможность найти общий язык с новой Россией. С той стороны — тоже стена лжи, но за ней органическая ненависть новых, поднявшихся классов, ко всему, связанному со старой Россией. Даже представителей старой интеллигенции, с которой у нас мог бы найтись общий язык, отделяет от нас моральное отчуждение, проистекающее из ревнивого культа своих страданий. Там нас считают не изгнанниками, а дезертирами, уклонившимися от общей чаши всенародного горя.
В этой отчужденности от своего народа современная русская эмиграция напоминает французскую времен великой революции и глубоко отличается от старой русской, польской или ирландской. Причина совершенно ясна. Эмиграция предреволюционная объединяется с революционными слоями нации в общем деле: более того, она признается авангардом. Она дышит и за рубежом тем же революционным воздухом, которым дышала на родине. Но социальный катаклизм, каким является всякая глубокая революция, до такой степени меняет все условия жизни и сознания масс, что у врагов режима по ту и другую сторону границы уже нет общего языка.
За этим общим коэффициентом разноязычия — начинаются своеобразия. Отвлекаясь от чисто политического содержания, можно было бы разделить эмигрантские и политические группировки на три типа, по их структуре. К первому мы отнесли бы те группы, которые просто продолжают или влачат свое дореволюционное бытие. При отказе от всякой политической активности они превратились в клубы ветеранов — соответствующие собраниям дворян, институток и кадетов, столь характерным для вечерней программы нашего дня. Их бесполезность искупается лишь их безвредностью.
Не таковы группы второго типа, которые, равнодушные к по-
438
литическим программам, объединяются на принципе так называемого «активизма». Их генеалогия восходит не к старым партиям, а к той же белой армии, с ее «непредрешенческой» идеологией и с ее методами непосредственного боевого действия. Естественные на войне, методы эти оказываются сплошь и рядом чистым безумием в политике. До сих пор мы не видели ни одного осмысленного политического акта, вышедшего из этой среды. Незнание России и нежелание знать ее здесь доходит до геркулесовых столбов. Оттого почти все проявления этой своеобразной активности лишь содействуют укреплению диктатуры и разобщению эмиграции с русским народом. У ГПУ нет лучших бессознательных пособников в эмиграции, чем этого сорта активисты.
Третий тип составляют группировки «пореволюционные». В этом секторе эмиграции усердно, хотя и недостаточно критически, изучают современную Россию. Психологические преграды между ними и новыми поколениями в СССР падают. Правда, большинство пореволюционных группировок страдают духом утопизма, который, при всем антагонизме к отцам, указывает на кровную связь со старой русской интеллигенцией. Этот утопизм иногда сводится к культу таких кумиров, которые едва ли смогут найти почитателей в России. Остается вопрос: найдут ли пореволюционеры в себе достаточно трезвости и любви к России, чтобы пожертвовать явно чуждыми России символами, сохранив драгоценный дар жертвенного горения? Если «да», то наступит момент, когда эмигрантская политика сольется с общерусской.
В ожидании лучшего будущего, настоящий итог политической активности не велик. Нет, не здесь заслуга эмиграции. Историк революционной России может пройти мимо этой политической страницы. Во всяком случае, до сих пор она не вплела лавров ни в чей венок.
Остается третья сфера эмигрантской деятельности — та, которая может похвалиться подлинными достижениями и которая несет в себе достаточное внутреннее оправдание. Это сфера культуры.
Быть может, никогда ни одна эмиграция в истории не получила от нации столь повелительного наказа — нести наследие культуры. Он дается фактом исхода, вольного или невольного, из России значительной части ее активной интеллигенции. Он диктуется и самой природой большевистского насилия над Россией. С самого начала большевизм поставил своею целью перековать народное сознание, создать в новой России, на основе марксизма, совершенно новую «пролетарскую» культуру. В неслыханных размерах был предпринят опыт государственного воспитания нового человека, лишенного религии, личной морали и национального сознания, опыт, который дал известные результаты. Обездушение и обезличение новой России — факт несомненный. Творимая в ней, в масштабах грандиозных, техническая, научная и даже художественная культура как будто окончательно оторвались от великого наследия России.
439
И вот, даже если бы вся эта творческая (или, по крайней мере, динамическая) энергия шла непосредственно из глубин народных и отвечала целиком потребностям сегодняшнего поколения, она не исчерпала бы, конечно, всей полноты русской культуры. Но дело обстоит много хуже (или лучше). Естественное творчество национальной культуры перехвачено, подверглось грубой хирургической ампутации и организованно в самых жестоких формах государственного принуждения. Не отрицаем того, что многое, очень многое из культурных проявлений в России удовлетворяет потребностям нового советского человека. Но сколько его потребностей не могут быть удовлетворены! Сколько течений мысли, сколько мук совести, сколько скорбных размышлений безмолвно замирают в шуме коллективного строительства. И вот мы здесь, за рубежом — для того, чтобы стать голосом всех молчащих там, чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа. Не притязая на то, чтобы заглушить своими голосами гул революционной ломки и стройки, мы можем сохранить самое глубокое и сокровенное в опыте революционного поколения, чтобы завещать этот опыт будущему, чтобы стать живой связью между вчерашним и завтрашним днем России. В какой-то, может быть в очень малой мере, но эта задача выполняется.
Достаточно просмотреть список книг, вышедших за рубежом, посетить книжную выставку, походить по мастерским русских художников, послушать русские концерты, чтобы сказать: да, работа идет, люди не сидят сложа руки. Среди литературной продукции эмиграции отберется с десяток книг, на которых будут воспитываться поколения в России. Эти книги там не могли быть написаны. Они выражают коренной, временно прерванный, поток русской мысли. Они способны утолить духовную жажду России, когда эта жажда проснется, или получить возможность своего удовлетворения.
И потом их совсем не так мало, этих больших книг, принимая во внимание необычайно трудные условия, при которых удается здесь дистилляция духовной эссенции. На этих условиях хочется остановиться, чтобы еще более подчеркнуть заслугу творческих усилий и достижений.
Русская культура за рубежом — выше известного уровня — живет в безвоздушном пространстве. Писатель не находит ни издателей, ни критиков, ни читателей. Книги выходят в порядке чуда, — или жертвы. Пишутся они не для конкретного круга читателей, а для России, для мира, для вечности. Не получая ничего, хотя бы в виде отражений от окружающей среды, писатель обречен слушать свой собственный внутренний голос и лишь чрез него сообщаться с живым, но для него как бы подземным потоком русской и вселенской культуры. Это одиночество несет с собой неизбежную горечь сомнения в нужности своего дела, иногда чувство близкое к удушению.
Как и почему образовалась эта культурная пустота вокруг носителей русской культуры за рубе-
440
жом? Уже самый социальный состав эмиграции менее всего пригоден для создания питающей культуру среды. В России серьезный читатель составляется из учащейся молодежи и учительства, — шире, из огромной армии трудовой интеллигенции. Трудовая интеллигенция, за малым исключением, осталась в России, при своем деле. Русское студенчество здесь, в большей части, растворяется в иностранной среде, не читая по-русски. Остальные, проникнутые практицизмом, живут профессиональными, может быть, еще политическими интересами. Им не до книг на вечные темы. Что касается широкой массы эмиграции, то она, как потребительница культуры, довольно резко делится на два круга: военный и беженский. В беженстве, хотя бы по своей покупательной способности, культурный спрос определяют буржуазные элементы, ищущие в культуре легкого наслаждения. Естественно, что патриотический лубок и интернациональный роман-фельетон определяют ходкий спрос литературного товара. Иногда оба стиля соединяются под обложкой одного журнала или в «творчестве» одного автора. Понятно, почему настоящий писатель говорит через головы живых людей — в пространство и время.
Разумеется, эти пессимистические оценки не в одинаковой мере относятся к художественной литературе и к философской и научной мысли. Большой художник — хотя далеко не всякий — легче проложит себе дорогу в любую социальную среду. Эмиграция насчитывает в своих рядах двух-трех писателей первой величины, которые здесь не увяли, но дали свои самые зрелые и совершенные плоды. Конечно, они продолжают дореволюционную традицию. Но она была неполна без этого последнего штриха. Старый опыт отстоялся, закалился в страдании. Пережитое сообщило старым литературным формам особую глубину. Это трагическое искусство достойно великой русской трагедии. Оно будет иметь своих читателей и тогда, когда наша революция станет далекой исторической сагой.
Совершенно в других условиях живет за рубежом русская наука. Здесь неуместно говорить о трагедии — разве о трагедии личного существования. Невероятно трудны материальные условия для одних, вполне отсутствует русская читательская среда, зато для многих открылись возможности работы в рамках европейской (или американской) культуры. Наука международна по самой идее. Нелегко отказаться от родного языка, но иностранная форма сообщает гораздо большую эффективность русской научной мысли. Влияние этой мысли в мировой науке сильно возросло со времен революции.
Однако не всякая научная дисциплина легко допускает чужую языковую форму. Труднее всего — Geisteswissenschaften — науки о духе, прежде всего о своем, национальном духе и его откровениях. Но именно о них думаешь прежде всего, говоря о культурном значении русской эмиграции. Для нас речь идет прежде всего о русской философии, от которой, с XX века, неотделимы русское богословие
441
и — в наши дни — историко-философская мысль.
И философская и религиозная русская мысль в изгнании не переломились. Они продолжают творчески, развивая и углубляя, традицию, прерванную революцией. Это не линия эпигонов, а сама «акме» большого движения. В самом деле, в первом десятилетии нашего века в России, из предпосылок немецкого идеализма и символизма едва начала складываться совершенно оригинальная русская школа философии, теоретической и религиозной одновременно. Едва намечены были вехи нового пути. Революция ничего не отменила в постановке этих проблем. Она просто смахнула их, уведя молодые поколения России в реакционную глушь 60-х годов. Здесь, в изгнании, совершается эта работа, которая призвана утолить духовный голод России. Отсюда идут пути в русское будущее. Правда, известные моральные и культурно-общественные предпосылки зачинателей этого движения XX века теперь чужды молодежи — за рубежом и в России, — воспитанной в обстановке военного и революционного варварства. Отчуждение отцов и детей на духовном фронте так же сильно, как и на фронте политическом. Но самое содержание этой мысли выходит далеко из границ психологического ее переживания. Когда пройдет революционный и контрреволюционный шок, вся проблематика русской мысли будет стоять по-прежнему перед новыми поколениями России.
Итак, дореволюционная традиция, оказавшаяся бесплодной в политике, еще плодотворна в культуре духа. Это не должно нас удивлять. Политика целиком связана с меняющейся обстановкой. Самый факт революции сделал невозможными все старые линии поведения. Развитие духа не знает таких перерывов. Однако революция поставила и духовную проблему — прежде всего проблему России — которая не стояла перед довоенным поколением. Каков итог собственно духовной реакции на революцию? Эта реакция возможна в двух типах: или в виде прямого отрицания, духовной контрреволюции, или в виде того условного приятия революции — по крайней мере, ее проблемы, которое у нас получило несколько странное имя — пореволюционности.
Два слова о духовной контрреволюции, или реакции в обычном смысле слова. А priori мы не склонны отрицать законности такой установки. Прямая борьба в мире идей, борьба на истребление столь же неизбежна, как и в материальном мире. Опыт истории учит, что эпохи реакции бывали нередко чрезвычайно плодотворны; что из глубин отрицания рождались новые слова.
В сущности, из радикальной реакции против французской революции выросли все живые силы, которыми движим был XIX в.: романтизм, историзм, национализм, даже социализм. То же можно было бы сказать о религиозной католической реакции против реформации в XVI веке. Революция почти всегда полагает предел одному кругу идей, до конца пройденному. Новое зачинается с отрицания старого. По-
442
литическая реакция таким образом соответствует революции духовной.
Нельзя не спрашивать себя с удивлением, почему русская революция не дала своих Де-Местров. Почему так убог и скуден идейный арсенал нашей Вандеи? Конечно, не по отсутствию талантов в эмиграции и не по недостатку реакционных настроений. Но когда видишь, как плоски становятся и даровитые люди, защищающие — казалось бы, совсем не безнадежно — «правое» дело, то это требует объяснения.
Объяснение это, нам думается, следует искать в том факте, что реакция на русскую революцию упредила намного ее торжество. Русская революция растянулась чуть не на полтора столетия, если говорить о времени ее созревания и идейного наступления. Долго она жила чужим опытом и чужим умом. Не удивительно, что противление русского ума ее напору сказалось давно и с большой силой. Достоевский, Леонтьев, Розанов — все это ответ на русскую революцию. Но этот ответ давно уже, хотя не без труда, вошел в русское культурное сознание. Время сгладило остроту полемического упора. Мы ценим у наших великих «реакционеров» не отрицание их, а глубину положительных начал, пригодных для философского и социального строительства. Словом, они для нас давно уже «пореволюционны». Творческая мысль не может жить повторением найденных, хотя бы и острых формул. Антиреволюционные мысли Достоевского теперь могут подновляться лишь площадной грубостью выражения. Так и в контрреволюции, как в самой революции Октября, Россия живет очень старым запасом. Ведь и большевикам не удалось до сих пор перешагнуть за порог 60-х годов, в которых они духовно пребывают.
Есть и другое обстоятельство, которое чрезвычайно неприятно для духовного творчества реакции: это европейская духовная атмосфера. Нельзя не видеть, что «буржуазный» строй потерял почву под ногами. Все живое в Европе отвернулось от него и, на разных путях, ищет выхода из его тупиков. Сейчас невозможна принципиальная реабилитация капитализма, как возможна была хотя бы идейная защита абсолютной монархии в начале XIX века. В этом вся разница эпох. Самые остроумные и талантливые русские экономисты и социологи, которые, отталкиваясь от коммунизма, ищут оправдания погибшего в России хозяйственного строя, оказываются на Западе в духовном одиночестве, — во всяком случае, в очень сомнительном обществе. Это не может не подрезывать крыльев.
Иное дело мысль пореволюционная. Представленная главным образом молодым поколением, лишенным школьной выучки и общей культуры, ориентированным практически, она естественно не в силах развить всех своих возможностей. В сущности, лишь евразийство идейно себя осуществило. Ему мы обязаны оригинальной, хотя и односторонней, постановкой вопроса о судьбе русского исторического процесса.
443
Поставленная евразийцами тема — Россия между Востоком и Западом — не перестает будить нашу мысль. Это исторический отклик на парадоксы рус- кой революции. В свете новых идей пересматривается весь материал русской культуры. Возможно, что надолго и в России историко-философские исследования, освободившись от плена марксизма, будут стоять под этим знаком. Но уже сейчас несколько книг, обновивших заброшенную со времени славянофилов философию русской культуры, написаны в эмиграции. Пореволюционная историософия вместе с дореволюционной философией и богословием — это то, что эмиграция принесет в Россию, как живой фермент, который поднимет и заставит бродить ее огромные, но омертвевшие культурные силы. Это не малое честолюбие для нищих, бездомных, гонимых изгнанников. Но это законная наша гордость и утешение, на которое мы имеем право после горестного крушения нашей политической мечты.
Мы живем в ужасное, но великое время. Исторические события и катастрофы, помимо своего прямого политического и социального смысла, имеют всегда и другой, едва ли не более важный: это вызов духу, требование ответа и потому момент в жизни — национального или общечеловеческого — духа. Для всего духовного бытия России вопрос первостепенной важности: какова ее внутренняя реакция на знамения нашей апокалиптической эпохи? Но силы, подобные стихийным, сделали невозможным свободное выражение русского сознания внутри России. Все, что доносится оттуда, ни в какой мере не стоит в уровень с запросами грозного века. Может быть, примириться с тем, что наше поколение так и не даст отвбта, что лишь со временем онемевшая Россия обретет свой голос? Но тогда свежесть восприятия, точность опыта будут утрачены, подменятся книжным и деформированным знанием. И вот нам здесь, за рубежом, выпала высокая честь и бремя подать голос России — бросить его хотя бы в пространство, в пустоту (где ничто не пропадает).
Чтобы этот голос был чистым и не обманул того, кто через пространство и время его поймает на неведомую антенну, наш голос должен быть свободен. Свободен от всякой оглядки на мнимое «общественное мнение», на призрачные «массы», на несуществующую ответственность.
Сейчас, после старой российской безответственности, мы больны совестью. Но колесо обернулось на 180°. Наше слово раздается в пустоте. У нас нет ответственности, кроме как перед Богом и своей совестью. Мы не знаем, какие выводы будут сделаны из нашей правды. Не знаем и не должны знать. Редко в истории мысль имела право на такую свободу: право, завоеванное последней нищетой, бездомностью, изгнанием.
444
Страница сгенерирована за 0.06 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
