13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Введенский Александр Иванович
Введенский А.И. О пределах и признаках воодушевления
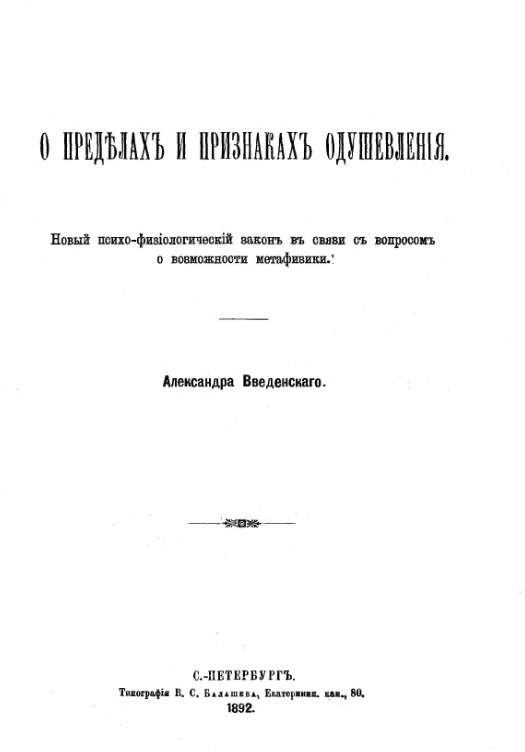
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Настоящее исследование относится к области критической философии. Поэтому оно ведется в предположении неразрешимости одними теоретическими путями таких вопросов, как, например, о смысле мироздания, одна ли материя порождает душевную жизнь, или же, наоборот, первая сама является существующей только благодаря существованию сознания, а без него ее не было бы, и т. п., словом, в предположении неразрешимости всех вопросов, выходящих за пределы возможного опыта. Задача исследования — определить, как именно каждый из нас проверяет свое убеждение, что, кроме него, есть душевная жизнь и у других существ, хотя можно наблюдать не ее самое, а только сопутствующие ей телесные явления. Результаты же могут быть сведены к следующим положениям: вследствие некоторых особенностей в деятельности нашего познания ни одно объективно наблюдаемое явление не может служить признаком одушевления, так что душевная жизнь не имеет никаких объективных признаков; поэтому, если мы будем ограничиваться одними a данными внутреннего и внешнего опыта, воздерживаясь при их обсуждении от всяких метафизических предпосылок (как материалистических, так и спиритуалистических), то нельзя будет с достоверностью решить вопроса о пределах одушевления; последнее позволительно всюду и допускать и отрицать (употребляя то или другое предположение в смысле регулятивного принципа), смотря по тому, что окажется более удобным для расширения нашего познания. При решении же вопроса о существовании объективных признаков одушевления попутно обнаруживается ошибочность общепринятого мнения, будто бы убеждение в существовании чужой душевной жизни возникает путем очень простого умозаключения по
3
аналогии (будто бы мы от внешнего сходства заключаем к внутреннему); генезис этого убеждения гораздо сложнее, чем это принято думать. Окончательный же вывод всего исследования тот, что если признать убеждение в существовании чужой душевной жизни за достоверную истину, и при том такую истину, которая не просто принята на веру, а проверена нами, то надо допустить, что, сверх внешних чувств и обсуждающего их показания ума, у нас есть еще особый орган, доставляющий нам сведения о том, что находится вне нас (мы его называем метафизическим чувством); в противном случае придется или считать убеждение в существовании чужой душевной жизни недостоверным и недоказуемым, или же возвратиться к какой либо столь же недостоверной и недоказуемой системе старинной метафизики (к материализму или спиритуализму, это будет зависеть от личного вкуса). А коль скоро существует метафизическое чувство, открывающее нам то, что лежит не только вне нас, но и за пределами возможного опыта, (ибо таковы душевные явления всякого другого лица), то можно надеяться, что при его помощи мы проверим также и некоторые другие воззрения, например, относительно существования Бога. По крайней мере, оказывается, что вопросы: о существовании Бога и о существовании чужой душевной жизни (заметим, жизни, то есть, явлений, а не души), вполне однородны между собой, и на сколько, логически позволительно и не трудно отрицать бытие Бога, ровно настолько же позволительно и даже легко отрицать существование душевных явлений всюду кроме самого себя; и в том и в другом случае мы не рискуем попасть в противоречие с данными опыта. Прямая непоследовательность, отрицай существование Бога, бояться отрицать существование душевной жизни, где бы то ни было, кроме как у самого себя1).
Само собой разумеется, что критическая философия, имея в виду
______________________
1) По-видимому, уже древность подметила эту однородность обоих отрицаний. Ксенофонт в Memorabil приводит разговор Сократа с Аристодемом, в котором Сократ убеждает своего собеседника допустить существование божества. При этом Сократ прибегает к такому аргументу: «думаешь ли ты, говорит он, что в тебе есть нечто разумное (φρόιμον), а больше нет нигде ничего разумного. И это в то время, как тебе известно, что твое тело состоит лишь из малой части земли и воды, которых вообще так много» и т. д. См. Memor. I, 4. 8. Таким образом, с точки зрения Сократа отрицать божество то же самое, что признавать разумность (душевную жизнь) только в самом себе.
4
прежде всего изучение нашего познания, или, если угодно, тех идей, которым мы склоняемся приписывать значение познания (то есть, желая изучить их состав, генезис, достоверность, значение, взаимное влияние и т. п., и лишь после того и на почве полученных результатов пытаться строить систему мировоззрения), зачастую нуждается в употреблении таких приемов, которые не встречаются в других науках. Поэтому читателю не должно казаться странным, что автор иногда распространяет свой скепсис на то, в чем никто никогда не сомневается: иногда это неизбежно в смысле приема для анализа состава и генезиса наших мыслей. Мы не можем ради эксперимента действительно устранить из нашего ума какую-нибудь идею и наблюдать, при каких условиях, как и из чего снова возникнет она; а между тем зачастую это необходимо сделать. И вот, взамен того мы устраняем эту идею из сферы тех, которые мы признали за достоверные, то есть, сомневаемся в ней, а потом смотрим, что именно и как заставит нас признавать ее; таким образом мы как будто экспериментируем над ней. Что же касается до нашего главного вывода — отсутствия объективных признаков одушевления, то и он не представляет ничего странного, по крайней мере, ничего неожиданного: он уже подготовлен и почти сполна высказан в развитии критической философии. В самом деле, если мы исповедуем материализм, рассматривающий телесную жизнь, как причину существования душевной, или же спиритуализм, который, хотя бы он и не решался утверждать, что душа организует себе тело, как орудие своей деятельности, все-таки допускает, что деятельность души составляет причину существования некоторых физиологических, явлений, то мы должны допускать существование объективных признаков одушевления1). В первом случае мы должны так рассуждать: всюду, где есть причина и деятельность ее ничем на задерживается, должно быть и ее действие; поэтому если мы наблюдаем в каком-нибудь теле развитую до известной степени и ничем не задерживаемую физиологическую жизнь, то в нем должно находиться и порождаемое ей действие, то есть, душевная жизнь; значит, некоторые телесные явления будут служить признаком присутствия одушевления. Во втором
_________________________
1) А всегда при обсуждении данных опыта втихомолку допускают тот или другой взгляд; поэтому-то и кажется странным отрицание объективных признаков одушевления.
5
же случае ход наших рассуждений будет следующим: нет действия без причины; поэтому, где мы наблюдаем те телесные явления, относительно которых допущено, что их причиной служит душевная жизнь, там должна быть и последняя, так что эти явления составляют ее объективные признаки. Но коль скоро мы действительно решили воздерживаться и от той и от другой метафизической гипотезы относительно причинной связи душевной жизни с телесной, коль скоро обе эти гипотезы мы находим в теоретическом отношении одинаково неопровержимыми, а потому и одинаково недоказуемыми (ведь для доказательства одной нужно опровергнуть другую), то становится вполне возможным (еще не говорим логически необходимым, а только возможным), что вся телесная жизнь сполна объясняется одними материальными причинами, без помощи душевных явлений; а тогда ни одно телесное явление не может служить объективным признаком одушевления. Теперь уж ничто не вынуждает нас признавать противное. Далее, у Альб. Ланге в его Истории Материализма1) приведен пример купца, который, по получении телеграммы о банкротстве одной фирмы, кидается хлопотать о спасении своего состояния и, наконец, высказывает свое довольство, что он сделал -все возможное. При этом Ланге показывает (правда, недостаточно ясно и недостаточно подробно — он как будто только еще намечает свою мысль), что все те. явления, которые в этом случае можно было наблюдать объективным путем (выражение испуга на лице купца, его суету, речи и т. д,), могут быть объяснены посредством одних лишь материальных причин без всякой помощи душевных явлений. А не значит ли это, что ни одно из душевных состояний, пережитых купцом, не имеет объективных признаков, то есть, не сопутствуется такими материальными процессами, которые без этих душевных состояний были бы невозможны и которые поэтому, наверное, указывали бы, что данным лицом переживается то или другое душевное явление? Таким образом, отрицая существование объективных признаков одушевления, автор только и сделал, что договорил до конца уже давно высказанные положения, поставил точку над i; а все прочее составляет логически необходимое следствие этого отрицания. В учении же о метафизическом чувстве всякий легко заметит продолжение Кантовского учения о примате практического
_______________________
1) См. перев. Страхова, т. II, С.-Пб. 1883, стр. 323 ссл.
6
разума. Словом, в выводах автора нет ничего неожиданно-парадоксального: они парадоксальны на столько, на сколько обыденному мышлению кажется парадоксальной вся критическая философия. Приступим же теперь к делу.
Вопрос; имеет ли душевная жизнь объективные (извне наблюдаемые) признаки, почти не привлекает к себе нашего внимания, и едва ли найдется какой другой вопрос, в котором бы царствовал столь сильный догматизм, как в этом. Мы привыкли относиться к нему так, как будто бы уже давно и с полной достоверностью установлено не только то, что объективные признаки одушевления существуют вообще, но даже и то, каковы они. Поэтому мы не колеблемся спорить и решать, какие существа одушевлены, какие нет; в какой именно момент (до рождения или после рождения) начинается душевная жизнь ребенка; заводим даже речь, не одушевлен ли каждый атом материи, и т. и. То или другое решение этих вопросов, даже одна лишь простая постановка их были бы невозможны, если бы мы не приписывали себе готового знания объективных признаков присутствия или отсутствия психической жизни в наблюдаемых нами телах: ведь наблюдать саму чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь заключать об ней по ее внешним, материальным, то есть, объективным обнаружениям; следовательно, при каждой попытке решать подобные вопросы мы уже должны быть уверены в том, какие именно материальные явления служат признаком, обнаруживающим присутствие душевной жизни, и какие проходят без ее участия.
Однако разнообразие ответов, которые давались и даются на все перечисленные вопросы, способно пробудить сильное сомнение, имеет ли душевная жизнь какие бы то ни было объективные признаки. В самом деле, давно ли Декарт считал всех животных, кроме человека, бездушными, превосходно устроенными автоматами? Правда, вряд ли найдутся теперь последователи этого взгляда, но за то и нет единогласного мнения, какие организмы (в том числе и животные) одушевлены, а какие остаются бездушной физиологической машиной1). Точно так же мы еще не столковались, когда именно пробуждается сознание у ребенка, так что его движения в это время
________________________
1) По мнению Фехнера, обладает особым сознанием даже каждый орган, организм, каждая планета и т. д. См. его Atomenlehre и Die Tagesansicht genüber der Nachtansicht.
7
перестают быть исключительно рефлективными и автоматическими. Наконец, упомянем о споре психологов и физиологов относительно объяснения рефлексов спинного мозга: одни видят в них обнаружение спинномозговой души, а другие объясняют их чисто материальными приспособлениями в организации спинного мозга. Как же объяснить все это разнообразие мнений? Коль скоро душевная жизнь имеет объективные признаки, то, казалось бы, нельзя уже спорить, существует ли она в спинном мозгу, обособленном от головного, или нет, обладает ли ребенок в данный момент утробной жизни сознанием, и т. п.
Впрочем, это разнообразие мнений может зависеть также от того, что объективные признаки душевной жизни трудно уловимы, да до сих пор еще не вполне точно определены. Но, как бы то ни было, прежде чем пытаться определить их, надо еще сперва дать себе точный отчет, существуют ли они и можно ли их допускать. К этому вопросу мы и перейдем теперь, предполагая, что мы при его решети отказываемся ото всякой трансцендентной метафизики. Эту оговорку необходимо сделать уже и потому, что среди метафизических систем встречаются и такие, которые, если прямо не отрицают существования объективных признаков одушевления, то возбуждают подозрение против их допущения, ибо оправдывают их признание ссылками на планы, которые преследовались Богом при мироздании, и т. и., словом, ссылками на то, о чем мы ничего не можем знать. Мы имеем в виду Лейбницевскую теорию предустановленной гармонии. Она утверждает, что между душой и телом нет действительного взаимодействия, а существует лишь простое приспособление или применение их друг к другу; поэтому явления, возникающие в душе, нисколько не зависят от тела, а только от нее одной, равно как и явления, возникающие в теле, зависят только от него, а отнюдь не от души; но, тем не менее, благодаря той приспособленности, которая существует у души с телом, кажется, как будто бы они взаимодействуют друг с другом. При этом, по учению Лейбница, такая приспособленность души и тела (их предустановленная гармония) зависит не от них самих, то есть, не от их природы, а от воли Бога, который по своей благости предпочел устроить вселенную так, чтобы казалось, будто бы душа и тело находятся во взаимодействии друг с другом. Но не допускается ли этим самым, что в любом находящемся предо мной человеке душа могла бы
8
отсутствовать, так что он был бы простым автоматом, а не смотря на то, вся его телесная жизнь (а с ней и те процессы, которые мы считаем объективными признаками душевной) продолжалась бы по-прежнему так, как будто бы он был одушевлен? Другими словами, не содержит ли в себе теория предустановленной гармонии отрицания существования объективных признаков одушевления? Ведь по собственным словам Лейбница все факты телесной жизни развиваются без всякого влияния души — так, как будто бы и не было последней; следовательно, душа могла бы и отсутствовать, а в теле происходили бы те же самые явления, какие имеют место и при существовании души, так что ни одно из них не может считаться признаком ее присутствия. Лейбниц уподоблял предустановленную гармонию души и тела согласному ходу двух часов, хорошо выверенных и согласованных друг с другом. Но ведь каждые часы этой пары продолжали бы делать те же показания, если бы и не было других часов, так что ни одно из показаний первых не может считаться признаком существования показаний других часов; подобным же образом и телесные явления, находясь в реальной зависимости только от телесных, а отнюдь не от душевных, тоже не способны служить признаком существования последних. При таких условиях, если мы заранее почему-либо допустим существование душевной жизни у того или другого существа, то происходящие в нем материальные явления могут служить признаками и показателями ее перемен1); но что касается до ее существования, то в этом можно будет убедиться тогда только путем самонаблюдения, а отнюдь не объективным наблюдением. Можно видеть и нельзя отрицать, существует ли она у меня самого, но нельзя наверное знать, существует ли она у других людей. В последнее приходится только веровать и основывать свою веру на соображениях в роде того, что Бог, желая устроить наилучший мир2), не допустил бы существования бездуш-
________________________
1) Ведь уже допущено, что ход душевных явлений, несмотря на то, что он развивается только из недр души помимо какого бы то ни было влияния тела, все-таки согласован с ходом телесных явлений, так что там, где существует душевная жизнь, мы можем заключать об ее переменах на основании знания согласованных с ними перемен телесной. Нужно только подметить и изучить в самом себе, каким именно душевным переменам соответствуют те или другие перемены тела.
2) А Лейбниц и допускает это предположение.
9
ных, но живых человеческих организмов, другими словами — тот общий строй вселенной, который Бог предпочел, как наилучший из всех мыслимых, исключает возможность подобного обмана.
Как видим, в трансцендентной метафизике иногда втихомолку отрицается существование объективных признаков одушевления. Но вот вопрос: почему это оказывается возможным? Потому ли, что и в действительности нет никаких внешних признаков одушевления, или же, напротив, они существуют, но с трудом поддаются точному описанию, а некоторые виды метафизики их неуловимость смешивают с их отсутствием? Возможно и то и другое; а потому надо рассмотреть поднятый вопрос вполне независимо от всяких метафизических предположений, ограничиваясь в своих рассуждениях только тем, что может быть проверено внутренним и внешним опытом, и ничего не принимая на веру без такой фактической проверки. Вот почему мы нигде не будем допускать ни того, что материя, взятая сама по себе, порождает душевные явления, ни того, что это совершается под влиянием совместного действия души и тела, и т. д.; мы будем прямо обходить подобные вопросы, как трансцендентные. По той же причине точно также мы будем вести свои рассуждения независимо от того, имеют ли явления природы какой-либо смысл, или нет, и т. п.
Мы хотим узнать, существуют ли объективные признаки одушевленья и каковы они. Простейший, то есть, самый легкий (хотя не единственный и не лучший) прием для решения этого вопроса таков: допустим, что кто-нибудь отрицает существование душевной жизни у кого бы то ни было, кроме самого себя, и говорит, будто бы незачем допускать ее в других людях, так как де всякое наблюдаемое в них явление будет телесным и всегда может быть объяснено без ее помощи, как результат чисто-материальных процессов; представив же себе подобного скептика, постараемся его опровергнуть, и будем для этого искать в людях телесные явления, которых никоим образом нельзя объяснить без помощи душевной жизни, то есть, такие, которые без нее были бы невозможны; если найдутся подобные явления, то их-то, очевидно, и надо считать объективными признаками душевной жизни. Итак: наблюдаются ли в людях такие телесные явления, которые были бы невозможны без участия душевной жизни? Заметим точно, в чем состоит задача обеих сторон (скептика и его противников) и к
10
чему она обязывает каждую из них. Допуская возможность опровергнуть скептика, мы этим самым утверждаем, что существуют у других людей такие телесные явления, которые обязывают допускать в них душевную жизнь. Поэтому нам нельзя ограничиться указанием на то, что предположение душевной жизни в других людях прекрасно мирится со всеми наблюдаемыми в них фактами, делает легким их изучение, предугадывание и т. п., нисколько не противоречит им, и что оно всегда может быть допущено: об этом нет никакого спора, и скептик не отрицает этого, хотя и находит предположение чужой душевной жизни излишним. Мы вынуждены идти дальше и обязаны выставить на вид такие факты, при объяснении которых необходимо или неизбежно (а не только что возможно) предполагать обнаружение в них душевной жизни; мы должны доказать, что одни материальные явления, взятые без ее участия, не могли бы породить этих фактов и что иное объяснение для них невозможно и будет противоречит нашим знаниям о законах телесной жизни. Скептик же, напротив, обязан показать нам, что предположение чужой душевной жизни хотя и допустимо, но в нем нет необходимости; что те же самые факты, которые он наблюдает в людях при помощи своих внешних чувств (в том числе и их горячие уверения, что они одушевлены, их негодующие фразы, которые они произносят по поводу его сомнений в существовании у них ума и всей душевной жизни и т. п.), могут быть объяснены и без всякого участия душевной жизни; что поэтому ее существование у них можно отрицать без всякого противоречия с законами чисто-материальных явлений. Словом, мы должны доказывать необходимость или неизбежность предположения душевной жизни в других людях; а скептик должен показать отсутствие необходимости делать такое предположение. А потому для всех явлений, которые мы привыкли рассматривать, как обнаружение чужой душевной жизни, он должен подобрать другие объяснения, обходящиеся без предположения ее существования и на столько же не противоречащие данным опыта, как и наши. Одним лишь могут они отличаться от общепринятых: они будут слишком непривычны для нас, а потому неизбежно трудны для усвоения и для их дальнейшего развития, а сверх того по той же причине будут казаться несколько странными, как бы неестественными, ибо все непривычное всегда кажется чем-то диким, неестественным. Но мы при их оценке должны смотреть не на это нич-
11
тожное обстоятельство, а на то, насколько они логичны и не противоречат ли нашим сведениям о телесных явлениях. Таковы задачи и обязанности обеих сторон.
Так будем же для опровержения скептика искать в наблюдаемых нами нормальных и вполне развитых людях1) такие телесные явления, которые указывали бы на необходимость признать в этих людях существование душевной жизни. Наилучшим свидетельством одушевления мы считаем речь: в ней, говорим мы, человек обнаруживает, особенно если он того захочет, всю свою душу. Так допустим, что пред нами находится человек, об одушевлении которого идет спор и который отнюдь не желает, чтобы его считали бездушным автоматом. Для решения спора мы обращаемся к нему с рядом различных вопросов: например, мы спросим его сначала, кто он такой. Положим, он нам ответит: «я (например) врач NN». Мы спросим его, что ему нужно здесь, одушевлен ли он и т. д., и на все получаем соответствующие ответы: он скажет, что его звали сюда к больному; на вопрос об одушевлении сначала удивится, что ему вздумали предложить его, а потом объявит, что он переживает такие же душевные состояния, как и все другие люди, и т. д. Что же действительно ли необходимо для объяснения всего этого прибегать к помощи душевных явлений»? Мы готовы отвечать утвердительно и для подтверждения своих слов скорее всего сошлемся на то, что, наши вопросы были поняты, ибо на них даны были ответы; следовательно, скажем мы, в исследуемом лице происходила душевная деятельность. Но так рассуждать это значит запутываться в круг: о том-то и идет речь, действительно ли у исследуемого человека существует «понимание» и «размышление»; и признание этой деятельности в нем должно быть результатом доказанной необъяснимости того, что мы видели и слышали, одними чисто материальными процессами. Значит, мы должны рассматривать, какие именно произошли пред нами внешние, материальные явления (ибо слышать и видеть нельзя никаких других), и показать, что без душевных явлений они были бы невозможны; лишь после этого можно будет толковать о понимании наших вопросов и т. п.
Какие же материальные явления наблюдались нами при первом
_____________________
1) Ибо в них-то, разумеется, легче всего найти то, что нам нужно.
12
вопросе и ответе1)? Или, так как нам трудно отделаться от убеждения, что пред нами произошло психическое (а не чисто материальное) явление, скажем иначе: в чем состоит его материальная сторона, поскольку мы ее наблюдали прямо (так что могли бы указать ее)? На исследуемого человека действовало строго определенное раздражение, состоящее из звуковых колебаний воздуха; в результате же получились новые строго определенные звуковые колебания воздуха, вызванные движениями языка, губ и т. д., вообще, голосового органа исследуемого человека. Мы наблюдали (при первом вопросе) только это, и больше ничего. И если бы мы захотели точнее описать наблюденные факты, то должны были бы прибавить только указание вида (формы, силы и т. д.) тех и других колебаний воздуха, при чем перечень колебаний, вызванных исследуемым человеком, можно было бы заменить точным описанием движений его голосового органа; прибавлять же к этому описанию «понимание, желание» и т. п. незачем, ибо это не наблюдалось.
Теперь скептик должен объяснить все это по-своему, то есть, без помощи душевных явлений. Как же он объяснить? Для этого, очевидно, он воспользуется указаниями физиологии чувств. «Раздражение, скажет он, подействовало на барабанную перепонку исследуемого человека и, будучи само определенным, вызвало и в ней определенные же колебания, которые в свою очередь вызвали опять-таки определенные же процессы в других частях слухового органа; все это произошло по чисто материальным законам. Эти процессы, действуя в свою очередь на слуховые нервы, вызвали в них определенное (и при том чисто материальное) изменение, которое прошло до головного мозга, там оно перешло до двигательных нервов, заканчивающихся в органах голоса; дойдя до этих нервов, оно распространилось по ним вплоть до соединяющихся с ними мускулов и вызвало в них строго определенные сокращения, результатом которых были колебания воздуха, составляющие ответную фразу (я — такой-то). Все это, прибавит скептик, были материальные процессы (механические, физические и химические), и для их появления нужна только целость той физиологической машины, которую мы называем человеком (чтобы она не была ни разрушена смертью, ни попорчена болезнью), а отнюдь не ее одушевление;
___________________________
1) Сначала речь будет только о первом вопросе и ответе, а потом расстроим остальные.
13
коль скоро в ней происходят эти процессы, то будет ли она одушевлена, или нет, и в том и в другом случае, действуя на эту машину тем же раздражением (звуками своего вопроса), мы при одинаковых условиях получим одинаковый результат. Таким образом, заключает скептик, есть возможность объяснить разобранный факт, не допуская в наблюдаемом человеке ни малейшей степени одушевления; значит, этот факт (ответа на мой вопрос) никоим образом не может доказывать существования чужой душевной жизни, и я пока еще в праве отрицать ее всюду, кроме самого себя». Что возразить на эти рассуждения? Все то, что скептик описывает, как происшедшее в исследуемом нами, человеке между нашим вопросом и последовавшим на него ответом (колебания барабанной перепонки, распространение впечатления по. слуховым нервам и т. д.), действительно было; этого никто не станет оспаривать. Нельзя оспаривать и того, что если только происходили эти процессы, то они должны были породить тот результат, который мы наблюдали (звуки ответа). В этом пункте нечего и думать о возражениях; посмотрим, где же они возможны.
Если нельзя не. согласиться с явно высказанными посылками скептика, а в то же время в их употреблении не заметно никакой формальной ошибки, то для опровержения его заключений надо подвергнуть разбору то, что им допускается втихомолку. А он действительно в своих рассуждениях подразумевает кое-что, не высказываясь об этом. Именно, он, очевидно, допускает, что все описанные им физиологические процессы (действия слухового органа, нервный ток, его передача с чувствующих нервов на двигательные и т. д.) могут происходить и там, где нет никакого одушевления; другими словами, по его мнению, физиологическая жизнь той машины, которую он именует человеком, вполне возможна даже и в том случае, когда в ней нет никакой душевной, жизни. Поэтому попробуем сделать следующее возражение: если описанные скептиком физиологические процессы действительно происходят в неодушевленном человеке, то они должны породить звуки ответа; но они, да и вообще вся физиологическая нервная деятельность, не могут существовать без психической; жизнь человека всегда бывает сразу и той, и другой. Однако высказать подобную, мысль не трудно; но как ее доказать? А пока она не доказана, вполне позволительно истолковывать факты двояким образом, так что скептик останется не опровергнутым. Не забудем, что метафизические со-
14
ображения о смысле и конечной цели существования таких или других (одушевленных иди неодушевленных) тел для нас недопустимы: вся наша задача состоит в том, чтобы сполна рассмотреть, что именно откроется пред нами после отказа от всякой метафизики. Мы в праве отрицать возможность существования физиологических нервных процессов без психических лишь в той мере, в какой мы уполномочены к этому самими фактами1). Поэтому
__________________________
1) Отметим кстати, в какое курьезное положение попадает тот, кто хочет отрицать возможность существования физиологической нервной жизни без психической. Никто не сомневается, что процессы, происходящие в ухе, суть чисто материальные процессы и что они для своего существования не нуждаются в участии душевной жизни. Подобным же образом и процессы, происходящие в чувствующих и двигательных нервах, тоже считаются чисто материальными: нервы признаются лишь проводниками нервных токов, которые могут возникать даже и в вырезанном нерве. Нечего и говорить о сокращении мускулов: их можно вызвать в препарированном мускуле чисто материальными раздражениями в роде электрического удара. Таким образом нам остается утверждать, что без участия, душевной жизни не могут существовать только те процессы, которые происходят в головном мозгу; для всех же других, по общепринятому мнению, она не составляет неизбежного условия. Но где же основания для подобного утверждения? Разве головной мозг не состоит также из материи (да вдобавок еще того же рода), как спинной мозг, да даже и нервы? Почему же деятельность спинного мозга или нервов возможна и без душевной жизни, а деятельность головного мозга невозможна? Да и как тогда допускают, что в некоторых случаях головной мозг все-таки действует без участия душевной жизни, именно в тех рефлексах и автоматических движениях, при которых раздражение чувствующего нерва переходит на двигательные чрез головной мозг (например, при ходьбе по хорошо знакомому пути, которая поэтому совершается, как говорят, автоматически, раздражение зрительных нервов переходит на двигательные нервы ног чрез головной мозг)? А самое главное, спросим себя, в каком виде должны мы представлять себе ту особенность головного мозга, которая не допускала бы в нем физиологической деятельности, не сопровождаемой никакими душевными явлениями, — будет ли это извилина, выпуклость, форма клеток, особое распределение кровеносных сосудов, химический состав и т. п.? Если же подобные обстоятельства не могут сделать неизбежным вмешательство душевной жизни в его деятельность, то единственным препятствием допускать в нем физиологическую жизнь без психической служит только наша привычка к обратной мысли. Мы с детства привыкли думать, что человек не может жить без души; а все, что нарушает сильно укоренившиеся в нас привычки мысли, кажется нам неестественным и явно невозможным; поэтому, хотя мы и допускаем во многих случаях физиологические процессы без психических, но нам невольно кажется, что где-нибудь да должна же быть между ними неизбежная связь, то есть, такая, что первые (физиологические процессы) были бы невозможны без последних (психических). Вот мы и выбираем головной
15
единственно возможный путь для оправдания нашего возражения сводится к такому рассуждению: мы должны показать, что всюду (значит, и в других людях, не только в нас одних), где только наблюдается физиологическая жизнь человека, в то же время всегда наблюдается и психическая, или же — взамен того показать, что с устранением психической жизни устраняется и физиологическая. Но разве мы в состоянии это сделать раньше, чем опровергнем своего противника? Он не может устранить свою душевную жизнь, и не может поэтому убедиться на самом себе, исчезнет ли с ее устранением также и его физиологическая жизнь; подобного самонаблюдения ни от кого нельзя требовать. Что же касается до чужой душевной жизни, то ее скептик везде отрицает. Как же мы скажем ему: «смотри, ни в одном человеке физиологическая жизнь не бывает без психической, а в каждом из них с устранением последней исчезает и первая?» Для этого мы должны сперва еще опровергнуть его отрицания. Следовательно, сделанное нами возражение таково, что оно имеет место лишь после того, как мы опровергнем скептика. Иначе и не могло быть: отрицая в других людях душевную жизнь, скептик этим самым допускает у них (у всех тех, у кого он ее отрицает) возможность существования физиологической жизни без психической; обе эти мысли подразумеваются друг в друге или, вернее, составляют одну и ту же. Значит, когда мы для его опровержения станем ссылаться на невозможность одной жизни без другой, то будем решать спорный вопрос ссылкой на то самое, о чем еще идет спор и что мы еще только пытаемся доказать. Таким образом нока скептик остается еще не опровергнутым, то есть, пока для него еще позволительно отрицать чужую душевную жизнь, для него на столько же позволительно предполагать и возможность физиологической жизни без всякого участия психической (ведь обе мысли, строго говоря, составляют одну и ту же), и запретить ему допускать последнее предположение можно не иначе, как запретив первое. Но нам нужно его опровергнуть, переубедить, а не то, что приказать думать по-нашему.
Итак, это предположение ничего не говорит против него. Не допускает ли он молча еще что-нибудь другое? Отнюдь нет, и
__________________________
мозг, как седалище подобной связи, потому что нет ровно никаких оснований предпочитать ему какое-либо другое место организма. Мы и не замечаем, что пресловутый метафизический вопрос о седалище души у нас заменился однородным с ним вопросом о седалище неизбежной связи душевных явлений с телесными.
16
в этом легко убедиться. При объяснении наблюдаемого факта (ответа на первый вопрос) он берет те же самые процессы (а отнюдь не какие-либо новые), которые допускаются при объяснении того же факта всеми без исключения — и любым физиологом, и любым психологом; вся разница только в том, что у последних эти же самые физиологические процессы наверное сопровождаются душевной деятельностью (ощущениями, пониманием нашего вопроса, воспоминанием имени и т. п.), а по словам скептика она сполна отсутствует. Если же, по нашему мнению, эти физиологические (не психические, а физиологические) процессы должны породить наблюдаемый факт (звуки ответа или, что то же, те сокращения голосовых мускулов, которые вызвали эти звуки), когда они сопровождаются душевной деятельностью, то они (те же самые физиологические процессы) должны породить его и в том случае, когда они происходят без всякого участия душевной жизни, лишь бы только они происходили. Скептик же допускает те же физиологические процессы, как и мы (только без психических); значит, они и в его руках сделают такое же дело, как и в наших, то есть, сполна породят весь наблюдаемый и объясняемый нами факт. Следовательно, для него нет ровно никакой нужды допускать втихомолку еще другие предположения, кроме сейчас указанного, то есть, кроме того, что существующая в людях физиологическая жизнь может происходить и без психической. А что касается до этого предположения, то мы уже убедились: 1) что его нельзя возбранять скептику, и 2) что доказать обратное можно только тогда, когда будет доказано существование чужой душевной жизни. А до той поры можно лишь веровать (но не знать), что есть какой-то высший смысл в строе вещей, и что поэтому он не допускает для физиологической жизни возможности существовать попусту — без психической; но, рассуждая так, мы попадаем в область метафизики. Конечно, если эмпирическим путем существование душевной жизни не может быть доказано, а в то же время оно считается неоспоримой истиной, и притом истиной познанной, а не принятой на веру, и вместе с тем мы не хотим допустит никакою другого источника познания кроме чувств и ума, то отсюда прямой вывод, что эта истина имеет метафизический характер и что трансцендентную метафизику ошибочно считают невозможной. Напротив, она содержит некоторые познанные неоспоримые истины; но сейчас-то мы решили пока воздерживаться от всякой метафизики и руководиться в нашем споре только данными опыта.
17
Итак, первый ответ, взятый отдельно от других, легко объясняется без помощи душевной жизни. Значит, до сей поры мы еще ничем не вынуждены допускать ее в других людях, и всякий желающий еще вправе отрицать ее всюду, кроме самого себя. Само собой разумеется, что те же самые рассуждения, к которым скептик прибегал в первом случае, с таким же успехом могут быть применены им и к объяснению всякого другого отдельно взятого факта: например, к объяснению второго ответа (на вопрос: «что вам угодно?») или третьего, равно к объяснению мимики удивления у человека, которого внезапно спросят, существует ли у него душевная жизнь, его утверждения на этот вопрос, негодования, что не доверяют его словам, и т. д. Во всех этих отдельно взятых случаях скептик по-прежнему будет брать одну лишь физиологическую сторону наших собственных объяснений; а так как мы сами же допускаем, что она-то именно и порождает наблюдаемые факты (сокращения голосовых мускулов при речи, мускулов лица при мимике, движения рук при жестах, перемены кровообращения и т. п.), то, значит, скептик легко объяснит их. Ему даже незачем много трудиться, так как мы сами же даем ему в руки все средства для решения его задачи; он допустит только, что все эти процессы совершаются без психических явлений, и, как мы видели, мы еще не вправе запрещать ему делать такое предположение.
Таким образом все факты, взятые порознь, легко могут быть им объяснены по-своему; значит, ни один из них сам по себе не в состоянии опровергнуть отрицания чужой душевной жизни. Но нет ничего немыслимого в том, что они указывают на ее существование не иначе, как всей своей совокупностью, то есть, может быть, они вынудят нас признать в наблюдаемом человеке присутствие душевной жизни тогда, когда мы станем рассматривать их не порознь, а сопоставляя их друг с другом. В самом деле, на разные вопросы, предлагаемые нами, он дает нам разные ответы; а это, по-видимому, можно объяснить только тем, что он понимает разницу содержания наших вопросов. Далее, если бы мы обратились с такими же вопросами к человеку, иначе образованному (например, если бы мы стали спрашивать о существовании «психических явлений» у крестьянина, который никогда не слыхал этого термина), то или услышали бы взамен прежнего ответа требование объяснить свои слова, или же заметили бы на его лице что-нибудь вроде недоумения, замешательства и т. д. Нечто подобное про-
18
изошло бы и в том случае, если бы мы обратились к прежнему же человеку (скажем, к врачу же), но не на русском и вообще не на знакомом ему языке, а, например, на китайском. Так не показывает ли это сопоставление наблюдаемых фактов друг с другом, то есть, вся их совокупность, что, хотя каждый отдельно взятый факт легко может быть объяснен без всякой помощи душевной жизни, но что они тотчас же свидетельствуют об ее присутствии, как только мы сопоставим их все вместе? Не обнаруживается ли в них чрез это сопоставление такая особенность, которой нельзя объяснить иначе, как допустив в наблюдаемом человеке присутствие процесса понимания и вообще душевной жизни? Рассмотрим это.
До сей поры мы в праве еще утверждать, что вошедший человек представляет собой чисто физиологическую машину, живого автомата, как выражался Декарт, говоря про других животных. Но эта машина на разные вопросы дает разные ответы. Как объяснить это? Мы готовы и даже склонны думать, что законы чисто материальной жизни, взятые сами по себе — без всякого участия душевной жизни, не дают никакого средства для объяснения этого факта. Поэтому мы предпочитаем объяснить его таким образом: хотя исследуемый человек во всех этих случаях подвергался только действию звуковых раздражений, но последние выражали собой различные мысли, что и было понято им; а понимание различия содержания обусловило различие его ответов. Конечно, можно и так объяснить дело; об этом нельзя спорить. Но ошибочно думать, будто бы законы чисто-материальной природы не достаточны для объяснения только что указанного обстоятельства — различия ответов вследствие различия вопросов. Напротив, оно требуется ими, как их логически неизбежное следствие. В самом деле, всякий даже неорганизованный кусок материи на различные действия, или раздражения, способен реагировать при равенстве, (полном или почти полном) прочих условий различно, а не одинаково: например, результатом двух различных толчков одного и того же покоящегося шара (скажем, снизу вверх в одном случае и справа налево в другом) будут два различных движения. А те раздражения, которыми мы действовали на исследуемого человека, были не одинаковы, и. при том не с той точки зрения, что они выражали разные мысли (до этого скептику нет никакого дела), а различные, если их рассматривать с чисто материальной стороны. Действительно, первый вопрос со-
19
стоял из одних звуков, а второй и следующий — из других; если же и попадаются в них одинаковые звуки, то они составляют различные сочетания. А разница звуков и их сочетаний соответствует различию тех звуковых волн, которые действуют на уха наблюдаемого человека; воздушные же волны суть чисто материальные раздражители. Таким образом он испытывает различные материальные действия, или раздражения; а при полном равенстве прочих условий они должны вызвать различные результаты, между которыми будет тем больше разницы, чем больше ее было между вызывающими раздражениями. Как видим, в этом пункте нечего и думать опровергнуть скептика. Прежде нам казалось обратной только потому, что мы проглядели разницу материальной стороны раздражений: они все звуковые; и вот, от привычки не обращать внимания на их материальную сторону (сосредоточивать его только на их смысле) нам пришло в голову, будто бы между ними нет никакой разницы, кроме как в выражаемых ими мыслях. На самом же деле она существует, и скептик пользуется ею для объяснения тех различий в наблюдаемых фактах, для которых мы искали объяснения исключительно в различии смысла этих раздражений.
Не трудно видеть, что на этом пути мы и всегда окажемся в таком же положении: будем ли мы объяснять, или требовать, чтобы нам объяснили, разницу речей, мимики, жестов и т. д., это все равно. Скептик всегда найдет средство объяснить все это по-своему. Да и как не найти его! Ведь мы без всякого спора допускаем, что ни одно психическое явление (каково бы оно ни было) без посредства материальных процессов не может ни сделаться заметным для наблюдения извне, ни подействовать на состояние другой души (душевного мира другого человека). Например, мысли, желания, чувствования человека могут стать заметными для другого не иначе, как посредством речей первого, выражений лица, поступков и т. д., словом, не иначе как чрез материальные процессы, и каждое из этих душевных состояний, чтобы вызвать перемены в душевном мире другого человека, должно предварительно выразиться каким-либо материальным процессом. Сверх того, мы не можем отрицать, что различие душевных процессов всегда выражается различием тех, материальных процессов, которыми они обнаруживаются: ведь всегда о разнице чужих мыслей, чувствований и т. д. мы судим по разнице их обнаружений (например, о различии мыслей — по разнице звуков и их сочетании), так что одинаковым
20
душевным актам соответствуют одинаковые обнаружения, а различным различные1). Все это мы допускаем и должны допускать (потому что сама-то душевная жизнь со всеми ее изменениями не может быть наблюдаема извне; значит, если бы мы стали отрицать, что у каждого душевного состояния есть свой собственный способ обнаруживаться во вне, то этим отказались бы от той самой мысли, которую мы защищаем против нападений скептика, именно отказались бы от всякой надежды судить по наблюдениям над внешней жизнью человека об его душевных состояниях и по разнообразию первых — о разнообразии вторых). А в таком случае, каково бы ни было содержание наблюдений, предпринятых нами над каким-либо человеком (для решения вопроса, одушевлен ли он, или нет), мы заблуждаемся, думая, будто бы подмеченное в нем различие речей, жестов, мимики (словом, чего бы то ни было) может быть объяснено только различием испытанных им душевных влияний: допущенное нами соответствие душевных состояний и влияний с материальными дает возможность скептику объяснить те же самые различия по-своему. Именно, он прежде всего обратит наше внимание на то обстоятельство, что наблюдаем-то мы исключительно материальные процессы (а все прочее примышляем к ним), так что и объяснять-то он должен их различия, а не различия тех душевных состояний, которые мы предполагаем сзади телесных и которые он отрицает.
Далее, для объяснения же различия наблюдаемых им телесных состояний он укажет нам на различия материальных процессов, чрез которые, по нашему мнению, доходят до исследуемого человека посылаемые нами душевные влияния и без различия которых
__________________________
1) Этому правилу нисколько не противоречит ни то, что мы можем скрыт свое чувствование, например, гнев, ни то, что одну и ту же мысль можно выразить на разных языках (разными звуковыми волнами). В первом случае, когда мы скрываем свой гнев, обнаруживается не одно лишь прежнее душевное состояние, не один лишь гнев, но гнев + желание (которое может быть или издавна привычным, или только что возникшим) скрыть его существование; от этого и зависит кажущееся несоответствие душевного и телесного состояния. Во втором же случае обнаруживается не просто прежняя мысль, но на ряду с ней также и желание сделать ее понятной другому кругу лиц, чем прежде. Если же брать действительно одинаковые душевные состояния, то мы должны допустить, что при равенстве прочих условий (телесного и душевного здоровья и т. д.) одинаковым душевным состояниям соответствуют одинаковые обнаружения и разным разные.
21
(материальных-то процессов), как мы сами допустили это, не могло бы ни обнаружиться, ни подействовать различие душевных влияний (ведь, чтобы действовать на другого человека, разные душевные влияния, например, разные мысли, должны сперва воплотиться в разных материальных процессах; без этого их хоть бы и не было). Таким образом скептик всегда, каково бы ни было содержание наблюдаемых фактов, их разницу между собой сделает зависящей только от материальной разницы тех раздражений, которые возбуждают эти факты. Значит, в этом пункте никоим образом нельзя его опровергнуть. На него надо нападать как нибудь иначе.
У нас осталась необъясненной еще одна особенность наблюдаемого явления: наши вопросы вызывают такие ответы, какие мы слышали, только при известных условиях; но они вызовут иной результат у человека мало образованного, или даже у того же самого лица, с которым мы и доселе имели дело, если только будут предложены ему на незнакомом языке. Да и вообще, один и тот же вопрос может вызвать различные результаты: так, спрашиваемый человек может сначала потребовать объяснения, с какой стати мы предлагаем ему тот или другой вопрос (например, одушевлен ли он), или же он прямо ответит на него, и т. д. С первого взгляда кажется, что при объяснении этого обстоятельства нет никакой возможности обойтись без помощи душевных явлений, так как заведомо материальные явления не представляют, по-видимому, ничего подобного. Но это только так кажется; в действительности же, как сейчас увидим, и этот факт можно объяснить с точки зрения скептика.
Всякое, даже неорганизованное тело подчинено следующему закону (имеющему значение mutatis mutandis для душевных явлений на столько же, как и для материальных): окончательный характер результата каждого действующего на тело раздражения или, говоря общее, действия зависит не только от характера этого действия, но также и от характера прежде испытанных им действий, если только от них сохранились в этом теле какие-либо следы. Так окончательный результат толчка, испытываемого каким-нибудь шаром, зависит не только от скорости и направления этого толчка, но также и от всех уцелевших в шаре движений, возбужденных прежде действовавшими силами, ибо вновь возникшее движение слагается вместе с ними. Более того, все движения по
22
закону инерции должны в нем уцелеть навсегда; если же они кажутся исчезнувшими, то это происходит именно в силу того закона, о котором мы говорим: прежнее движение, сохраняясь по закону инерции, слагается с противоположным и равным ему новым движением, и оба они вечно уравновешивают друг друга. Что же касается до других материальных явлений, то хотя они не подчинены закону инерции, тем не менее очевидно, что коль скоро в данном теле сохраняются следы прежде испытанных действий, то окончательный результат нового действия будет зависеть не только от него самого, но и от этих прежде испытанных действий: ведь каждая причина действует одинаково при одинаковых условиях, а коль скоро последние переменились, вследствие сохранения следов прежде испытанных действий, то ее действие слагается с этими переменами, и общий результат будет зависеть как от них, так и от вновь действующей причины. Нужно только, чтобы от испытанных неодушевленным телом действий оставались в нем какие-либо следы; а способны ли тела сохранять в себе следы чисто материальных действий? Один пример такого сохранения мы уже видели сейчас: каждое движение составляет след действия силы на тело и сохраняется навсегда. Далее, нагревание, электризование и т. п. действия тоже оставляют после себя соответствующие каждому из них следы (в виде расширения, электрического заряда и т. д.), которые изглаживаются не иначе как какими-нибудь другими влияниями (охлаждением, разрядом и т. д.). Подобное же сохранение следов находим мы и выходя за сферу механических и физических явлений. Так, всякая химическая реакция, которой подверглось данное тело, влияет на него так, что оно становится способным к одним реакциям и неспособным к другим, и, вообще, изменяет все свои свойства, то есть, реакция оставляет в нем после себя известный след, от которого потом зависит окончательный характер результата всякого последующего действия на это тело1). А еще поучительнее так называемая изомерия: вполне
__________________________
1) Мы рассуждаем независимо от вопроса о существовании атомов; но и при том и при другом решении этого вопроса одинаково должно быть признано сохранение следов чисто-материальных действий. Если тела состоят из атомов, то все химические явления разлагаются на перемены в атомных и молекулярных движениях; а движения суть следы испытанных действий. Если же атомов нет, то химическая реакция подвергает тело полному (насквозь проходя-
23
однородные по своему составу (и в качественном, и в количественном отношении) тела обладают разными свойствами, а в связи с этим одинаковые действия (например, одинаковое нагревание и т. д.) производят в них разные результаты (например, одно плавится уже, другое еще нет). Но от чего зависит, что соединение одних и тех же тел принимает физические и химические свойства то того, то другого изомера? От способа добывания, то есть, от испытанных телом реакций. Следовательно, здесь мы имеем неорганизованные тела, в которых результат одного и того же действия (при чем оно может быть и физическим и химическим) оказывается неодинаковым; а так как состав этих тел одинаков, то, значит, различие результатов испытываемых ими действий воочию зависит также и от их прежней судьбы, то есть, от прежде испытанных ими действий. Сохранение следов прежде испытанных влияний становится еще заметнее в организованных телах: не перечисляя и не отыскивая других случаев (как неважных для нашей задачи), укажем только на телесные привычки, каковы привычки к жестам, к обыденным действиям вроде движений, употребляемых при ходьбе, еде, танцах и т. п. Все эти бессознательно действующие привычки показывают, как это и принято всеми, что после каждого пережитого акта деятельности в нервной системе остается какой-то след; при этом, как бы он ни возникал и в чем бы он ни состоял сам по себе, благодаря ему, нервная система становится предрасположенной более к одним нервным процессам и менее к другим. Итак, при объяснении характера результата того или другого раздражения, действующего на какое-нибудь тело, надо брать в расчет не только характер этого раздражения, но также и то, не обладает ли это тело способностью сохранять следы прежде действовавших раздражений; а нервная система, как сейчас сказано, обладает такой способностью, так что результат действующего на нее раздражения должен всегда зависеть как от характера этого раздражения, так и от характера прежде испытанных ею раздражений. Вот эти-то положения и дают возможность объяснить отмеченные факты с точки зрения скептика.
Если мы по-русски спросим образованного русского человека,
______________________
щему чрев все тело) превращению, так что прежние свойства тела исчезают, а вместо них возникают новые; а при таких условиях вновь приобретенные свойства суть опять-таки сохраняющиеся следы испытанных телом реакций.
24
существуют ли у него «психические явления», то всегда получим какой-нибудь ответ на том же языке (хотя бы в виде требования объяснить, почему мы вздумали предложить подобный вопрос); но взамен ответа он выкажет недоумение, если обратиться к нему на языке китайском. Мы думаем, будто бы это можно объяснить только с помощью психических актов понимания и т. п. и будто бы нет никакого другого средства. Но мы упускаем из виду то, что самое понимание-то языка вырабатывается, как результат прежде действовавших материальных раздражений. Ведь процесс усвоения родного языка состоит в том, что на органы слуха повторно действуют известные звуковые волны (например, название предмета), а в то же время другие органы чувств испытывают своеобразные повторяющиеся раздражения (например, на зрение действуют световые волны, посылаемые называемым предметом): Потом этот процесс осложняется; но он никоим образом не мог бы существовать без действия на нашу нервную систему материальных раздражений, при чем у каждого народа звуковые раздражения при одних и тех же световых (и других) впечатлениях различны. Поэтому они оставляют в нервной системе неодинаковые следы; а от характера следов или, что то же, прежних раздражений, после которых остались эти следы, зависит окончательный характер результата вновь действующих раздражений. Что же удивительного, если один и тот же вопрос, предложенный на разных языках, вызывает у одного и того же лица различные результаты? Не говоря уже о том, что звуковые волны оказываются неодинаковыми или же образуют неодинаковые сочетания при русской и китайской фразе (то есть, тут мы имеем дело с разными материальными раздражениями), в одном случае мы действуем на человека такими раздражениями (такими сочетаниями звуковых волн), среди которых прошла вся его жизнь и от которых сохранилось в его нервной системе множество следов, а в другом мы действуем на него новыми, еще неиспытанными им, раздражениями. А от этого он должен реагировать на них различно, при чем характер его реакции будет зависеть не только от теперешних раздражений, но также и характера прежде действовавших, то есть, и от того, какие именно сочетания звуковых волн испытывал он прежде — русские или китайские. Таким образом, отмеченная разница в поведении человека должна наступить как в том случае, когда он одушевлен, так и в том, когда он вполне чужд одуше-
25
вления; следовательно, она не мешает нам отрицать в нем существование душевной жизни.
Подобным же образом можно объяснить и разницу в поведении образованного и необразованного человека. Мы ее приписываем образованию, подразумевая под словом «образование» совокупность испытанных человеком психических влияний. Но ни одно психическое влияние не доходит до человека извне иначе, как в виде материальных раздражений; что же касается до пробуждаемых этими влияниями мыслей и других душевных явлений, то и они не совершаются без физиологических процессов. Поэтому, коль скоро мы отрицаем у других людей душевную жизнь, то мы можем (и даже должны) смотреть на их образование только как на совокупность испытанных ими чисто материальных раздражений (звуковых, световых и т. д.) и пробуждаемых этими раздражениями чисто физиологических процессов в их нервной системе, а главное в головном мозгу. А так как нервная система должна реагировать на всякое действующее на нее раздражение в зависимости как от него самого, так и от характера сохранившихся в ней следов прежде действовавших раздражений, то вполне естественно, что образованный и необразованный человек часто реагируют различно на один и тот же вопрос, хотя оба они одинаково чужды одушевления: прежде на них действовали неодинаковые раздражения и поэтому в нервной системе того и другого, наряду с одинаковыми, хранятся также и различные следы. Например, на простолюдина звуковое раздражение, состоящее из звуков термина «психические явления», еще никогда не действовало, также как на врача, с которым мы прежде имели дело, еще никогда не действовали звуковые волны китайской речи, так что оба они в этом отношении находятся почти в одинаковых условиях. От этого как простолюдин на вопрос о психических явлениях, так и врач на китайскую фразу реагируют почти одинаково — оба отвечают чем-нибудь вроде мимики недоумения, замешательства и т. п., то есть, они отвечают иначе, чем на первое раздражение (на вопрос: «кто вы такой?»), ибо последнее многократно действовало на обоих и оставило в нервной системе каждого из них соответствующие следы, которые впредь определяют характер реакции того и другого на вопрос: «кто вы такой?». Таким образом их поведение и в этом случае можно объяснить без помощи участия душевной жизни — одними лишь чисто материальными процессами и их законами.
26
Таким же путем скептик может объяснить и множество других фактов. Так, вместо, того, чтобы говорить, будто бы поступки человека зависят от его знания, опытности и т. п., и подразумевать под этим психические свойства, он может сказать, что они зависят от тех следов, которые остаются в нервной системе после всех пережитых ею разнообразных, но всегда чисто материальных, влияний, а также и после тех физиологических процессов, которые пробуждаются в ней этими влияниями. Рассуждая так, скептик тоже допускает зависимость поступков от опытности, образованности и т. п.; но все это (образованность и т. д.) понимается им только в смысле физиологических преобразований нервной системы, не сопровождаемых ровно никакими психическими процессами.
Если же мы в добавок примем в расчет, что всякое организованное тело, будет ли оно одушевленным или неодушевленным, — это все равно, — отличается, во-первых, изменчивостью в течение всей своей жизни, а, во-вторых, некоторыми, хотя бы иногда очень малыми, индивидуальными особенностями как в строении, так и в отправлении своих частей, то у нас явится полная возможность объяснять без помощи душевных явлений все, что мы наблюдали в других людях. Так, если мы замечаем, что одно и то же лицо в одинаковых условиях поступает неодинаково (например, когда ребенок вырастет, то его поведение при одних и тех же внешних условиях станет совсем другим, чем прежде), то мы можем объяснить это без помощи душевной жизни, как результат некоторых изменений в его организме (отчасти они состоят в накоплении следов от прежних раздражений и вызванных ими нервных процессов, отчасти же в других изменениях, например, в изменениях чисто растительного характера). Таким же путем мы можем объяснить разницу в наблюдениях над здоровым и больным человеком и т. п. А индивидуальные особенности объяснят нам, почему при одних и тех же обстоятельствах (и в настоящем и прошлом) разные лица могут поступать различно, хотя бы ни одно из них не было одушевлено.
Тем же способом я могу объяснить и то, что во мне самом существуют душевные явления: я могу рассматривать это, как мою индивидуальную особенность, которой поэтому нет в других людях.
Итак, нельзя опровергнуть того, кто вздумает отрицать в других людях существование душевной жизни и для этой цели
27
станет объяснять все то, что наблюдает в них, чисто материальными процессами. Он всегда подыщет соответствующие его цели объяснения, ибо каждое душевное явление сопровождается каким-либо материальным процессом; поэтому всюду, где мы, противники скептика, вводим в свои объяснения то или другое душевное явление, скептик, отрицая его, подставит вместо него только те телесные процессы, которыми оно сопровождается. А возражать ему, что эти процессы были бы невозможны без соответствующих психических, нельзя, ибо о том-то и идет спор, существуют ли указываемые им телесные процессы у других людей без душевных, или же они у всех и каждого сопровождаются последними.
На этом мы и могли бы остановиться, не приводя никаких дальнейших доказательств в пользу неопровержимости скептика, ибо она и так уже достаточно выяснена; а, сверх того, предшествующие соображения могут служить схемами и для разных других, касающихся таких же наблюдений. Но невозможность доказать одними эмпирическими доводами (без примеси метафизических) существование чужой душевной жизни составляет на столько непривычную для нас мысль, что мы не можем легко помириться с ней. (Ведь сначала, пока мы еще не размышляли об этом предмете, нам даже кажется, будто бы мы прямо видим, одушевлен ли другой человек, или нет, и какое именно душевное явление переживается им в ту или другую минуту; лишь впоследствии мы убеждаемся, что прямому наблюдению доступны только материальные процессы, а всякое знание хода чужой душевной жизни приобретается не иначе, как путем умозаключения или истолкования наших наблюдений над телесными процессами другого существа). А все привычное всегда кажется нам само собой очевидным; и если нам доказывают что-нибудь противоположное нашим привычным взглядам, то предложенное доказательство, каково бы оно ни было само по себе, никогда не убеждает нас сразу. Если даже мы и признаем себя бессильными опровергнуть его, то мы все-таки думаем, что в нем скрывается какая-нибудь незамеченная нами ошибка. Поэтому те положения, которые разрушают наиболее привычные воззрения, всегда полезно подтверждать различными доказательствами. К тому же до сей поры мы ограничивались только разбором попыток опровергнуть скептика, и найдя, что они неосуществимы, из одного этого заключили о праве всех и каждого отрицать чужую душевную жизнь. Но убеждение в ее существовании возникает не чрез опровержение скептика, а
28
другим, более простым путем; так, может быть, этот-то путь и обнаруживает с полной достоверностью то самое, что мы бесплодно пытались защитить от нападений скептика. Поэтому нам надо рассмотреть эти простейшие доводы существования чужой душевной жизни. Так мы и сделаем, при чем постараемся еще более выяснить, и при том в самом общем виде, почему именно никогда нельзя опровергнуть скептика. До сей поры мы разбирали его возражения, исходя вместе с ним из тех положений, которые допускаются современною психофизиологией, так что достоверность наших выводов зависит от прочности этих положений. Но мы ничем не гарантированы, что эти положения, созданные под влиянием принципов, выработанных прежнею философией, никогда не заменятся новыми1). Поэтому мы оправдаем наш вывод и независимо от них, путем рассмотрения тех умственных процессов, которые совершаются, когда мы мыслим о чужой душевной жизни. Теперь же пока разъясним полученный нами вывод: это небесполезно в том отношении, что предохранит проводимую нами мысль от всяких недоразумений и перетолкований.
Мы утверждаем, что всякий может отрицать существование душевной жизни повсюду, кроме самого себя, и объяснять все то, что мы привыкли считать обнаружением душевных явлений, как результат чисто-материальных процессов, не сопровождающихся ни ощущениями, ни мыслями, ни чувствованиями, ни желаниями и т. д.; такой скептик не может быть опровергнут эмпирическим путем, то есть, отрицание чужой душевной жизни нисколько не противоречит данным опыта. Допустим на время, что мы окончательно убедились в этом. Но если скептик отрицает во мне существование душевной жизни, то, хотя я и не могу его опровергнуть, тем не менее я не могу и согласиться с ним, ибо во мне для меня самого она засвидетельствована моим самонаблюдением. Пусть все то, что извне наблюдается во мне, можно истолковать, как происходящее без всякой примеси одушевления; но ведь «можно» еще не означает «должно»; а между тем я непосредственно, без всяких истолкований и умозаключений, знаю и не могу не знать, что я одушевлен и что истолковываемые в скептическом духе телесные процессы наверное сопровождаются во мне разнообразными душев-
_______________________
1) В этих положениях мы уже отметили отголосок пресловутого вопроса о седалище души; значит, они не свободны от метафизических влияний.
29
ныли явлениями. Против такого положения дела нельзя возражать уже никакими аргументами, ибо логика бессильна там, где выступает на сцену непосредственная очевидность: нельзя доказывать мне, будто бы я не вижу белизны этой бумаги, не слышу звуков чужой речи, ничего не мыслю и т. д., когда я прямо чувствую, что я вижу, слышу, размышляю, вспоминаю, воображаю, негодую и т. д. (А в этом положении, кстати сказать, находится и сам скептик, ибо и в нем я могу отрицать душевную жизнь, не боясь быть опровергнутым). Значит, та душевная жизнь, про которую я наверное знаю, что она существует, именно моя собственная, протекает так, что всякий, нисколько не рискуя быть опровергнутым, может ее отрицать и объяснять все то, что я называю ее обнаружением, как результаты чисто материальных процессов. Но ведь и я тоже могу отрицать душевную жизнь повсюду, кроме самого себя, и меня тоже никто не опровергнет. Следовательно, мы можем высказаться в более общем виде: именно, всякая душевная жизнь (где бы она ни была, во мне ли самом, или в других, это безразлично) протекает так, что всякий может ее отрицать во всех существах, кроме самого себя, нисколько не рискуя быть опровергнутым; ее нельзя отрицать только в самой себе. А если так, то, значит, течение и душевной и телесной жизни в каждом организме подчинено такому закону, что какие влияния ни оказывала бы душевная жизнь на телесную, среди явлений последней никогда не бывает таких, которые были бы необъяснимы без первой; телесная жизнь, на сколько она доступна эмпирическому познанию, всегда бывает такой, что все равно, сопровождается ли она душевной жизнью, или нет. Ведь принято, что нельзя опровергнуть того, кто отрицает чужую душевную жизнь; а это было бы немыслимо, если бы существовали такие телесные явления, которые необъяснимы без душевной жизни. Из этого закона с необходимостью вытекает, что нет ни одного телесного явления, которое могло выслужить признаком одушевления. Последнее может быть засвидетельствовано только такими телесными явлениями, которые были бы необъяснимы без участия душевной жизни. Но таких явлений нет; значит, нет и объективных признаков ее присутствия, а существуют одни лишь субъективные (данные в самонаблюдении). А потому этот закон может быть назван законом отсутствия объективных признаков одушевления. Ему-то и подчиняется всякая душевная жизнь. Такова проводимая нами мысль.
30
Она, конечно, похожа несколько на теорию предустановленной гармоний; но между тем и другим учением есть в то же время резкая разница. Теория предустановленной гармонии составляет трансцендентно-метафизическое учение: она имеет в виду не закон, касающийся отношений душевных и телесных явлений, а внутренний механизм связи событий, принадлежащих к разным субстанциям (в частности же имеется в виду механизм связи событий той субстанции, которая составляет душу человека, с событиями тех субстанций, которые составляют его тело). Эта теория, как известно, и возникла-то под влиянием стремлений сделать понятным, как могут взаимодействовать друг с другом разнородные субстанции, как душа и тело; а этот вопрос Лейбниц обобщил в вопрос о способе и возможности взаимодействия каких бы то ни было (хотя бы вполне однородных) субстанций, указав на то затруднение, что каждая субстанция (уже по самому понятию субстанции) должна оставаться независимой от деятельности всех других, и для его решения предложил теорию предустановленной гармонии.' Последняя в применении к психологии и возникает, и падает не иначе, как в зависимости от наших воззрений на сокровенную природу или сущность души и тела: стоит только заменить допускаемое Лейбницем предположение, что человек состоит из нескольких субстанций, при чем одна из них служит его душой, предположением Спинозы, по которому душа и тело составляют только две стороны' одной и той же субстанции, как уже и не будет места для предустановленной гармонии. Учение же об отсутствии объективных признаков одушевления развивается, как уже мог заметить читатель, вполне независимо от каких бы то ни было взглядов на природу или сущность души и тела. Оно имеет в виду не трансцендентно-метафизические задачи, касающиеся механизма взаимодействия субстанций друг с другом, а чисто гносеологический вопрос о пределах нашего познания: это учение ограничивается лишь указанием на невозможность доказать одними эмпирическими доводами существование чужой душевной жизни, иначе — на отсутствие таких телесных явлений, которые не могли бы быть скомбинированы по законам чисто материальной природы, то есть, которых нельзя было бы объяснить без душевных явлений. Поэтому и закон отсутствия объективных признаков одушевления имеет чисто эмпирическое, а отнюдь не трансцендентно-метафизическое значение: он говорит только о явлениях: душевных и телесных,
31
но не о сущностях. Чем бы и как бы ни порождались явления того и другого ряда, говорит этот закон (пусть материя порождает сама собой душевные явления, или душа организует для себя тело и т. д.), но среди телесных явлений нет ни одного такого, которое было бы не объяснимо без душевных и которое без них не могло бы существовать ни при каком расположении частей материи. Иначе — всякое материальное явление, где бы оно ни наблюдалось (в организмах ли, или в неорганизованных телах) и чем бы на самом деле ни порождалось (хотя бы и душой), всегда совершается по законам материальной природы и может быть объяснено ими одними без всякой помощи душевной жизни. Вот к чему, говоря вкратце, сводится наше учение о законе отсутствия объективных признаков одушевления. Словом, теория предустановленной гармонии, решая вопросы о том, что лежит сзади мира внутренних и внешних явлений (по ту сторону всякого возможного опыта), есть трансцендентно-метафизическое учение; закон же отсутствия объективных признаков одушевления касается только того, что остается в пределах опыта, одних лишь явлений, и имеет эмпирическое значение.
После этих объяснений перейдем теперь, как было решено нами, к рассмотрению того умственного процесса, про который обыкновенно предполагают, что им-то всегда и создается убеждение в существовании чужой душевной жизни. Посмотрим, может ли этот процесс дать нам в руки средство для опровержения скептика. Если спросить, как, не смотря на то, что чужая душевная жизнь не поддается прямому наблюдению, мы, тем не менее, дошли до убеждения в ее существовании, как совершился этот удивительный трансценс (переход за пределы всякого возможного опыта), то получится единогласный ответ: «посредством умозаключения по аналогии; мы всегда наблюдали в других людях телесные явления, одинаковые или сходные с теми, которые у нас самих служат обнаружениями нашей душевной жизни, и от сходства обнаружений заключали к сходству обнаруживающихся в них процессов». А на требование подтвердить и оправдать этот ответ вряд ли кто будет ссылаться на данные самонаблюдения, а взамен того построит догадку, указывающую на такой путь, как на единственно возможный: «ведь чужой душенной жизни, — скажут нам, — прямо нельзя наблюдать; значит, единственным средством для ее познания служит указанное умозаключение». А это и важно, что мы имеем
32
здесь дело не с фактом внутреннего опыта, а всего только с догадкой о способе развития наших идей; ибо коль скоро пред нами не факт, а гипотеза, то мы в праве противопоставить ей другую гипотезу. Нужно быть только уверенным, что пред нами действительно гипотеза. Но при ответе на вопрос о способе возникновения нашего убеждения в существовании чужой душевной жизни неизбежно приходится руководствоваться только гипотезой. На это есть две неустранимые причины: во-первых, исследуемое убеждение вырабатывается в нас так рано, что мы не в состоянии вспомнить, какими путями сложилось оно; во-вторых, самонаблюдение над теми умственными процессами, которые действительно совершаются в нас во время наблюдений чужой душевной жизни, хотя и обнаруживает в них умозаключения по аналогии, или, по крайней мере, что-то похожее на него, но во всяком случае такое заключение, которое дает ответ совсем на другой вопрос, а не на интересующий нас.
В самом деле, положим, мы наблюдаем, что человек шел сначала вполне спокойно, глядя по сторонам, потом его взор сосредоточился на приближающейся к нему с громким лаем собаке, он замедлил шаги, остановился на минуту, в выражении его лица произошла быстрая перемена (воплощение испуга), и он обращается в бегство. Видя все это, мы заключаем, что им овладел испуг (слово «испуг» употребляется здесь не в смысле физиологического воплощения, а для обозначения самого чувствования, то есть, психического состояния, взятого отдельно от его внешних обнаружений). Здесь несомненно произошло умозаключение, и может быть — по аналогии (этот чисто логический вопрос для нас не важен); но чего оно касается и в чем состоит? Его итог высказывается следующими словами: «наблюдаемый мной человек поступает (с внешней стороны) так, как поступал бы я сам во время сильного испуга; следовательно, им овладел испуг».
В этом итоге не трудно заметить два умозаключения, хотя союз «следовательно» высказан только однажды, как будто бы пред нами всего лишь одно. В первом из них (его вывод отмечен словами: «наблюдаемый мной человек поступает так, как поступал бы я сам во время сильного испуга») я заключаю, о том, что происходило бы в моей собственной душевной жизни, если бы я не ограничивался ролью простого наблюдателя, а поступал так, как и наблюдаемый мной человек, при тех же условиях, в ка-
33
ких находится он. Во втором же (отмеченном словами: «следовательно, им овладел испуг») из этого заключения, сопоставляя его с двумя заранее принятыми предположениями (именно: 1) в этом человеке есть душевная жизнь, 2) ее течение подчиняется таким же законам, как и течение моей собственной), я делаю новое заключение, утверждающее, что наблюдаемый мной человек охвачен испугом. Последнее заключение, говорим мы, совершается не иначе, как при помощи двух заранее принятых предположений. В этом легко убедиться. Если бы я еще не допускал душевной жизни в наблюдаемом мною человеке, то никаким образом не мог бы заключать о возникновении в нем душевного состояния (называемого испугом). Одинаково невозможно было бы подобное заключение и в том случае, если бы я не допускал, что предположенная в нем душевная жизнь подчиняется таким же законам,-как и моя собственная: без этого я не имел бы логического права переносить то, что совершилось бы во мне, на другое лицо.
Итак, при истолковании моих объективных наблюдений я совершаю два умозаключения. Какое же из них делается по аналогии? Существует ли здесь умозаключение по аналогии, или нет, для нас безразлично, и мы не станем спорить о том; но как бы то ни было, если оно и есть здесь, то только в первом умозаключении, а отнюдь не во втором. Последнее, очевидно, не подходит под умозаключение по аналогии: в нем из закона связи телесных явлений (которые я сейчас наблюдал в другом человеке) с душевными я делаю силлогистический вывод о сопутствующих им душевных явлениях. Этот вывод сводится к следующему сложному силлогизму: там, где есть душевная жизнь, подчиняющаяся таким же законам, как и моя, такие-то и такие-то телесные явления (перемена в лице, походка, бегство и т. д.) сопровождаются сильным испугом; у данного человека есть душевная жизнь, подчиняющаяся таким же законам, как и моя, и в, нем наблюдаются сейчас эти самые физиологические явления; следовательно, им овладел сильный испуг. Значит, если и делается нами умозаключение по аналогии при истолковании наших наблюдений чужой душевной жизни, то только в первой части толкования, в той, которая отмечена словами: «наблюдаемый мной человек поступает так, как поступал бы я сам во время сильного испуга». Так и назовем без всякого спора этот вывод умозаключением по аналогии: разбор правильности применения того или другого на-
34
звания очень скучен, и желательно всячески избегать его. Но о чем же говорит эта допущенная нами аналогия: о чужой душевной жизни или о моей собственной? О моей: она указывает мне только то, что было бы со мной самим, а не с другим. Про другого же человека я заключаю уже после того, как аналогия откроет мне, идо пережил бы я сам при тех же обстоятельствах, которые я наблюдал в нем и вокруг него. Следовательно, при наблюдениях чужой душевной жизни допущенная аналогия не раскрывает ее самой передо мной, а служит лишь средством для того, чтобы я мог представить самого себя на месте другого человека; заключения же об его душевной жизни получаются лишь после подстановки себя на место другого, и при том силлогистическим путем.
Эту подстановку и вообще весь описанный умственный процесс легко подметить во множестве случаев1). Но удобнее всего брать наименее привычные для нас случаи, ибо в них он несколько затруднен и поэтому совершается медленнее и заметным образом (таковы истолкования сложных наблюдений над душевной жизнью лиц другого сословия, возраста, мало знакомых, отличающихся оригинальностью, и т. п.). В привычных же случаях вследствие беспрерывного повторения этого процесса его первый член (представление определенного вида внешней стороны чужой жизни) и последний (окончательный вывод о том, что делается в это время в чужой душе, например, признание в ней испуга, радости, досады и т. д.) столь тесно и прочно ассоциируются между собой, что е возникновением первого тотчас же, непосредственно (без всяких рассуждений и умозаключений) и при том обязательно возникает второй. И это совершается, разумеется, очень быстро, как и всякое возникновение одного представления по поводу другого, тесно и прочно ассоциированного с ним, — столь быстро, что нам кажется, будто бы мы прямо, непосредственно воспринимаем чужую душевную жизнь2), хотя и замечаем, что прямо ее никоим образом нельзя
_________________________
1) Например, если я хочу знать, какое впечатление произведут, мои слова на моего собеседника, то я представляю себе, будто бы я сам обладаю таким характером, такими же взглядами, житейским опытом и т. д., какими обладает он, словом, стараюсь сполна переместить себя на его место и смотрю, что было бы при подобных речах со мною самим. Таким же способом я стараюсь угадать, не хитрит ли он со мною, какие у него затаенные планы и т. д.
2) Этим и объясняется взгляд самых грубых профанов, будто бы мы непосредственно наблюдаем чужие душевные явления: он основывается тоже на данных самонаблюдения, но последние берутся без всякого анализа и ограничиваются только наиболее привычными случаями.
35
наблюдать; это странное утверждение зависит от того, что, в привычных случаях при взгляде на внешние явления жизни другого человека, мы тотчас же прямо чувствуем себя вынужденными признать в нем те или другие душевные состояния. Все это очень похоже на то, как при наиболее простых и привычных двухзначных и даже многозначных числах, видя их написанными друг возле друга (или просто слыша их одно за другим), мы часто можем написать их сумму или разность прямо, не производя соответствующих действий: столь прочно ассоциировались у нас от частого повторения эти числа и результат того или другого действия над ними. Вот почему для проверки нашего описания умственных процессов, которые совершаются в нас при истолковании наблюдений чужой душевной жизни, следует брать наименее привычные случаи: они не повторялись еще на столько часто, чтобы в них процесс сложного умозаключения заменился простым воспоминанием окончательного вывода по первому члену рассуждения (по внешним действиям наблюдаемого человека). А полученное при этом заключение мы в праве обобщить и на те случаи, в которых вследствие их привычности описанный процесс умозаключения уже давно заменился процессом припоминания. Значит, и в них сперва дело шло так, что прежде мы подставляли самих себя на место наблюдаемого человека и соображали (по аналогии, как мы допустили), что было бы с самими нами на его месте, а из полученного вывода (сопоставив его с предположениями существования в нем душевной жизни и ее подчиненности таким же законам, как и моя собственная) чисто дедуктивным путем заключали о том, что делается в душевной жизни наблюдаемого человека. Такое обобщение вполне позволительно, ибо оно касается однородных случаев: они ведь отличаются друг от друга только тем, что одни более привычны, другие менее, одни сложнее, другие проще.
Таков-то процесс, совершающийся в нашем уме при так называемых наблюдениях чужой душевной жизни. Можно указать и причину, почему он должен быть таковым: она состоит в том, что для нас недоступно даже и представлять-то себе чужую душевную жизнь, как чужую. Этим не говорится, чтобы мы не переживали тех процессов, которые мы называем представлением чужой душевной жизни. Они несомненно существуют; но состоят-то они не в том, в чем состоит представление какого-либо тела или внешних событий, — не в том, чтобы мы умственно ставили
36
пред собой образ чужой (обособленной от нас) душевной жизни. Когда мы говорим, что мы представляем себе чужую душевную жизнь, то в действительности в нас происходит один из следующих двух процессов: или мы представляем свою собственную душевную жизнь в том виде, как она протекала бы, если бы сполна была поставлена в условия душевной жизни того лица, о котором идет речь (то есть, представляем себе, что нами прожита точь в точь такая же жизнь, как и им, что мы находимся яри тех же обстоятельствах, и т. д.); или же взамен того мы представляем себе только телесную жизнь другого лица, а это представление сопровождается более или менее сокращенным процессом (который мы только что описали) ее истолкования. Так, если я хочу представить себе душевное состояние первого человека, когда он впервые увидал солнечное затмение, то я начинаю представлять на его месте самого себя. Я представляю, что я сам не имею никаких сведений и воспоминаний об этом явлении; что я сам привык видеть солнце угасающим только на западе, при закате, никогда не видал такой густой, неизвестно откуда быстро надвигающейся на меня мглы; что у меня сохранились неизгладимые воспоминания о том сильном впечатлении, которое возникло во мне, когда я впервые наблюдал закат солнца и первую увиденную мной ночь, о моих тогдашних опасениях, наступит ли вновь свет, которые впоследствии оказались ложными, и т. д. Представив себе все это, я возможно живее воображаю себе картину солнечного затмения, и тогда все вызванные мной образы действуют на меня (по крайней мере, с качественной стороны) одинаково с соответствующими восприятиями, то есть, пробуждают во мне такое же течение мыслей, чувствований и желаний, какое возникло бы во мне, если бы я действительно пережил все то, что сумел вообразить. Пережив этот процесс, я называю его (пользуясь для этого общеупотребительным языком) представлением душевной жизни другого лица; в действительности же я представлял себе вовсе не чужую, а свою собственную душевную жизнь, помещенную в условиях, при которых проходит чужая. Другой пример: я, как говорится, представляю себе душевное состояние Катерины (из Грозы) или короля Лира в тот или другой момент их жизни. Что же я переживаю при этом? В действительности я очень часто представляю себе игру (значит чисто телесные явления) Федотовой, Росси, или же какой-нибудь подобный же (ограничивающийся телесною стороной) образ,
37
и он сопровождается во мне истолкованием его значения. Такой процесс я опять называю представлением чужой душевной жизни. Но представлять ее саму, то есть, представлять себе чужую душевную жизнь, как чужую, как обособленную от нас, это нам недоступно. Наша уверенность, будто бы мы обладаем подобными представлениями, зависит от того, что в нас совершаются процессы, которые называются этим именем и на состав которых мы обыкновенно не обращаем никакого внимания, а потому и привыкаем судить об них по их названию. В действительности же сама чужая душевная жизнь остается непредставимой. А этим легко объясняется, почему мы. при истолковании своих наблюдений над ней делаем сперва подстановку своей собственной душевной жизни на место чужой и лишь после того заключаем о том, что происходит в чужой душе: коль скоро чужой душевной жизни нельзя ни наблюдать, ни представлять, то эта подстановка остается единственным средством для проникновения в чужую душу.
После этих объяснений вернемся к нашему вопросу. Теперь стало вполне понятным, почему общепринятое мнение о том, что о существовании чужой душевной жизни мы узнаем умозаключением по аналогии, подтверждают не ссылкой на самонаблюдение, а только догадкой, указанием на то, что будто бы нет никакого иного пути. Причина этому та, что в самонаблюдении не открывается ничего подобного. Оно открывает нам только процесс умозаключения об одних лишь переменах, происходящих в чужой душевной жизни, про которую при этом уже заранее допускается не только то, что она существует, но еще и то, что она подчинена таким же законам, как и моя собственная. Мало того, эти умозаключения совершаются чисто дедуктивным путем. Что же касается до умозаключения, похожего на умозаключение по аналогии, то оно открывает мне не существование чужой душевной жизни и даже не наступающие в ней перемены, а только те состояния, которые, при известных условиях, были бы пережиты мною самим. Есть правда случаи, в которых практикуется и умозаключение по аналогий: именно, если мы, считавши прежде какой-нибудь вид организмов (низших) бездушными, впервые начинаем думать, что они одушевлены, то мы часто ссылаемся на сходство их поступков с поступками других существ, одушевление которых уже заранее признано. Подобным же путем заключают и те, кто в рефлексах спинного мозга видит обнаружения спинномозговой души: они указывают на поразительное
38
сходство этих рефлексов с движениями животного, у которого головной мозг остается целым и у которого поэтому никто не отрицает присутствия душевной жизни, обнаруживающейся в этих движениях; а отсюда заключают о необходимости применить подобное же предположение и при истолковании рефлексов спинного мозга. Ново всех этих случаях уже заранее признано существование душевной жизни помимо меня, и самая аналогия проводится не между мной и другим существом, а между двумя внешними для меня существами, из которых одно уже считается одушевленным, а другое составляет предмет обсуждения. Таким образом, аналогия приводит здесь не к возникновению убеждения в существовании чужой душевной жизни, а только к распространению его на новые существа: после того, как мы уже допустили, что некоторые существа обладают душевной жизнью, мы посредством аналогии распространяем этот взгляд на другие, более или менее сходные с ними существа. Наш же вопрос состоит в том, как мы впервые приходим к признанию существования чужого одушевления. И на этот-то вопрос наше самонаблюдение не дает прямого ответа, так что мы вынуждены построить какую-нибудь гипотезу, и вот мы строим такую, которая кажется проще других.
Итак, волей-неволей мы должны составлять понятие о процессе возникновения нашего убеждения в существовании чужой душевной жизни только путем догадок — гипотезой. И нужно сознаться, что общепринятая гипотеза далеко не безупречна. При ее построении упущено из виду, что первоначальный ум1) не сосредоточивает своего внимания на душевной жизни; в его мышлении даже его собственный внутренний мир почти не обособляется от внешнего, как бы поглощается им. Доказательством этого может служить даже греческая философия в ее первом (дософистическом) периоде: он характеризуется именно подавляющим господством космологического интереса и тем, что познающее «я» еще не замечало самого себя и как бы оставалось поглощенным внешним миром, который поэтому служил главенствующим объектом его изучения. Далее, первоначальный ум неспособен к абстрактному мышлению; он мыслит исключительно образами. Это тоже упущено из виду
_________________________
1) Мы берем ум первобытный, а не детский, ибо жизнь последнего осложняется как наследственными ассоциациями, так и влиянием окружающих взрослых лиц.
39
общепринятой гипотезой, и она навязывает первобытному (и также детскому) уму построение умозаключения о том, чего никоим образом нельзя себе представить, а можно только мыслить: ведь сама чужая душевная жизнь, как мы видели, не может быть представляема нами; взамен того мы всегда представляем себе или свою собственную душевную жизнь, подставленную на место чужой, или же чужую телесную жизнь. В виду всего этого первоначальный ум не может делить встречаемые им существа на одушевленные и неодушевленные: для этого требуются такие понятия(души) и такая умственная деятельность (мышление о том, чего нельзя представить), которых у него еще нет и к которым он ещё не способен.
За то ему доступна и должна невольно навязываться другая классификация: это — деление всех существ или тел на живые и безжизненные. Разница между ними сама собой кидается в глаза, и для того, чтобы подметить ее, вовсе не требуется ни понятия души, ни мышления о том, чего нельзя представить. Одни тела недеятельны, неподвижны, и на всякое действие, при равенстве внешних условий, отзываются всегда одинаково; это один класс тел. Другие же подвижны, деятельны и при одинаковых внешних условиях поступают и действуют неодинаково, пробуждая движение часто сами из себя; из них составляется другой класс тел. На этом дело не останавливается. Жизнь требует хоть какого-нибудь знания окружающих предметов и уменья предугадывать наступающие в них явления. Для тел безжизненных это легко может быть достигнуто: коль скоро подмечено, как они действуют и реагируют при данных условиях, то при повторении последних мы можем наверняка ждать повторения прежних же явлений. Но труднее оказывается предвидеть то, как поступят при тех или других условиях тела живые, ибо они и отличаются-то именно своей неполной подчиненностью внешним условиям; а понятие о душе, и об ее собственной (внутренней) причинности еще не созрело. Из этого заколдованного круга не было бы никакого выхода для первоначального ума, если бы на помощь ему не приходили новые наблюдения. Самого себя каждый человек, разумеется, должен отнести к классу живых существ; а в то же время ему не трудно заметить, что некоторые из них при таких-то условиях поступают точно также, как поступает или поступил бы и он сам при тех же условиях. Этого вполне достаточно, чтобы внушить ему (особенно же при господстве воображения) мысль пытаться предугадывать их
40
поступки чрез воображаемую подстановку самого себя на их место. Во многих случаях эти попытки увенчаются успехом, в других же, хотя и нельзя будет предугадать чужих поступков, за то почти всегда можно будет сделать их себе сколько-нибудь понятными, связными, после того, как они совершились. Таким образом вырабатывается постоянная привычка судить обо всем живом чрез подстановку самого себя на место других живых объектов1). Поэтому к тому времени, когда возникнет уже более теоретическое отношение к окружающим вещам, а с ним начнет вырабатываться и некоторое уменье мыслить о том, чего нельзя себе представить, вместе же с этим в наших мыслях станет понемногу обособляться внутренний мир от внешнего — к этому времени перенесение нашего существа (посредством которого мы предугадывали и объясняли себе поступки живых существ) окажется прочно и неразрывно ассоциированным со всяким представлением живого объекта. Следовательно, коль скоро мы в представление своего существа введем понятие души или душевного мира относительно самих себя, то в силу указанной ассоциации это понятие окажется перенесенным и на все живое. А так как при возникновении, хотя бы слабого, теоретического интереса придется же дать отчет, от чего зависит разница между живыми и безжизненными телами, то вполне естественно, что душа на первых порах мыслится только как жизненный принцип, а не как познающий дух, что мы и наблюдаем повсюду, не исключая даже и греческой философии на первых порах ее развития (до Анаксагора, а еще вернее — до Платона). Понятно и то, почему ее первые шаги отличались гилозоизмом. При ее возникновении прежняя классификация (разделяющая все сущее на живое и безжизненное) еще не заменилась новой (делением сущего на одушевленное и неодушевленное), так что отыскиваемое ею первоначало вещей она еще никоим образом не могла признать бестелесным, а непременно телесным, хотя бы и живым; а так как еще не выработалось уменье объяснять живое неживым, то философия признала первоначало вещей и телесным и живым.
Очень может быть, что генезис идеи чужого одушевления и не
_________________________
1) Здесь, если угодно, совершается умозаключение по аналогии, но не от внешнего к внутреннему (которого еще нет), но от внешнего к внешнему: от сходства данного тела со мной в одних поступках я заключаю к его сходству в других.
41
вполне таков: если существует, кроме внешних чувств и ума, ещё какое-нибудь чувство, дающее нам знать о том, что находится вне нас (метафизическое чувство), судить о чем еще рано, то ее генезис осложнится примесью его деятельности, и он будет разнообразиться различными особенностями в зависимости от индивидуального или национального различия в развитии этого чувства1). Во всяком случае вследствие недоступности первоначальному уму мышления о том, чего нельзя представить, генезис идеи чужого одушевления должен быть признан гораздо более сложным, чем это допускается ходячей гипотезою. Но оставим это теперь, и обратим внимание вот на что: нельзя ли воспользоваться общепринятой гипотезой, как указанием на средство для оправдания убеждения в существовании чужой душевной жизни, другими словами — для опровержения тех, кто пробует отрицать ее? Может быть, ходячая гипотеза возникла под влиянием убеждения, что стоит только указать скептику на то обстоятельство, что некоторые другие существа и по организации, и по деятельности поразительно похожи на него самого, а в себе самом он не отрицает душевной жизни, то этим самым мы обяжем его допускать в силу аналогии с большею или меньшею вероятностью душевную жизнь и в других людях. Но в действительности этот способ оказывается непригодным для переубеждения скептика. Говоря так, мы имеем в виду отнюдь не то, что умозаключения по аналогии отличаются вообще малой степенью вероятности. Пускай они будут наидостовернейшими; но вследствие особых условий нашего вопроса они здесь неприменимы, как и вообще для его несомненного решения неприменимы никакие умозаключения. С полной достоверностью его можно решить только чувством, то есть, без помощи умозаключении.
О том, что душевную жизнь можно допускать в других людях без всякого противоречия с фактами, никто не спорит; более того, нельзя сомневаться в ее существовании. Но у нас идет речь, возможно ли посредством ссылки на сходство других существ с нашим скептиком сделать для него обязательным признание чужой душевной жизни, то есть, поставить его в логическую невозможность отрицать ее у них. В непригодности для этой цели предлагаемого умозаключения можно быстро убедиться на деле. Перед нами человек, назовем его X, у которого скептик не затрудняется отрицать существование душевной жизни и считает его
___________________
1) А у детей он осложняется наследственными привычками в мышлении.
42
бездушной машиной. Этот X, будет ли то под влиянием только что выслушанных им обидных для него сомнений скептика, или по каким-нибудь другим причинам, поступает так же, как поступает и скептик вовремя гнева или негодования. Мы говорим своему противнику: «коль скоро X поступает, как и ты сам во время гнева, то, значит, и X в настоящую минуту переживает такое же душевное состояние; следовательно он — одушевленное существо». Но разве скептик не в праве сделать такое возражение: «телесные явления, наблюдаемые мной в X, таковы, что если бы они происходили во мне, существе одушевленном, то они сопровождались бы во мне гневом. Отсюда следует пока только то, что если X существо одушевленное, (душевная жизнь которого, вдобавок, течет по таким же законам, как и моя собственная), то он сейчас действительно переживает гнев; а принадлежит ли он к числу одушевленных существ, это еще не известно. Я, продолжает скептик, отрицаю у него одушевление; а потому я из наблюдаемых мною фактов (каковы бы они ни были) делаю всегда только условный вывод — все поступки X таковы, что если бы они имели место в другом существе, которое обладало бы душевной жизнью, и при том подчиненной таким же законам, как и моя собственная, то я про это другое существо обязан был бы признать, что оно гневается. Но ведь X не обладает душевной жизнью, а потому и не может гневаться". Что возразить на это? Можно ли потребовать, чтобы наш противник взамен условного вывода делал, как и мы, безусловный? Да ведь это, значит требовать, чтобы он отказался от своих сомнений прежде, чем мы их опровергнем. Он пока еще вправе и допускать и не допускать одушевление X; а толкование наблюдаемых фактов, разумеется, будет неодинаковым в том и другом случае.
Итак, выбранный нами способ опровержения оказался непригодным: в этом мы убедились на деле, пробуя применить его. Иначе и не могло быть. В самом деле, если от сходства со мной другого существа я безусловно заключаю, что оно одушевлено, то это заключение позволительно (даже обязательно) только в том случае, когда я уже убежден, что существует неизбежная для всех и каждого зависимость между некоторыми телесными и душевными явлениями (в противном случае всякие телесные явления всегда могут происходить там, где нет никаких душевных, так что от существования первых никоим образом нельзя заключать к существованию последних). А скептик именно и отрицает это самое убеждение: он говорит, что во всей вселенной одушевлен только он
43
один; у других же людей совершаются телесные явления такие же, как и у него, но здесь они никогда не сопровождаются соответствующими душевными; следовательно, та зависимость телесных явлений с душевными, которую он подмечает в себе, рассматривается им не как общая, неизбежная для всех и каждого, но как случайная, обусловленная его индивидуальными особенностями. Если бы он придавал этой зависимости общенеобходимый характер, то он обязан был бы заключать по сходству телесных явлений о существовании душевной жизни и у других людей; но он не придает ей такого характера, а потому требовать от него, чтобы он строил подобное умозаключение, это значит требовать, чтобы он при обсуждении указанных ему фактов (сходства с ним других людей) исходил из того самого предположения, которое мы еще только собираемся оправдать при помощи этого же обсуждения.
Таким образом мы, очевидно, запутываемся в заколдованный круг. Для требуемого заключения об одушевлении других людей я уже должен быть убежден, что существующая во мне связь душевных явлений с телесными не случайна, не принадлежит к числу индивидуальных особенностей. Но коль скоро вопрос о чужом одушевлении еще не решен, то мне еще не известно и остается на столько же нерешенным, не отличается ли связь моих душевных явлений с телесными частным, чисто индивидуальным, характером (ведь так оно и будет, если, кроме меня, нигде нет душевной жизни). Значит, опровергая своего противника умозаключением, основанным на внешнем сходстве людей, я исхожу из таких предположений, которые допустимы лишь после его опровержения. Чтобы выбиться из этого заколдованного круга, я должен доказать каким-либо другим путем (без помощи указанного умозаключения), что существующая во мне связь телесных явлений с душевными имеет не индивидуальное, но общее значение. И при том это надо доказать только эмпирическими, а отнюдь не метафизическими доводами.
А как это сделать? Здесь мы дошли до того пункта, где уже окончательно должно обнаружиться отсутствие объективных признаков душевной жизни: такими признаками могут служить только те телесные явления, которые у всех существ необходимо связаны с душевными, так что если нельзя доказать общенеобходимого характера связи моей душевной жизни с сопровождающими ее телесными процессами, то и ни одно телесное явление не может считаться обязательным свидетельством о существовании душевной жизни в наблюдаемом теле. А разве можно доказать, что те те-
44
лесные явления, которыми во мне самом сопровождаются такие или иные душевные состояния, везде, у всех существ, стоят в связи с душевной жизнью? Для подобного доказательства, раз что возникло сомнение в существовании душевной жизни помимо меня, логика не доставляет никакого средства. Во мне самом я нахожу строго определенную связь душевной жизни с телесною, и требуется, чтобы, этот факт я с достоверностью, а не только проблематически, обобщил на все сходные со мной существа; но откуда же возьмется достоверность обобщения, коль, скоро я не в состоянии устранить подозрение, не зависит ли во мне эта связь от чисто индивидуальных особенностей? Для устранения же его я должен убедиться, что такая же связь существует и помимо меня, независимо от моих индивидуальных особенностей, другими словами — я должен показать, что и в других существах определенные телесные явления сопровождаются такими же душевными состояниями, как и во мне; но в этом-то я и сомневаюсь, об этом-то и идет речь. Значит, этим путем нельзя устранить моего сомнения. А пока оно не устранено, я не в праве обобщать то, что нахожу в себе (связь определенных явлений с душевными), на другие существа.
Правда, бывают случаи, где, по-видимому, мы делаем обобщения на основании всего лишь одного наблюдения связи двух фактов: например, коль скоро мы однажды определили удельный вес одного лишь куска золота, то мы тотчас же, на основании одного лишь этого наблюдения, заключаем, что и всякий другой кусок золота всегда будет обладать таким же удельным весом. Но ведь это только кажется, будто бы мы здесь руководимся одним лишь единичным случаем; в действительности путем множества прежде сделанных разнообразных наблюдений, которые, благодаря их разнообразию, пополняют и контролируют друг друга, мы издавна пришли к непоколебимому убеждению, что куски золота (или, говоря общее, одного и того же металла, и еще общее — всякого неорганизованного вещества) не отличаются один от другого никакими индивидуальными особенностями и всегда при одних и тех же условиях обладают одинаковыми свойствами, так что все подмеченное нами в одном куске всегда будет найдено при тех же условиях как в нем самом, так и в других кусках того же вещества. С таким убеждением вполне позволительно обобщать единичные факты, не рискуя ошибиться.
А само это убеждение возникло не иначе, как под влиянием мно-
45
жества наблюдений: всегда, или почти всегда, было так, что свойства, найденные в одном куске неорганизованного вещества (например, неокисляемость, тягучест и т. п. золота, серебра и т. д.), оказывались и в других кусках того же вещества, независимо от их формы, места нахождения и т. п.; эти свойства претерпевали заметные для нас перемены не иначе, как в связи с внешними условиями (например с нагреванием и т. п.). Отсюда-то мы заключили (хотя и не формулировали этими самыми словами), что куски золота, серебра и т. д., словом—неорганизованных веществ, не обладают тем, что мы называем индивидуальными особенностями; а потому при обсуждении своих новых наблюдений над неорганизованными веществами мы уже заранее исключаем всякое подозрение о влиянии этих особенностей 1).
Но иначе поступаем мы, когда дело идет о предметах организованных в виде неделимых особей. Например, если мы подметили у одного человека, что у него оригинальная форма ногтей совпадает с столь же оригинальной формой зубов, то мы, без помощи дальнейших наблюдений или же без помощи знания причин такого совпадения у этого человека, никоим образом не решимся утверждать, что и у всех других людей такая же форма ногтей, как у него, будет всегда совпадать с такою же формой зубов. Для такого обобщения мы потребуем или новых наблюдений, которые устранили бы всякое подозрение, что это совпадение зависит от индивидуальных особенностей данного человека, или же указания на причины этого совпадения у него, из которых мы могли бы заключить, может ли оно рассматриваться, как общее правило. И это вполне естественно, так как большая часть явлений, которые мы наблюдаем у предметов, организованных в виде индивидуумов, стоят в связи с этой организацией и исчезают с ее уничтожением; а потому ни один факт не может быть рассматриваем, как общий для всех индивидуумов данного рода, до тех пор, пока мы не убедимся, что он не зависит от индивидуальных особенностей того индивидуума, в котором он впервые подмечен.
__________________________
1) Но, говоря о неорганизованных органических соединениях, мы всё-таки принимаем в расчет, что их свойства зависят от значительно большего числа условий, чем в неорганических веществах; например, вкус вина изменяется даже только от течения времени и т. п.; поэтому уже и здесь мы делаем свои обобщения гораздо осторожнее, чем при наблюдении неорганических веществ.
46
По этой же причине я не в праве обобщать существующий во мне факт сопутствования определенных телесных явлений душевными на других людей, пока у меня не исключено подозрение, что такая связь явлений зависит во мне от чисто индивидуальных особенностей. Но как я могу устранить это подозрение? Только двумя путями можно надеяться достичь этого: 1) или я должен показать существование душевной жизни независимо от моих индивидуальных особенностей, то есть, в других существах, кроме меня; 2) или же я должен определить причину, которая порождает существующую во мне связь моих телесных явлений с душевными, и потом обсудить, какова эта причина, действует ли она везде или же только во мне. Первый путь, как мы сейчас видели, оказывается логически невозможным: прямо видеть чужую душевную жизнь нельзя, и об ее существовании можно только заключать по тем или другим телесным процессам; для обязательности же этого заключения надо исходить из предположения, что эти процессы стоят в общенеизбежной, а не в случайно-индивидуальной, связи с душевною жизнью, то есть, приходится сделать круг в своем доказательстве. Таким образом оно никогда не разубедит ни одного логично мыслящего скептика. Остается, значит, попытать второй путь — обсуждать характер существующей во мне связи между душевной и телесной жизнью на основании тех причин, которые обусловливают эту связь: надо посмотреть, таковы ли ее причины, чтобы она была общенеизбежнои.
Но как нам быть? Для метафизика здесь нет никакого затруднения, ибо он заранее предполагает, чем именно порождается эта связь (душой ли, организованной ли материей и т. п.), а потому заранее уверен, какими причинами порождается в нем самом эта связь, и может ли она иметь общенеобходимый (а не только индивидуально необходимый) характер. Мы же отказались от всякой метафизики; и порождается ли связь душевных явлений с телесными одною лишь материей, или же душою без материи, или и той и другой вместе, при чем — взаимодействуют ли они в действительности, или же только кажутся находящимися во взаимодействии, — все это остается вне сферы доступного для нас познания. Мы должны судить об условиях существования этой связи чисто эмпиричесским путем, то есть, нам необходимо подсмотреть в опыте, чем. именно обусловлено ее существование. Но мы уже пытались определить эти условия, и оказалось вполне неразрешимым, зависит ли она только от индивидуальных условий, или от общих
47
Если же нельзя определить условий ее существования, то остается лишь посмотреть, как и при каких условиях она возникает. Для этого я должен наблюдать процесс возникновения душевной жизни. Но в ком мне наблюдать его? В самом себе невозможно, потому что для самонаблюдения она должна уже существовать. В других существах? Об их душевной жизни я могу только заключать по их телесным процессам, а для возможности подобного заключения я уже заранее должен приписать общенеобходимый характер той связи телесных процессов с душевными, которая существует во мне и о характере которой идет речь. Пусть я так и сделаю: пусть я сочту эту связь общею, потом применю это предположение к моим наблюдениям над другими индивидуумами, сделаю таким путем выводы о времени и условиях возникновения их душевной жизни и, наконец, рассматривая последние, заключу, какие телесные процессы могут считаться показателями ее присутствия. Что же, с такими выводами в руках могу я разубедить логично мыслящего скептика? Разве он не заметит, что в своих рассуждениях мы исходим из того, самого, что им оспаривается, а нами защищается, — из предположения общенеизбежного характера однажды найденной связи телесных явлений с душевными, то есть, что мы вертимся в заколдованном кругу? Этого круга нельзя разорвать. В себе самом нельзя выследить возникновения душевной жизни (можно следить только за ее переменами). Для наблюдения же ее происхождения в других людях надо сперва узнать, бывает ли она у них, потом определить при помощи этого знания, какими телесными процессами обнаруживается ее существование; и тогда только можно следить за ее возникновением и развитием. Но существование-то ее у них и оспаривается нашим скептиком; и самое знание-то процесса ее возникновения должно послужить орудием для опровержения его слов.
Таким образом, как только мы попробуем опровергать его, доказывать ему несостоятельность его отрицания, так тотчас же запутываемся в логически неизбежный заколдованный круг. Этот круг может быть замаскированным, остаться незаметным для невнимательного слушателя, но он никогда не исчезнет: он вытекает из сущности нашей задачи. В самом деле, прямо ни наблюдать, ни указать чужой душевной жизни нельзя: как об ее существовании, так и об ее переменах, а равно и об ее возникновении, можно только заключать по ее связи с телесными процессами. Для возможности же такого заключения надо исходить из
48
предположения общенеобходимого характера этой связи; а это предположение в свою очередь может быть оправдано только заключениями о способах течения чужой душевной жизни, заключениями, делаемыми на основании объективных наблюдений, для чего снова нужно прибегнуть к помощи того же предположения, и т. д. до бесконечности. Вот общий источник всех заколдованных кругов, в которые мы беспрерывно попадаем при попытках опровергнуть нашего скептика. Они обусловлены самою организацией нашей познавательной способности. Поэтому скептик никогда не может быть опровергнут иначе, как кажущимся образом: то есть, при его опровержении мы в замаскированном виде заранее допустим то самое, что еще доказываем ему (и попадем в circulus vitiosus); или же из наших посылок не будет вытекать доказываемый вывод, а мы будем выставлять его так, как будто бы он вытекает из них. Конечно, гораздо вероятнее, что мы встретим первую ошибку, как менее грубую. Но как бы то ни было, удачное опровержение скептика всегда будет кажущимся. Кто не верит этому и не хочет вникнуть в указанную причину неизбежности логических ошибок при попытках опровергнуть скептика, тот пусть попробует составить веское опровержение; автор же этих строк принимает на себя обязанность обнаружить кажущийся характер таких опровержений.
А пока объясним на примере, как легко в них проглядеть логические ошибки. Для этого рассмотрим следующее возражение скептику, указанное автору в частной беседе одним из русских ученых, хотя не специалистом по философии: все живые существа наследуют свойства своих предков; поэтому коль скоро скептик находит в самом себе душевную жизнь, то он должен допустить, что она по наследственности передалась его детям, а им самим унаследована от его родителей и т. д.; таким образом скептик уже вынужден допустить существование чужой душевной жизни; остается лишь по аналогии со своей собственной установить ее объективные признаки и т. д. По-видимому, очень сильный аргумент; в действительности же он вертится в замаскированном заколдованном кругу. В самом деле, скептик думает, что существование в нем душевной жизни составляет индивидуальную особенность его организации; следовательно, эта особенность может и передаваться по наследственности, а может и не передаваться; даже вернее надо допустить именно последнее, ибо
49
все то, что передается по наследственности, eo ipso перестает быть индивидуальной особенностью. Почему же, спрашивается, он обязан думать, что его душевная жизнь принадлежит к числу тех явлений в организации человека, которые передаются по наследственности? Ведь нам нельзя ссылаться на то, что телесная организация человека не может быть унаследована без душевной1), ибо это значило бы заранее допустить то самое, о чем идет спор с нашим скептиком и что им оспаривается, а нами доказывается. Единственно, что нам остается сделать, это сослаться на существование закона наследственности душевных явлений. Но вот вопрос, как мы убеждаемся в его существовании? Для этого мы уже допускаем, что у других существ есть душевная жизнь, и сравниваем ее у разных субъектов, так что и всякая ссылка на наследственность душевных свойств имеет место только тогда, когда уже допущено существование чужой душевной жизни: ведь было бы нелепо говорить о наследственности душевных свойств там, где нет никаких душевных явлений. А отсюда видно, что рассматриваемый аргумент попадает в circulus vitiosus: когда мы говорим, что все свойства человека передаются по наследственности, то мы забываем, что для душевных свойств мы можем оправдать это предположение не иначе, как допуская существование чужой душевной жизни, которую скептик отрицает и отрицание которой мы хотим опровергнуть на основании этого-"предположения. Мы так свыклись с признанием чужой душевной: жизни, что, позволив скептику отрицать существование ее самой, по привычке думаем, будто бы он, как и мы, будет все-таки, признавать ее наследственность. Но скептик, разумеется, допускает, передачу по наследственности одних лишь телесных свойств, а отнюдь не душевных, ибо последние он отрицает всюду, кроме самого себя.
Итак, если кто станет отрицать существование чужой душевной жизни, то его нельзя опровергнуть, хотя он наверное неправ, ибо и я, и всякий другой непосредственно сознаем ее в себе. Подобному скептику нельзя указать на такие телесные явления, которые вынуждали бы допускать наряду с ними также и душевные. И это не потому, чтобы решение вопроса о чужом одушевлении лежало за пределами нынешнего эмпирического знания; а потому, что самая возможность его решения исключена законами нашей познавательной
______________________
1) Другими словами, нельзя говорить, что всюду, где встречается первая, есть и вторая.
50
деятельности, так что оно всегда будет лежать за пределами эмпирического познания. Деятельность нашего познания организована так, что дает возможность всем и каждому отрицать существование душевной жизни во всех, кроме самого себя, другими словами она не допускает существования таких телесных явлений, которые могли бы служить объективными признаками одушевления1). Значит, всякая душевная жизнь подчинена закону отсутствия объективных признаков одушевления2).
Может быть, читателю этот вывод покажется странным, чересчур новым и неожиданным, словом — непозволительным со стороны автора новшеством. Но, думая так, он сильно ошибается: это такой вывод, который если не всегда высказывается, то уже давно очень многими мыслится; автор же только и сделал, что довел его до конца. Уже в самом начале нашей работы мы ссылались на то место в «Истории материализма» Альберта Ланге, где он утверждает, что во взятом им примере все без исключения, извне наблюдаемые, поступки и действия человека можно объяснить одними чисто материальными процессами без помощи психических; а это значит, что в числе пережитых этим человеком телесных процессов нет ни одного такого, который служил бы признаком его одушевления3). Но не один Ланге подметил, что чужая душевная жизнь
___________________________
1) Может показаться странным, что организация нашей познавательной деятельности не допускает существования тех или других явлений и их законов. Но ведь характер явлений зависит не только от того, что именно является воспринимающему субъекту, но также и от него самого, то есть, от его организации. Если материал явлений (цвета и все чувственно воспринимаемые качества) зависят от организации нашего сознания (а в этом никто не сомневается), то от нее же (а значит и от организации нашего мышления, ибо оно входит в состав сознания) может в некоторых случаях зависеть и связь этого материала, то есть, законы явлений.
2) Обобщение сферы действия этого закона на всякую душевную жизнь уже было сделано нами раньше, когда мы, разъясняя проводимую нами мысль, допустили ради этого возможность отрицать существование душевной жизни всюду, кроме самого себя.
3) Чтобы читатель мог судить, насколько сложен рассматриваемый Ланге пример, выпишем его здесь сполна: «Купец сидит удобно в кресле... Входит лакей, приносит депешу, а в ней стоит: «Антверпен и т. д. Ионас и Ко обанкрутился». «Пусть Яков закладывает». Лакей летит. Барин вскочил, встрепенулся; несколько шагов по комнате — вниз в контору, прокуристу приказано, письма продиктованы, депеши посланы, потом в экипаж. Лошади фыркают; он в банке, на бирже, у деловых приятелей — не прошло и часу, он дома, бросается опять в кресло со вздохом: «Слава Богу, в самом сквер-
51
недоступна для эмпирического знания, то есть, что у нее нет объективных признаков. «Именно на этом-то признании чужого сознания, говорит Фулье, на признании, которое выходит за пределы чистого опыта, некоторые новые английские метафизики: Клиффорд, Баррат, Льюис, обосновывают свою, метафизику; они придали ей выразительное название «Метэмпирики», то есть, науки о том, что выходит за пределы опыта. Принципом всех их построений служит только что высказанный нами: опыт, в строгом смысле слова, относится только к нашим состояниям сознания, а отнюдь не к чужим; следовательно, утверждение существования других сознаний трансцендентно, и всякий, кто верит в существование подобных ему людей, тем самым, нисколько не подозревая этого, закладывает фундамент метафизики»1). Значит, автору этих строк при выводе закона отсутствия объективных признаков одушевления принадлежат только его окончательное формулирование, предложенные способы его подробного доказательства, да разные связанные с ними детали; основная же мысль настолько стара, что ее признание не представляет ничего страшного.
Но, спросят нас, если нет объективных признаков одушевления, то как объяснить следующее обстоятельство: опыт беспрерывно подтверждает, что основные законы, касающиеся связи душевных явлений с телесными, имеют место не только в моей, но и во всякой душевной жизни, то есть, имеют общее, а не индивидуальное значение. Например, возникновение внешних ощущений (кроме сновидений, иллюзий и галлюцинаций) подчинено тому закону, что для их возбуждения требуется действие внешнего раздражения на чувствующий нерв и целость последнего; и этот закон действует не только во мне, но и всюду, где только душа способна воспринимать внешние ощущения. Отношение душевной жизни к телесной, конечно, подвергается индивидуальным видоизменениям; но последние зависят не от изменчивости основных психофизиологических законов, а от индивидуального разнообразия в способах комбинации их деятельности у разных индивидуумов. Другими словами, элементы душевной жизни везде связаны с одинаковыми материальными процессами; но число этих элементов и способы их комбинаций могут быть различны у разных субъектов. Даже те, кто допускает одушевление атомов (например, Цельнер, Фехнер
____________________
ном случае — я в безопасности. Теперь надо дальше обдумать». Истор. матер., перев. Страхова, С.-Пб., 1883, т. II, стр. 324.
1) Fouillée, L’avenir de la métaphysique, Paris, 1889, стр. 226 (Курсив в подлиннике).
52
и др.), всегда предполагают, что характер их душевной жизни находится в соответствии с их внешними явлениями; поэтому они приписывают им только простейшие душевные состояния и наименьшее число психических элементов. Спрашивается, как же все это может подтверждаться опытом, если нет объективных признаков одушевления. Далее, как можно было бы установить, хотя бы в самых грубых чертах, типы одушевления? А они установлены: мы не колеблясь допускаем, что психическая складка мужчины и женщины не вполне одинакова; столь же мало мы сомневаемся в психическом различии собаки и кошки. Наконец, как возможно более или менее удачно предугадывать чужую душевную жизнь и применять к психологии метод объективных наблюдений? Не свидетельствует ли все это против существования закона отсутствия объективных признаков одушевления? Могут возникнуть и другие сомнения; но эти самые важные, и если мы решим их, то можем умолчать об остальных.
Ответим же по порядку на эти недоразумения. Для того, чтобы основные законы связи душевных явлений с телесными являлись нам распространенными на всякую душевную жизнь (в ком бы она ни совершалась), нет ровно никакой надобности не только в существовании объективных признаков одушевления, но даже и в существовании душевной жизни помимо меня. Достаточно, чтобы они управляли моей собственной душевной жизнью; организация же моей познавательной способности сделает то, что эти законы неизбежно будут казаться мне распространенными и на всякую душевную жизнь, про которую мы говорим, будто бы мы наблюдаем ее. Не забудем одного: мы не только не наблюдаем чужой душевной жизни, но даже не в состоянии ее представить себе, как чужую, а взамен того представляем себе свою собственную душевную жизнь воображая ее в условиях чужой, то есть, мысленно подставляем самих себя на место других существ1). А если так, то зна-
___________________________
1) Удивительно, как мало внимания обращают психологи на этот закон непредставимости чужой душевной жизни, а между тем он имеет огромное значение: он обосновывает не только те выводы, которые мы делаем из него в связи с нашим главным вопросом, но и освещает многие факты душевной жизни. Так, например, сенсуалисты, чтобы быть правыми в своем утверждении, будто всякая мысль в конце концов разлагается только не одни ощущения, должны дать ответ, как может существовать в нас мысль о чужом одушевлении, коль скоро нельзя его представить себе: ведь если чужая душевная, жизнь не представима, то, значит, мысль об ней не может быть разложена на одни лишь ощущения.
53
чит, всякий раз, когда я наблюдаю (вернее, предполагаю, будто бы я наблюдаю) в другом лице такое или иное душевное явление, на, самом деле я только его строю в своем уме; и строю, разумеется, из тех самых элементов, из которых состоит моя собственная душевная жизнь (ибо никаких других элементов я не могу представить себе), то есть, я их как бы переношу из самого себя в другое лицо.
И каким путем я совершаю это перенесение в тех случаях, когда я уверен, что мои отзывы о событиях чужой душевной жизни соответствуют действительности? Чем я проверяю свои мнения, коль скоро нельзя наблюдать самых душевных состояний другого лица? Разумеется, я руковожусь одними лишь наблюдениями над его телесной жизнью: ничто другое для меня недоступно. И если я знаю, что во мне самом элементарное душевное состояние а всегда возникает в связи с телесным состоянием а, то я только там и предположу а, где я нахожу а. То же самое имеет место и относительно других элементов душевной жизни b, c, d, и т. д.: каждый из них я допущу только там, где существуют соответствующие им (тоже элементарные) телесные состояния — b, c, d и т. д., то есть, там, где я наблюдаю те телесные состояния, которые по законам моей собственной душевной жизни всегда сопровождают возникновение во мне этих психических элементов. Не поступай я так, не ограничивай я себя этими условиями при перенесении моих психических элементов на другое лице, то мое построение чужого душевного состояния являлось бы в моих глазах вполне произвольным, не соответствующим ничему действительному. Но ведь при объективных наблюдениях я домогаюсь построить пред собой правдивую картину чужой душевной жизни; поэтому я стану строить ее только из таких элементов, которые по законам моей собственной душевной жизни соответствовали бы наблюдаемым мной в другом лице телесным процессам. Например, я не перенесу цветовых ощущений на то существо, у которого я не нахожу ничего похожего на органы зрения, или же они и существуют, но в данную минуту почему-либо в них не замечается никакой деятельности, ибо у меня самого цветовые ощущения (возникающие извне) всегда связаны с этой деятельностью. Подобным же образом, если я одушевляю атомы, то я переношу на них только такие элементы моей душевной жизни, которые согласуются с простотой внешних атомных явлений. Таким образом, те же основные законы, которые управляют во мне самом взаимоотношениями душевной и телесной
54
жизни, приводят меня к построению такой, картины чужой душевной жизни, что последняя неизбежно будет подчиняться тем же самым (основным) законам. И если я, не подозревая об отсутствии объективных признаков одушевления, думаю, будто бы предположение этой картины подтверждается опытом, то мне невольно покажется, что опыт подтверждает и общий характер этих законов. Даже и в том случае, если бы моя уверенность относительно одушевления других людей была ошибочна, то все-таки до тех пор, пока я не знаю этого и по-прежнему думаю, будто бы опыт свидетельствует мне о том, что они одушевлены, мне невольно будет казаться, что те основные законы связи душевной жизни с телесной, которые действуют во мне, действуют также и в других людях.
Значит, то обстоятельство, что опыт, по-видимому, подтверждает их распространение на другие существа, не может служить опровержением закона отсутствия объективных признаков одушевления: это зависит от субъективных, а не объективных условий. Источником общего характера этих законов служит та особенность нашего ума, что при всяком психологическом истолковании объективных наблюдений я вынужден заранее распространить действие законов связи душевной жизни с телесной на всякое существо, которое я (справедливо или нет) считаю одушевленным: без этого заранее допущенного распространения я не мог бы рассматривать наблюдаемых в нем телесных явлений, как показателей хода его душевной жизни. А так как, говоря об опыте над чужой душевной жизнью, мы под опытом подразумеваем не опыт в чистом виде (он не распространяется на чужую душевную жизнь вследствие ее ненаблюдаемости), но его истолкования, основанные на предположении справедливости этого распространения, то естественно, что такой опыт (его истолкования-то) всегда согласуется с этим предположением.
Но, скажут нам, если все это справедливо, то, значит, мы никогда не можем быть уверены, правильно ли мы представляем себе чужую душевную жизнь. Да так оно и есть. Мало того, что не можем быть уверены, но зачастую и не верим в подобную возможность. Ведь создал же народ пословицу: „чужая душа потемки и утверждал же Достоевский, что психология (прокуроров, адвокатов, следователей и т. д., словом, толкования чужой души) есть палка о двух концах. Но последний еще немного ошибся: у этой палки не два, а три конца, и третий состоит в отрицании всякого участия душевной жизни в наблюдаемых явлениях. Правда, взрос-
55
лых редко бьют этим концом, за то детей очень часто1). Сплошь да рядом приходится наталкиваться на такие сцены: объясняют поступок ребенка; одни говорят: «это испуг»; другие — «простой каприз»; и вдруг кто-нибудь третий (обыкновенно врач) объявляет: «ни то, ни другое, и зачем тут приплетать метафизику (так ведь и выскажет это слово, не понимая его), толковать о душе, ее волнениях и т. п., когда все дело очень легко объясняется одними рефлексами?». А про животных и говорить нечего, как часто их бьют этим концом. Достаточно напомнить о сомнениях и спорах, означают ли содрогания умирающего животного его страдания, или же они простые рефлексы2).
А сколь мало мы гарантированы в правильности своих толкований относительно чужих душевных явлений, можно убедиться из следующего примера: возможно ли узнать, что человек, называющий красный цвет красным, зеленый зеленым и т. д., и отличающий их друг от друга, видит их в такой же окраске, как я? Разумеется, нельзя: единственно, что он может сделать, это показать мне, что вот этот красный цвет ему кажется оди-
_______________________
1) Впрочем, нередко грозно держат его и над взрослым человеком. Когда избалованная дама изредка расскажет своему ребенку сказку или приласкает его, то не говорит, что это сделали ее нервы, но когда, торопясь одеваться на вечер, прибьет его и расшумится на всех за то, что он ей наступил на платье и т. п., то объясняет, что это нервы, которые у нее слабы и всегда расстраиваются от шума, суеты и торопливости, сама же она словно тут не при чем. Не ясно ли, что, отрицая здесь участие своей души, она не ждет ничьих опровержений? Да они и невозможны. Ведь единственно мыслимый ответ ей следующий: так как нервы действуют при всяком психическом акте (даже в том случае, когда я произношу слово «нервы»), то оба поступка вызваны одинаково нервами; разница только в том, что в первом случае они производили хорошее действие, а во втором дурное, и человек, состоящий из хорошо действующих нервов, — хорош, а состоящий из дурных — дурной. Но в наше нервно-утонченное время такой аргумент, не смотря на всю свою силу, называется неприличной выходкой, на которую не у всех хватит смелости.
2) Эти споры исчезнут, когда мы поймем, что в теоретическом отношении они неразрешимы и что всякие толкования основаны на предварительной вере; но одни из них будут нравственно позволительны, а другие нет. Если мы считаем животных бездушными автоматами и поступаем сообразно с этим взглядом, то, хотя нас нельзя опровергнуть, тем не менее это непозволительно, ибо мы рискуем перенести те же взгляды и на новорожденного ребенка, привыкнуть к ним и сделаться более бесчувственными даже относительно взрослых людей.
56
наковым с таким-то и т. д. Но, если я воспринимаю первый иначе, чем он, то и второй иначе и т. д., так что я никоим образом не могу сравнить его ощущения красного цвета с моими, а буду сравнивать только мое с моим1). Если же нельзя быть уверенным, даже и в том, что мое представление о столь простых элементах чужой душевной жизни, каковы ощущения, соответствует истине, то что же говорить об остальных?
Те же соображения, которые объясняют, почему нам кажется, будто бы опыт подтверждает общее значение психологических законов, решают и второе сомнение относительно отсутствия объективных признаков одушевления. В опыте являются существующими различные типы одушевления, и при том таким образом, что каждый из них попадается не где попало, но всегда в связи с определенными анатомо-физиологическими особенностями: например, тип мужского одушевления бывает всегда у мужчин, женского у женщин и т. д. Если даже и попадаются мужчины с женской душой, то уже самая их наружность носит отпечаток какой-то женственности, которая, наоборот, подавляется и заменяется мужскими чертами у мужчиноподобных женщин. Душа собаки встречается только у собак, а не у кошек и т. д. И вот возникает вопрос, нельзя ли усмотреть здесь опровержения закона отсутствия объективных признаков одушевления?
Но, спросим мы, разве могут не существовать (верней, не казаться существующими) разные типы одушевления, коль скоро существуют различные анатомо-физиологические типы живых существ и коль скоро я одушевляю последние? Ведь вследствие непредставимости чужой душевной жизни она всегда строится мной же самим чрез перенесение тех элементов душевной жизни, которые я нахожу в самом себе; а это перенесение делается так, чтобы построенная мною картина чужого внутреннего мира соответствовала бы наблюдаемым мною в других лицах телесным явлениям. Например, видя, что данная женщина отзывается на данное горестное известие сильными движениями, рыданиями, криком и т. д., я, если считаю эту женщину существом оду-
_____________________________
1) А ощущения-то наши по своему качеству, наверное, неодинаковы у разных людей: ведь видит же другой человек один оттенок, где живописец видит несколько оттенков, или первый не разбирает разницы звуков, которые для музыканта неодинаковы, и т. п.
57
шевленным, перенесу на нее в настоящую минуту только те элементы душевной жизни, из которых слагается сильное горе, хотя бы меня-то самого это же самое известие сделало всего лишь озабоченным. Подобным же образом я буду поступать с ней, и с остальными женщинами, и во всех других случаях. Также я поступаю и тогда, когда считаю одушевленным что-нибудь иное, например, атомы: их внутренний мир я скомбинирую только из таких элементов моей собственной душевной жизни, которые соответствовали бы простоте их внешних процессов; поэтому я припишу им только простейшие состояния чувствований и хотений и т. д. Таким образом я скомбинирую столько типов чужой душевной жизни, сколько найду типов той телесной жизни, которую я считаю обнаружением первой. Следовательно, в конце концов существа разных внешних типов: и мужчина, и женщина, и собака, и кошка, и т. д., будут одушевлены мною, каждое на свой особый лад; и степень сходства и разницы их одушевления будет соответствовать степеням сходства и разницы их внешних типов. И если мне кажется, будто бы их одушевление засвидетельствовано опытом (а кому же не кажется это?), то, разумеется, вместе с этим мне будет казаться, будто бы опыт свидетельствует о существовании типов одушевления и их зависимости от анатомо-физиологических типов. И это будет казаться мне не только в случае отсутствия объективных признаков одушевления, но даже и в том случае, если помимо меня нигде нет одушевления.
Остается теперь лишь свести счеты с двумя последними сомнениями: как возможно удачно предугадывать ход чужой душевной жизни, и как возможно применять к психологии с пользой для нее метод объективных наблюдений? Скажем вкратце о каждом из них.
То, что мы называем предугадыванием чужих душевных явлений, в действительности составляет удачное предугадывание не их самих (ибо их нельзя наблюдать, а поэтому никогда нельзя проверить, правильно ли они предугаданы, или нет), но только — тех телесных явлений, которые мы считаем обнаружением предугаданных душевных. Например, если я утверждаю, что при известных условиях у данного лица наступит душевное состояние А, то это значит, что при этих условиях у него наступит телесное состояние a1, которое я считаю обнаружением А; коль скоро у него действительно наступит a1, или же оно наступило бы, да его что-
58
нибудь задерживает, то мое предугадывание называется удачным. Если же на самом деле удачно предугадываются не душевные, а телесные явления, то ясное дело, что возможность удачных предугадываний свидетельствует о чем угодно, только не о существовании объективных признаков одушевления: ведь материальные-то явления можно предугадывать и у таких тел, которые считаются заведомо бездушными. Вся разница только в том, что здесь я делаю предугадывание чрез подстановку самого себя на место другого лица.
Что же касается до объективных наблюдений над душевными явлениями, то их значение и возможность уже истолкованы психологами, и нам достаточно напомнить их выводы. Вследствие ненаблюдаемости и непредставимости чужой душевной жизни, всякое, так называемое, наблюдение чужого душевного явления состоит только в том, что по наблюдаемым мной в другом лице телесным явлениям я строю из элементов моей собственной душевной жизни картину того, что было бы пережито мною самим на его месте. Разумеется, для возможности построения этой картины нет никакой надобности в том, чтобы наблюдаемые мною в другом лице телесные явления служили объективными признаками его одушевления: ведь такую же точно картину я могу построить даже и в том случае, если бы я наблюдал не живого человека, а одно лишь его достаточно искусное (хотя бы и заведомо бездушное) изображение (например, статую или живописное произведение и т. п.).
Таков состав объективных психологических наблюдений. Плодотворное же значение их состоит вовсе не в том, чтобы они раскрывали мне новые, еще не пережитые мной элементы душевной жизни. Это вещь совершенно невозможная; например, если я сам никогда не переживал ощущений красного цвета (допустим, что я страдаю дальтонизмом и то, что окрашено в красный цвет, вижу в зеленом цвете), то сколько бы я ни наблюдал за другими лицами, я никогда не узнаю этого ощущения1). Объективные наблюдения
__________________________
1) На это, впрочем, можно сделать такое возражение: если я еще ни разу не пережил чувства горя и его специфических элементов, то, наблюдая его обнаружение у других лиц, я по закону непроизвольной подражательности начинаю переживать такое же телесное состояние (обнаружение горя воплощается и во мне), а вместе с ним возникает и соответствующее душевное состояние (чувство горя). Значит, здесь объективное наблюдение привело меня к тому, что я узнал новые элементы душевной жизни. Это правда; но я все-таки в конце концов черпаю знание этих элементов из самого себя, из наблюдения над возникшим во мне горем. Это-то и важно для нас.
59
указывают мне только на такую комбинацию психических элементов, которой я еще не переживал и впервые переживаю только, тем путем, что воображаю себя на месте наблюдаемого лица, или же я ее и переживал, да не обращал на нее внимания. Сверх этого при объективном наблюдении становятся более доступными для тщательного изучения те физиологические явления, которые во мне самом сопровождают душевную жизнь и которые я считаю показателем ее существования и в других существах. Таково значение объективных наблюдений в психологии; отсюда видно, что оно не исчезнет даже и в том случае, если моя уверенность в одушевлении наблюдаемых мной существ окажется ошибочной. Значит, факт плодотворности этого метода никоим образом не может служить возражением против закона отсутствия объективных признаков одушевления.
Итак, ничто не говорит против него, а все за него. Поэтому он должен быть признан. А из этого закона вытекает множество разнообразных выводов. Отметим здесь некоторые из них.
Без всякого противоречия с данными опыта и без всякого опасения быть теоретически опровергнутым я могу не только повсюду отрицать душевную жизнь, но и повсюду ее допускать; другими словами — вопрос о пределах одушевления принадлежит к числу теоретически неразрешимых. В самом деле, если скептик может отрицать существование моей душевной жизни, не смотря на то, что она несомненно существует, и если вообще никакая душевная жизнь не сопровождается такими телесными процессами, которые вынуждали бы нас допускать ее присутствие в том или другом теле, то, значит, материальные явления во всех телах без исключения (и в одушевленных, и в неодушевленных) совершаются и возникают так, что безразличию, существует ли в них душевная жизнь, или же нет: ведь там, где она действительно существует (во мне самом), ход и взаимная зависимость этих явлений друг от друга нисколько не изменяются от ее присутствия и совершаются так, как бы ее не было. Таким образом и одушевленные и неодушевленные тела оказываются для нашего наблюдения вполне однородными: и те, и другие одинаково не выдают нам своею одушевления. Если же, не смотря на то, я могу одушевлять некоторые тела, например, людей, без всякого противоречия с данными опыта, то, значит, без всякого риска наткнуться на подобное противоречие я могу предполагать душевную жизнь, где бы то ни было.
60
Пускай то тело, которое я одушевляю, кажется бездушным; это ничего не значит. Так оно и должно быть, потому что нет никаких объективных признаков одушевления; если же их нет, то все может казаться мне бездушным, хотя бы и не было таковым; и то, что менее всего похоже на меня (атомы, мертвые тела, растения и так далее), всего более будет казаться мне бездушным.
Словом, мы везде можем предполагать душевные явления, и нас никто не опровергнет; поэтому, если мы захотим, то без всякого противоречия с данными опыта мы можем допускать одушевление не только всех животных, но и каждой отдельной части любого животного (спинного мозга и так далее, причем целое животное придется рассматривать, как организованный конгломерат отдельных одушевленных существ); можем допускать одушевление растений, каждого атома, предполагать даже мировую душу и тому подобное. Ни одного из этих предположений нельзя опровергнуть одними теоретическими доводами, если только мы будем держаться пределов опыта, не допуская при его обсуждении никаких метафизических предпосылок. Ведь для опровержения любого из этих предположений надо будет указать на такие материальные явления, которые были бы невозможны в присутствии душевной жизни; но ведь таких явлений нет (и их никто не допускает), а закон отсутствия объективных признаков одушевления свидетельствует о том, что нет даже и таких материальных явлений, которые могли бы служить признаками присутствия душевной жизни. Значит, одними теоретическими доводами, освобожденными от всякой примеси метафизических предпосылок и предвзятых взглядов, нельзя опровергнуть ни того, кто повсюду отрицает душевную жизнь, ни того, кто повсюду признает ее.
Оба предположения могут быть (и действительно бывают) неодинаково легкими, неодинаково удобными для предугадывания явлений и для их изучения и тому подобное, но каждое из них с чисто эмпирической точки зрения одинаково неопровержимо, а поэтому и одинаково недоказуемо. Вопрос о пределах одушевления принадлежит к числу эмпирически неразрешимых. Если же нам кажется, что его легко решить и легко доказать, какие тела одушевлены и какие нет, то это, значит, свидетельствует только о том факте1),
______________________
1) Который беспрерывно подтверждается философским анализом нашего познания, ибо последний показывает, что в основе так называемых эмпирических выводов всегда лежат некоторые неэмпирические предпосылки.
61
что к данным опыта мы всегда приступаем с разными втихомолку допускаемыми предпосылками, в которых implicite уже содержится логическая обязанность того или другого решения вопроса1).
В действительности же всякое чисто эмпирическое решение этого вопроса невозможно. Вот почему до сей поры всегда находились последователи разнообразных взглядов; вот почему одни терпят одушевление только, как неизбежное зло (например, материалисты или поклонники автоматизма душевной жизни, вроде Герцена и других), и готовы были бы (например, Маудсли) изгнать его, если бы сумели, даже изо всех частей головного мозга человека, другие же напротив охотно допускают разные виды одушевления не только в спинном мозгу (Льюис, Пфлюгер), но даже и в атомах (Вундт и другие), в растениях, в планетах (Фехнер); и вот почему спор о пределах одушевления остается до сей поры нерешенным. В том смысле, в каком хотят его решить, в смысле теоретической доказанности одного из этих предположений, его никогда не решат, также как никогда не решат одними теоретическими соображениями и вопроса о существовании Бога: и тот и другой вопрос надо решать как-нибудь иначе.
Однако нам следует свести счеты с теми возражениями, которые нам могут сделать. Мы утверждаем такое положение: материальные явления, где бы они ни происходили, например, во мне самом, всегда протекают так, как бы сзади них не было никаких душевных явлений; ход и взаимная зависимость материальных явлений нисколько не изменяется от того, будут ли они связаны с душевными явлениями, или же нет. И вот нас могут спросить: не противоречит ли это заключение тому факту, что всякое душевное
________________________
1) Такими предпосылками, в данном случае, могут быть или ни на чем не основанные, предвзятые взгляды, или втихомолку, незаметно для нас самих допускаемая нами метафизика. Примером первых предпосылок может служить уверенность, будто бы где есть воля (а, следовательно, и одушевление), то там непременно должен наблюдаться произвол и отсутствие закономерности. Как будто бы даже свободная воля не может быть подчинена непреложным законам (ведь закономерность наблюдается и в человеческой воле); и как будто бы невозможна несвободная воля! Примером второго рода предпосылок может служить уверенность Литтре и других, будто бы нервная субстанция мыслит, будто бы это составляет такой же неоспоримый факт, как и то, что материя имеет вес. Этот грубо замаскированный материализм, разумеется, обязывает его последователей допускать одушевление только там, где есть нервная субстанция.
62
явление имеет свою телесную сторону? Но очевидно, что здесь нельзя ждать никакого противоречия: ведь, выводя закон отсутствия объективных признаков одушевления, мы нисколько не отрицали этого факта; напротив, рассуждая от лица скептика на почве психофизиологических соображений, мы именно из этого-то факта и вывели возможность повсюду отрицать чужое одушевление. Впрочем, не лишним будет разъяснить еще раз и в ином виде, что здесь нет никакого противоречия.
Пусть признано, что душевное явление a всегда сопутствуется во мне физиологическим явлением a1, b — явлением b1, c — c1, d — d1 и так далее; словом, всякое душевное явление сопровождается во мне каким-нибудь физиологическим. Поэтому ряд душевных явлений abcd... всегда сопровождается во мне рядом физиологических явлений a1b1c1d1…..; первый не бывает без второго. Но ведь между душевным явлением a и сопутствующим ему физиологическим явлением a1 нет ровно никакой логической связи, ибо мы не вправе говорить, что a1 есть причина, порождающая существование a, или наоборот а есть причина, порождающая a1, или же, наконец, что они возникают параллельно, ,так как их оба сразу порождает какая-нибудь третья общая причина (например, Бог, установивший между тиши, предустановленную гармонию, или же единая субстанция, которая сразу и духовна и материальна и так далее). Для того, кто не вторгается в область метафизики и не смешивает ее принципов с данными опыта, все это остается неизвестным, а потому одинаково возможным, так что между душевным явлением а и физиологическим a1 он вынужден признать только фактическую, но отнюдь не логически необходимую связь1). А если между а и a1, b и b1, c и c1 так далее нет логически необходимой связи, то, значит, не будет никакого противоречия с допущенным нами предположением (что явлению а всегда сопутствует во мне явление a1, b — b1 и так далее), если мы наряду с ним допустим еще, — что какое-нибудь чисто материальное явление x вызовет a1, последнее вызовет b1, а это последнее вызовет с1 и так далее, но в то же время не возникнет ни одно из душевных явлений: ни a, ни b, ни c и так
___________________________
1) Заметим, что это ровно никем не оспаривается. Напротив, все согласны, что нельзя понять, как могут физиологические процессы порождать психические или наоборот; а непонятна та связь, члены которой не обусловливают логически друг друга.
63
далее. Это пока еще можно допустить без всякого, противоречия с тем, фактом, что каждое душевное явление сопровождается каким-нибудь физиологическим. А так как физиологические-то явления, которые наблюдаются во мне, и в действительности можно всегда истолковать, как происходящие без душевных, то, следовательно без всякого противоречия с этим фактом сопутствования душевных явлений физиологическими, я могу утверждать, что последние совершались бы во мне по-прежнему, если бы у меня не было никаких душевных явлений, так что, присоединяются ли к физиологическим явлениям психические, или нет, материальная жизнь остается все такой же.
Отсюда-то и выходит возможность не только повсюду отрицать душевную жизнь, но и повсюду ее предполагать. Но, скажут нам, возможность повсюду отрицать ее, как мы снова убедились в этом, нисколько не противоречит факту сопутствования душевных явлений с телесными; а что касается до того, чтобы повсюду предполагать ее, то это, по-видимому, невозможно. Действительно, если во мне душевное явление а всегда сопутствуется физиологическим явлением a1, то я могу допускать первое только там, где есть второе. Поэтому как, например, могу я предполагать одушевление атомов или растений, когда я не нахожу в них тех процессов, которыми всегда сопровождаются мои душевные явления, именно процессов нервной системы?
Но, если уж зашла речь об одушевлении атомов (реальность которых для многих сомнительна), то спросим, из чего же состоят сами-то нервные процессы? Из атомных движений и взаимодействий. А если так, то мне уже ничто не мешает предполагать душевную жизнь всюду, где существуют атомные движения и взаимодействия. Конечно, эта жизнь будет тем проще, чем проще сопутствующие ей атомные явления; но ведь никто и не требует, чтобы мы переносили на атомы и растения точно такую же душевную жизнь, какая у нас самих; это было бы грубым антропоморфизмом1). Если же атомов нет, то нервные процессы состоят все-таки из процессов однородных с теми, которые происходят и в других телах, ибо и те и другие принадлежат к материаль-
___________________________
1) Считать атомы одушевленными столь же мало составляет антропоморфизм, как и считать Бога духом; но антропоморфизм будет в том случае, если я считаю всякое духовное существо (и Бога, и атомы) таким же, каков я сам.
64
нымъ. И коль скоро душевная жизнь сопровождает одни из них, хотя и не стоит с ними в логически необходимой связи, то она, значит, может сопровождать и другие. А мы ничего не утверждаем, кроме этой возможности. Мы не говорим, что сзади всякого материального явления необходимо предполагать душевное; но, говорим мы, одинаково возможно и предполагать, и отрицать его. Что же касается до этой возможности, то в ней можно убедиться и помимо атомистической гипотезы следующими соображениями.
Еще ничто не доказывает, чтобы та самая связь душевных явлений с телесными, которая существует во мне, повторялась и повсюду, где только есть душевная жизнь. Правда, опыт, по-видимому, свидетельствует, что основные черты этой связи повторяются везде. Но мы уже знаем, что это только кажется нам, будто бы это положение оправдывается опытом, и знаем, почему это кажется: оттого, что душевную жизнь мы можем только конструировать, а конструируем ее всегда из элементов своей собственной. А в таком случае нет ничего невозможного, что одним и тем же душевным явлениям не везде сопутствуют вполне одинаковые телесные; очень может быть, что между последними существует везде лишь большее или меньшее сходство, но не полная одинаковость. Поэтому нет ничего невозможного и в том, чтобы при всякой связи душевных явлений с телесными исполнялось только одно требование (как основной закон всякой подобной связи): всякое душевное явление всегда сопутствуется или механическим, или физическим, или химическим (но отнюдь не метафизическим, метахимическим и т. п.) явлением. Поэтому душевные явления можно допускать повсюду, где существуют подобные внешние явления. Может быть, сходство обнаружений душевной жизни и разных ее носителей не идет дальше этого. А как именно стоит дело, опытом этого нельзя решить; и всякое предрешение этого вопроса будет ни на чем не основанною метафизикой. Е тому же, заметим, ведь более чем сомнительно, чтобы во мне-то самом какое-нибудь психическое явление всегда сопутствовалось вполне одинаковым физиологическим. Приблизительно это верно, но только приблизительно. Дело в том, что каждый акт нервной системы оставляет в ней некоторый след, который в свою очередь влияет на ее новые акты. Это никем не оспаривается и всеми принимается в расчет при объяснении, например, физиологической стороны памяти. А в таком случае, если я сейчас переживаю душевное явление, а и оно сопутствуется
65
физиологическим явлением a1, то во второй раз то же явление a будет сопутствоваться не a1, а a1+x (х обозначает здесь ту перемену в деятельности нервной системы, которая зависит от того, что в последней сохраняется след прежней деятельности а)1). То же самое будет иметь место и при каждом другом возникновении того же душевного состояния, так что его сопутствование одним и тем же физиологическим явлением составляет только приблизительное правило.
Все это показывает, что нет ровно никаких препятствий одушевлять все, что угодно, то есть, ничто не мешает рассматривать любой материальный процесс, как обнаружение душевной жизни. Но. разумеется, виды одушевления будут не везде одинаковы. Если же мы, одушевив все части вселенной, достаточно свыкнемся с этой мыслью, то есть, приучим себя рассматривать любое материальное явление, как показатель скрывающегося за ним душевного процесса, то нам невольно будет казаться, будто бы опыт подтверждает это воззрение, также, как нам кажется, будто бы он подтверждает одушевление других людей, кроме меня. Оттого-то тем, кто одушевляет атомы, и кажется, что они основывают свои взгляды на данных опыта.
Не мешает разобрать еще пару недоумений. Об одном из них не стоит долго говорить. Нас могут спросить: как же примирить наше мнение (о том, что всякое телесное явление можно рассматривать, как показатель скрывающегося за ним душевного, и что, наоборот, все живые существа, не исключая и людей, можно рассматривать, как бездушные) с нашими взглядами на свободу воли? Отвечаем на это: в научных исследованиях надо переходить от более известного к менее известному, от более легкого и независимого вопроса к более трудному ц зависимому. Вопрос же о свободе воли труднее, чем вопрос о пределах одушевления, и решение первого зависит от второго; а потому первый должен быть решаем после второго, а решение второго не должно быть стесняемо разными гаданиями по поводу первого. Надо сперва еще узнать, где есть воля (какая бы то ни было), и где ее вовсе нет, а после того решать, какова она. Другое недоумение: я и в самом
_______________________
1) А сколь долго сохраняются эти следы, доказывается часто цитируемыми случаями внезапных воспоминаний о том, что было в самом раннем детстве См. Винслов, Рибо, Тэн и др.
66
себе нахожу такие процессы, как, например, рефлексы моего спин, наго мозга, автоматические движения и т. п.; как же, спрашивается, рассматривать их в смысле показателей душевных явлений, когда я не сознаю в себе последних? Ведь, если они происходят во мне, то я должен был бы сознавать их; а я их не сознаю. Отвечаем на это следующее: во-первых, нет никакой надобности, чтобы эти психические явления принадлежали тому самому сознанию, которое входить в состав моей собственной душевной жизни. Некоторые из них могут принадлежать душевной жизни спинного мозга, другие — психике других частей организма и т. д. Словом, можно представить себе человека, если это понадобится, в роде того, как это делал Лейбниц1). Во-вторых, пусть читатель не упускает из виду, что мы утверждаем одну лишь возможность, но не необходимость одушевлять все, что угодно.
Итак, первый вывод, который вытекает из выведенного нами закона, состоит в нашем праве повсюду как допускать, так и отрицать душевную жизнь. Наряду с ним отметим еще следующий: для теоретического изучения, не выходящего за пределы опыта, допрос о времени возникновения душевной жизни неразрешим. Он должен быть отнесен к числу трансцендентно-метафизических задач; с чисто эмпирической, же точки зрения первый момент душевной жизни можно помещать куда угодно; и даже возможно считать ее безначальной и предсуществующей телесному возникновению человека. Этот вывод уже подразумевается в предшествующем, как его частный случай, и вытекает из него с логической необходимостью. В самом деле, путем самонаблюдения нельзя определить момента возникновения душевной жизни: ведь для самонаблюдения уже нужно обладать душевной жизнью, так что в самом себе нельзя наблюдать ее возникновения. Значит, знание о первом моменте ее существования может быть приобретено только путем наблюдения над жизнью других лиц. Но мы уже видели, что при отсутствии объективных признаков одушевления у каждого наблю-
_________________________
1) Далее мы воспользуемся некоторыми подробностями этой гипотезы, а теперь достаточно лишь указать на нее. Отметим кстати, что и теперь Джемс допускает гипотезу, сильно напоминающую Лейбницевскую: он приписывает особое сознание каждой мозговой клетке; одна из них главенствующая, она-то и играет роль души. Напоминают несколько Лейбница и взгляды Льюиса.
67
даемого существа, без всякого противоречия с данными опыта, мы можем как отрицать, так и допускать существование душевной жизни. Поэтому мы теоретически в праве отрицать одушевление не только у новорожденного, но даже и у пятилетнего ребенка, и с большим или меньшим трудом мы всегда можем избегнуть противоречия с опытом, ибо нет объективных признаков одушевления1). С другой стороны, мы на столько же в праве допускать существование душевной жизни у человеческого зародыша не только, пред концом его утробной жизни, но и при ее начале: ведь присутствие душевной жизни не нарушает хода и взаимной зависимости телесных явлений; последние всегда протекают так, как бы не было никакого одушевления. Очевидно, еще менее может измениться ход телесных явлений, если душевная жизнь начинается еще задолго до начала утробной жизни, то есть, если первая предсуществует зачатию человека. Поэтому, где бы мы ни полагали первый момент душевной жизни, мы никогда не рискуем попасть в неустранимое противоречие с фактами.
Оттого-то метафизические системы и могут устанавливать в этом отношении диаметрально противоположные взгляды. Так, по учению материалистов, душевная жизнь каждого индивидуума может возникать только после его зачатия; по Платону же и Лейбницу, она существует уже искони веков2). Чем же объяснить подобное разногласие? Мало того, в каждой метафизической системе вопрос о времени возникновения душевной жизни играет какую-то своеобразную роль: его решение не обусловливает принципов системы, а наоборот — этот вопрос сам решается в зависимости от основных принципов системы. Так, Платону надо было допустить предсуществование души для объяснения познаваемости идей; он и допустил его, не опасаясь никакого противоречия с данными опыта, так что теория предсуществования является у него следствием его
_________________________
1) Но, разумеется, возникнет обязанность считать некоторые телесные явления признаками одушевления, коль скоро мы допустим, что нам уже известно, когда именно возникает душевная жизнь. Например, если мы допустим, что она возникает одновременно с утробными движениями младенца, то, по крайней мере, част движений человека придется считать признаками его одушевления, и т. п.
2) Независимой от зачатия считают ее и последователи теории духовных атомов. А это особенно поучительно по той причине, что эта теория принадлежит настоящему, а не прошлому.
68
теории идей, а отнюдь не ее основанием1). Подобную же роль играет она и в монадологии Лейбница: он решил вопрос о времени возникновения душевной жизни в зависимости от теории монад. Что же касается до материализма, то, отрицая самостоятельность душевной жизни, он этим самым вынужден допускать, что она возникает не ранее, как после зачатия человека (даже не ранее возникновения нервной системы зародыша). Как же объяснить такое положение этого вопроса в метафизических системах? Очень просто: если обсуждать данные опыта в их чистом виде, воздерживаясь от всяких метафизических предпосылок (как материалистических, так и спиритуалистических), то вопрос о времени возникновения душевной жизни оказывается неразрешимым, и нет никаких фактов, которые вынуждали бы нас признать такое, а не другое решение этого вопроса. Чувствуя это, каждый автор метафизической системы пользуется этой неразрешимостью вопроса и держится того или другого взгляда в зависимости от своих основных принципов.
Нам, конечно, странно и как-то неловко признать теоретическую неразрешимость вопроса о времени возникновения душевной жизни. Но указанный вывод напрашивается сам собой, коль скоро признан закон отсутствия объективных признаков одушевления. Вызываемая же им умственная неловкость зависит только от того, что мы привыкли примешивать к данным опыта те или другие метафизические предпосылки. Многие твердо уверены, что самое существование душевной жизни (а не одни лишь ее особенности и видоизменения) обусловлено существованием и деятельностью нервной системы. При таких условиях, разумеется, надо считать известным тот предел, раньше которого не может возникнуть душевная жизнь; мы теперь логически вынуждены допускать знание этого предела. Поэтому, коль скоро мы свыклись с указанным догматом (о зависимости существования душевной жизни от нервной системы), то, хотя бы и не давали себе в нем отчета, хотя бы и не формулировали его, тем не менее он незаметно для нас самих вынудит нас допустить некоторый предел времени, раньше которого не может возникнуть душевная жизнь. Отсюда-то и порождается умственная неловкость, когда другие положения принуждают нас
_____________________________
1) Особенно ясно это сказывается в Федоне, см. 73 В-76.
69
отрицать познаваемость этого предела: привычное течение мыслей испытывает задержку и в свою очередь задерживает вновь возникающее течение.
Что же касается до догмата зависимости существования душевной жизни от нервной системы, то он, очевидно, принадлежит к числу метафизических предположений и никогда не может быть оправдан чисто эмпирическим путем. Для подобного оправдания надо доказать, что душевная жизнь никогда не существует без деятельности нервной системы. Но ведь опыт позволяет считать одушевленным все, что угодно. Мало того, если мы даже оставим в стороне этот вывод, то, допуская существование чужой душевной жизни, на основании опыта мы в праве заключать только о зависимости вида и течения душевной жизни от нервной системы, но отнюдь не о зависимости существования первой от существования последней. Ведь у монер и амеб нет нервной системы; а между тем с одной стороны нет резкой границы, вернее скачка, между ними и более высшими животными, а с другой — у них наблюдаются явления (например, целесообразные движения), однородные с теми, ради которых мы допускаем одушевление остальных животных. Далее, положение, что нервная система обусловливает уже самое существование душевной жизни (а не одни лишь ее видовые особенности), обязывает нас отрицать существование загробной жизни. Следовательно, это положение воочию выводит нас за пределы не только наличного, но и всякого возможного опыта, и этим обнаруживает свою принадлежность к числу непроверяемых (метафизических) гипотез. Мы рассмотрели влияние на наш вопрос только одной из них. Разумеется, одинаково с ней могут действовать на ход наших мыслей и некоторые другие метафизические предположения. Но нет нужды рассматривать каждое из них: наша главная мысль уже и без того достаточно выяснена.
Таковы выводы, признание которых вполне обязательно, коль скоро признано отсутствие объективных признаков одушевления. Все внешние тела без исключения и их части во всякий момент их существования можно рассматривать с двух точек зрения, и одними теоретическими соображениями нельзя решить, какая из них соответствует истине. А в то же время ни в научной, ни в обыденной жизни невозможно оставить нерешенным этого вопроса. Ведь нельзя же не принять какого-нибудь решения, одушевлены ли двух и трехлетние дети, коль скоро мне приходится воспитывать их.
70
Так же дело стоит и во множестве других случаев: почти всегда нужно держаться какого-нибудь взгляда относительно одушевления других существ. Спрашивается, как же нам быть, если этот вопрос эмпирически неразрешим, между тем ни одна метафизическая система еще не опровергла других, а каждая из них приводит к особому решению этого вопроса. Ясное дело, что мы должны найти какой-нибудь практический выход из этого затруднения. В чем же он состоит?
Если в теоретическом отношении одинаково позволительно рассматривать всякое тело и как одушевленное, и как бездушное, то есть, если ни в том, ни в другом случае не будет никаких противоречий с данными опыта, а вся разница между обеими точками зрения сводится только к тому, что в одних случаях неизмеримо легче провесть первую из них, а в других вторую; то очевидно, что в каждом отдельном случае мы вправе пользоваться тою точкой зрения, при помощи которой нам удобнее расширять свое познание данных опыта, то есть, тою, при помощи которой мы можем легче ориентироваться среди изучаемого класса явлений, легче предугадывать их ход и т. п. Например, мы в праве отрицать существование душевной жизни у всех окружающих нас людей, у всех исторических деятелей и объяснять их поступки и жизнь, как результаты деятельности чисто-физиологической (бездушной) машины. Назовем эту точку зрения физиологической. Ее, как мы уже убедились еще в начале нашего рассуждения, возможно с большим или меньшим трудом провесть без всякого противоречия с фактами1). Но к чему же она послужит? При ее помощи я не могу — ни восстановить исторических событий по их уцелевшим следам; ни предугадывать поступков людей, среди которых я живу; ни управлять своею деятельностью относительно их; ни расширять моих психологических сведений путем объективных наблюдений. Словом, она теоретически возможна, но практически бесполезна. А в то же время я одинаково в праве допустить и обратную точку зрения, предположить, что все люди одушевлены. Назовем такую точку зрения: психологической. Ее призна-
_____________________
1) Ведь те соображения, которые мы изложили от лица скептика и которые касались одушевления врача и т. и., могут служить схемами для всех подобных рассуждений.
71
ние, несомненно, содействует расширению известных видов моего познания: историй, психологии, педагогики, знания окружающих людей (житейской психологии) и т. и. При ее помощи я могу даже предугадывать поступки других лиц. Конечно, еще нельзя доказать одними эмпирическими доводами ее соответствие действительности; но ведь чисто эмпирическими доводами нельзя доказать и обратного. Поэтому я в праве и должен применять психологическую точку зрения всюду, где она оказывается более удобной и полезной для расширения моего познания, чем физиологическая; всюду, где легче рассматривать явления психологически, чем только физиологически. Обратный пример: мы, конечно, можем допустить одушевление спинного мозга, растений, атомов и т. п. Но к чему это послужит? До сей поры те, кто допускали, например, одушевление спинного мозга, не предугадали в нем при помощи этой точки зрения ни одного нового явления и не сделали тех, которые были найдены помимо нее, более легкими для изучения. Между тем физиологическая точка зрения оказывается здесь более легкой и полезной. Следовательно, во всех этих случаях психологическая точка зрения бесполезна; а потому нам следует пока рассматривать эти предметы, как бездушные. Мы, конечно, чисто эмпирическим путем не докажем своего взгляда; но мы в праве пользоваться им, как регулятивным (а не конститутивным) принципом, ибо никто не докажет и его ошибочности.
А в некоторых случаях один и тот же объект должен быть рассматриваем то психологически, то физиологически (а иногда сразу и с той и другой точки зрения) в зависимости от тех целей, которые мы преследуем относительно этого объекта. Например, пред нами годовой ребенок. Его жизнь еще так проста, что всю ее не только возможно, а даже сравнительно легко истолковать чисто физиологически, как результат сложных рефлексов, физиологической наследственности и т. п. Но с другой стороны его смело можно рассматривать и психологически Как же нам быть? Для воспитателя физиологическая точка зрения почти бесполезна, ибо ему нужно предугадывать и направлять прежде всего психическую жизнь ребенка (телесное благосостояние последнего в глазах воспитателя есть только средство, а не цель). Поэтому он должен рассматривать ребенка главным образом психологически и психологически оценивать все действующие на него влияния. А врач по большей части действует на ребенка, когда лечит его от болезни или когда
72
укрепляет его организм, материальными средствами, и ближайшею (хотя бы и не главной) целью его деятельности служит телесная жизнь ребенка, хода которой нельзя предугадать с психологической точки зрения. Поэтому врачу во всех подобных случаях приходится рассматривать его только физиологически. Но и он должен рассматривать своего пациента, взрослого или ребенка — все равно, психологически же, когда приходится прибегать к помощи так называемого психического лечения, ибо в этих случаях при посредстве физиологической точки зрения нельзя предугадывать его влияния. А между тем нельзя оспаривать, что всякое психическое воздействие, например, действие на душевнобольного путем убеждения, ласкового обращения и т. п., в то же время состоит и в физиологическом действии на нервную систему. Но последнего здесь нельзя рассчитать. Поэтому физиологическая точка зрения оказывается для этого случая неприменимой.
Таков-то простейший и чисто практический выход из указанного затруднения. Но скажут нам, он приведет нас к той же классификации существ и частей тела на одушевленные и неодушевленные, которую мы уже имеем. Ведь мы и теперь главным образом предпочитаем тот взгляд, который легче, то есть, тот, который оказывается более удобным для изучения явлений. Действительно, почему мы признаем одушевление животных и не признаем одушевления растений? Потому что в первом случае легче объяснять наблюдаемые факты психологически, а во втором чисто физиологически. По той же причине мы признаем одушевление новорожденного ребенка: хотя возможно истолковать всю его жизнь, допуская в нем одни лишь бессознательные процессы — растительные и рефлекторные, но наши истолкования все-таки становятся легче, если мы допускаем его одушевление. Наоборот, мы охотно отрицаем одушевление зародыша; почему же так? Его жизнь достаточно легко объясняется и без помощи психологической точки зрения. Словом, решающее значение имеет обыкновенно легкость того или другого взгляда. Е чему же сводятся тогда все наши рассуждения, коль скоро они приведут нас к той же классификации, которая уже существует? Они, по-видимому, бесполезны?
Вполне справедливо, что существующая классификация основана в значительной степени на сравнительной легкости той или другой точки зрения; а поэтому она не, может сильно отличаться от той классификации, к которой мы придем при помощи рекомендованного
73
нами практического приема для устранения затруднений, возникающих из теоретической неразрешимости вопроса о чужом одушевлении. Но вот в чем разница: в чисто-эмпирической области (ни о какой другой мы еще не говорим) мы рекомендуем пользоваться любой точкой зрения только как регулятивным принципом, то есть, только как полезным для исследования вспомогательным средством, не придавая ему никакого теоретически-достоверного значения. Обычное же мышление совершенно не замечает, что легкость той или другой точки зрения очень часто зависит от ее согласия с нашими предвзятыми, в том числе и метафизическими, взглядами. Оно даже забывает о таких поучительных фактах, как тот, что еще сравнительно недавно считали более легким отрицать одушевление животных, а раньше того также, как и теперь, казалось более легким признавать его. Поэтому обычное мышление беспрерывно смешивает легкость с эмпирической достоверностью, и пользуется и психологической и физиологической точкой зрения, как конститутивными принципами, так что своей классификации оно ошибочно придает теоретически-достоверное значение, и то, что сегодня считается истиной, объявляет завтра заблуждением для того, чтобы позднее возобновить это, как истину и т. д. А в связи с этим оно нередко смешивает данные опыта с их истолкованиями в духе той или другой метафизической системы. Зачастую оно выводит из фактов неправильные формулы, которые в свою очередь содействуют этому смешению и т. п. Словом, обычные взгляды вынуждают нас неправильно относиться к нашему познанию. Наша же точка зрения во многих случаях застрахует нас от подобных ошибок. Разъясним это на некоторых примерах.
Сперва укажем случаи употребления неправильных формул. Постоянно говорят и верят, будто бы те или другие данные опыта обнаруживают одушевление или бездушность такого-то и такого-то тела или же такой-то его части. Например, говорят, что они обнаруживают одушевление или бездушность низших животных, спинного мозга, тех или других частей головного мозга и т. п. Мы не станем теперь разбирать, как влияют на наши воззрения эта и все подобные формулы; читатель и сам заметит их влияние, когда мы вслед за этим будем рассматривать примеры смешения психологических положений с метафизическими. Теперь же мы отметим только то, что эта формула' очевидно неверна. Коль скоро одинаково позволительно повсюду как предполагать, так и отрицать оду-
74
шевление, то данные опыта, взятые в чистом виде (без примеси метафизики), не могут обнаружить ни присутствия, ни отсутствия одушевления. Единственное, что может сделать опыт, это показать, с какой точки зрения удобнее для нас (для расширения нашего знания) рассматривать данное существо (например, растение) или же данную часть тела (например, спинной мозг). Так, именно и следует говорить, ибо такая формула содержит в себе ровно столько истины, сколько ее дано в опыте, без всякой примеси предвзятых взглядов. Подобным же образом неверно выражаются, когда говорят о первом моменте душевной жизни ребенка, об ее возникновении. Следовало бы говорить о том моменте, начиная с которого становится удобным рассматривать ребенка с психологической точки зрения; ибо первый момент душевной жизни не может быть определен эмпирическим путем.
Для разъяснения же значения наших выводов укажем на то, что они сдерживают нашу наклонность вносить, в психологию метафизику, которую (особенно же материалистическую), как известно, очень легко примешать к своим истолкованиям психических фактов, совершенно не замечая этого. Что они устраняют грубый материализм, об этом не стоит толковать: когда позволительно одушевлять все, что угодно, то, очевидно, нет никакой возможности откровенно объявить душевную жизнь продуктом деятельности нервной системы и т. п. Такое утверждение при подобных условиях воочию будет произвольным догматом. Но мы говорим сейчас о таком материализме, который часто остается даже совсем незаметным для его последователей, о материализме бессознательном или потенциальном. Теперь и он значительно устраняется из науки и предоставляется простому верованию; а те факты, на которые он, по-видимому, опирается, получают другое, более правильное толкование1).
__________________________
1) Кант разъяснял свои критические выводы почти всегда чрев применение их в одному ишь спиритуализму. Относительно же материализма он или умалчивал щи же ограничивался только беглыми заметками, хотя это отнюдь не значило, чтобы его выводы не имели такого же точно применения к материализму. Причиной его неодинакового внимания в обоим метафизическим направлениям служит то обстоятельство, что в его время господствовала наклонность к спиритуалистическим толкованиям, а материализм и без того считался научно несостоятельным. В настоящее же время, вследствие того, что еще недавно почти исключительно господствовал материализм, замечается в
75
Как пример подобного потенциального материализма, мы можем привести мысль Рибо, будто бы психологическая память никогда не существует без органической, между тем как последняя часто существует без первой, так что психологическая память служит только добавочным феноменом к органической, который возникает лишь тогда, когда последняя поставлена в известные чисто материальные условия (вроде достаточной живости тех следов, которые входят в состав органической памяти и т. п.)1). Допустив это положение, мы должны прийти к материализму. Ведь при таких условиях органическую память надо принять за причину существования психической памяти; а сознание невозможно без памяти; поэтому причиной существования сознания приходится считать материальную жизнь организма. Рибо не замечает этого вывода. Но он неизбежен, если допустить справедливость его только что указанных положений. Однако этот материализм имеет место только до тех пор, пока мы считаем возможным решать наверное, какие тела и их части одушевлены и какие нет, то есть, до тех пор, пока мы допускаем формулу, гласящую, будто бы опыт обнаруживает нам, какие тела и их части одушевлены и какие нет. Но дело значительно изменится, когда мы эту формулу заменим другою (опыт показывает, какие тела удобнее считать одушевленными), напоминающею нам о нашем праве одушевлять все, что угодно (в том числе, и любую часть нервной системы, например, спинной мозг, а равно и другие части нервной системы). Действительно, мы ведь вправе допустить, что в тех частях нашего организма, которые, по мнению Рибо, составляют седалище органической памяти тоже находится и психологическая память; но принадлежит-то она,
________________________
психологии и физиологии наклонность к скрытому или потенциальному материализму, то есть, к таким толкованиям фактов, которые при последовательном развитии должны привести нас к материализму (что остается незаметным для их авторов). А спиритуализм и без того считается недоказанным или даже недоказуемым. Поэтому, подражая Канту, мы будем говорить о материализме подробнее, чем о спиритуализме, хотя наши выводы имеют одинаковое значение и для того и для другого.
1) Смотр. «Болезни памяти» (перевод Черемшанского) С.-Пб., 1881, стр. 11 и 20 и сл. При этом Рибо под психологической памятью подразумевает совокупность тех душевных (сознательных) явлений, которые называются именем памяти, а под органической — совокупность тех физиологических процессов (и их следов в организме), без которых никогда не совершаются явления психологической памяти.
76
разумеется, не тому сознанию, которое составляет нашу собственную душевную жизнь, а другому; оттого ее деятельность и не сознается нами, так что для самонаблюдения эта память кажется чисто органической. Словом, мы будем (и вправе) рассматривать организмы так же, как это делал Лейбниц, предполагавший, что они состоят из множества соединенных вместе одушевленных существ, у каждого из которых своя особая душевная жизнь, не сознаваемая другими высшими сознаниями, находящимися в том же организме; но она находится в большей или меньшей зависимости от них и вместе с ними подчинена одному главному сознанию, играющему в этом организме роль его души1). При таких условиях каждая органическая память в то же время будет и психологической. Поэтому нельзя будет решить, какая из них служит причиной существования другой; ибо всегда обе существуют и действуют сразу, параллельно друг другу.
Таким образом при нашей точке зрения утверждение Рибо, будто бы органическая память существует часто без психологической, обратного же не бывает, а равно и вытекающий отсюда материализм — все это может быть принято только на веру, как ничем не оправдываемый догмат. Однако это еще не значит, чтобы материализм был заведомо опровергнут и заменен только что описанным спиритуализмом. Если бы кто захотел проводить в психологии спиритуалистические воззрения, то он натолкнулся бы на то затруднение, что на сколько позволительно все одушевлять, на столько же позволительно и отрицать одушевление всюду, кроме самого себя. Поэтому хотя материалистическое положение Рибо не может быть доказано, но его нельзя опровергнуть, так что и спиритуализм можно допускать только на веру, как догмат. Вот эта-то возможность рассматривать множество фактов с двоякой точки зрения и будет противодействовать нашим стремлениям примешивать метафизику к эмпирически обоснованным положениям науки. Предоставляя нам право из двух одинаково мыслимых толкований выби-
____________________________
1) Допустив это подчинение, мы сделаем понятным тот факт, что движения, которые сначала, при их заучивании, мы производили вполне сознательно (ходьбы, писания, игры на музыкальном инструменте и т. и.), от повторения становятся автоматическими, хотя в то же время мы не утрачиваем способности по произволу возбуждать их, задерживать и даже регулировать. Они забываются только главным сознанием организма, занятым другими представлениями; но они не забываются находящеюся в том же организме душевною жизнью, которая подчинена главному сознанию.
77
рать любое, которое для нас удобнее, она в то же время напоминает нам о том, чтобы не смешивать удобства и легкости с достоверностью. Теперь же, когда предположение о бездушности некоторых частей организма мы считаем не только удобною (для некоторых соображений) точкой зрения, но еще засвидетельствованною в опыте, мы и положение Рибо должны считать эмпирически оправданным. А чрез это мы невольно вступаем на путь потенциального материализма. Что же касается до самих фактов, по поводу которых делается это примешивание метафизики к психологии, то они получат иное, чисто-эмпирическое, толкование. Так, очищая указанный вывод Рибо ото всякой метафизической примеси и устраняя для этого из него все, что противоречит закону -отсутствия объективных признаков одушевления, мы получим следующее чисто эмпирическое положение: ни одно явление памяти (психологической) никогда не совершается без участия физиологических процессов, и каждое из них оставляет особый отпечаток в нервной системе; а потому, действуя на память, мы действуем на нервную систему, и наоборот, влияя на нее, влияем на память.
Рассмотрим еще один поучительный пример бессознательного материализма. Все уверены, что душевная жизнь имеет начало во времени, хотя психология, уже и помимо наших исследований, внушает мысль, что мы не в состоянии решить этот вопрос, так как всякое предположение о начале душевной жизни запутывает нас в сильнейшие затруднения. Дело в том, что все душевные состояния подчинены закону относительности, по которому выходит, что сознание каждого из них обусловливается сознанием других предшествовавших психических состояний; например, каждое ощущение сознается чрез отличение его от других однородных ощущений и т. д. Но в каком же виде тогда должны мы представлять себе первое состояние сознания, у которого еще не было предшествующего? Естественнее всего в виду закона относительности отказаться от всяких попыток рассуждать о первом моменте душевной жизни, ибо если он и был (что остается неизвестным), то она подчинялась тогда таким законам, о которых, мы теперь не можем составить никакого понятия1). Но не так поступает боль-
_________________________
1) Это ясно и само по себе, хоть бы мы даже отрицали закон относительности. Теперешние законы управляют существующею душевною жизнью; а тогда должны были действовать такие законы, которые могли бы ее создать, то есть, неизвестные нам, недоступные для проверки.
78
шинство: догматически допускают существование первого момента и. понастроив разные предположения о том, какова должна быть душевная жизнь в это время, на основании их стараются объяснить то, что мы теперь наблюдаем в действительности. (Это даже излюбленный прием многих психологов — начинать свое изучение (!) каждого душевного явления с того, чтобы описывать его вид при начале душевной жизни). А когда вспомнят о законе относительности, то, разумеется, стараются как-нибудь обойти это затруднение при помощи новых произвольных предположений. Так, Штумпф допускает, что этот закон не действуем при начале душевной жизни, а впоследствии вырабатывается и делается на столько привычным, что составляет нашу «вторую природу»1). Таким образом догмат о доступности нашему знанию начала душевной жизни уже и сам по себе запутывает нас в некоторые затруднения и произвольные предположения.
Но этого еще мало: в ответ на вопрос, когда же именно начинается душевная жизнь, столь же догматически допускают, что она возникает после начала развития нервной системы зародыша, и этим вступают на путь скрытого материализма. Действительно, этой гипотезой ставят в зависимость от материальных процессов уже самое существование душевной жизни, а не одних лишь ее видоизменений и особенностей. Чтобы убедиться в этом, допустим пока для ясности, что дело идет не о душевной жизни, а о каком-нибудь X. Этот прием будет полезен по той причине, что наш ум привык думать, будто бы указанное предположение вовсе не приводит к материализму, а потому и не замечает последнего; и чтобы избавить его от влияния этой привычки и сделать беспристрастным судьей, нужно предложить ему тот же самый вопрос в общем виде. Итак, относительно некоторого X допущено, что он появляется не иначе как после возникновения нервной системы человека, и притом всегда появляется, когда она достигает известной степени развития2). Если же так, то по правилам индукции (именно мю соединенному методу согласия и различия) мы должны признать, что причина существования X скрывается в нервной системе чело-
_______________________
1) См. Гефдинг. «Очерки психологии, основанной на опыте», Москва, 1892, стр. 132.
2) Это ведь тоже допускается теми, кто думает, будто бы существуют объективные признаки одушевления и будто бы мы можем наверное решать, что одушевлено и что нет.
79
века (в каких-либо ее процессах), что последняя своей деятельностью порождает этот X. Если же под X подразумевать душевную жизнь, то условия, которые приводят нас к этому выводу, остаются без всякого изменения; и таким образом мы приходим к материалистическому воззрению, будто бы душевная жизнь порождается процессами нервной системы.
Потому-то современные психологи так часто и сбиваются на материализм. Они незаметно для самих себя уже заранее допускают его своим предположением о начале душевной жизни. Поэтому, как бы искренне ни уклонялись они от него, он рано или поздно будет стремиться выступить на вид в тех выводах, которые обусловлены этим предположением. Но коль скоро мы допустим закон отсутствия объективных признаков одушевления, то этим мы отрежем себе путь к подобному замаскированному материализму. Мы уже не в праве говорить о начале душевной жизни, ибо оно навсегда остается за пределами эмпирического знания. А в связи с этим мы не в праве истолковывать происходящие в нас душевные явления, исходя из тех (всегда догматических и недоказуемых) предположений, которые мы построим относительно начала душевной жизни. Подобно тому как в естествознании мы отказались от всяких попыток определить первый момент существования вселенной и способы творения из ничего, а взамен того мы ограничиваемся лишь изучением тех законов, которые управляют ею в настоящем, и при помощи этого знания восстановляем в своих мыслях те состояния или особенности вселенной, которые были в ней сравнительно немного назад, и предугадываем, какие будут немного позднее; так точно и в психологии мы вынуждены изучать законы, управляющие тою душевною жизнью, которая теперь существует в нас — сейчас, и при их помощи угадывать те состояния и особенности душевной жизни, которые были в ней немного назад (в детстве) и которые будут позднее, а отнюдь не определять ее первого момента и способов ее возникновения из психического «Ничто».
Теперь уже ясно, что рекомендуемое нами практическое решение вопроса о чужом одушевлении далеко не совпадает с обычными взглядами, хотя, может быть, приведет нас к той же классификации, которая слагается под их влиянием. Но это решение еще не вполне удовлетворяет нас. Сам-то вопрос, действительно ли существует душевная жизнь помимо меня, все-таки остается еще
80
не решенным наверное. А это-то и невыносимо для нас. Сколько бы я ни говорил об его неразрешимости, какими бы доводами я ни подтверждал ее, тем не менее я каждое мгновение опровергаю ее всем своим существом. Я не могу отделаться от убеждения в существовании чужой душевной жизни. Оно составляет в моих глазах непреложную истину. Вся моя собственная жизнь насквозь обусловлена и проникнута этим убеждением. Даже, когда анализ нашей познавательной способности приводит меня к заключению об эмпирической недоказуемости этого убеждения, то я не задумываюсь высказать свои выводы другим лицам; и этим самым я обнаруживаю, что вопрос о чужом одушевлении все-таки решен мной, и при том в положительном смысле. Более того, для меня невыносимо допустить не только его отрицательное решение, но даже и одну лишь его неразрешимость. Я не в силах успокоиться только на том, что я в праве смотреть на окружающих меня людей и так и сяк. Для меня необходимо, чтобы этот вопрос был окончательно решен.
Можно ли объяснить это одною лишь привычкой? Возможно ли допустить, что идея чужой душевной жизни неразрывно ассоциировалась с другими идеями и только поэтому неизбежно навязывается моему уму? Но в том-то и дело, что я возмущаюсь против признания неразрешимости вопроса о чужом одушевлении не одним лишь умом, а всем существом. Отказаться от привычных мыслей еще не так трудно. Да мы тогда испытываем совсем не то душевное состояние, как теперь — при попытках отказаться от убеждения в одушевлении других людей. Когда нам приходится разрушать какую-нибудь неразрывную ассоциацию, то мы на первых порах испытываем некоторую умственную неловкость, еще не замечаем сразу всего того, что вытекает из признания новой комбинации идей, сбиваемся взамен того на привычный ход мысли, от этого часто противоречим сами себе (допуская то, чего уже не в праве допускать, и еще не признавая того, что уже обязаны признать). Иногда новая мысль является на столько непривычной, что мы даже не в состоянии понять ни ее самой, ни ее оснований и т. д. Но никогда не бывает, чтобы, поняв ее, признав доказывающие ее доводы и находя ее саму по себе легкой и вполне справедливой, мы все-таки возмущались против нее всем своим существом, как в данном случае. При каждой попытке отказаться от положительного решения нашего вопроса (будет ли она сделана в том виде, чтобы
81
я попробовал признать одушевленным во всем мире только самого себя, или же в том виде, чтобы искренне считать неизвестным, одушевлен ли кто-нибудь кроме меня) я замечаю, что меня охватывает сознание невозможности жить без положительного решения этого вопроса и даже исчезает всякое стремление к жизни; я чувствую, что последнее обусловлено признанием одушевления помимо меня.
Описать вполне точно, что именно переживается при подобных попытках, нельзя, да и нет нужды: каждый читатель легко может подметить это на самом себе. Пусть только он для сравнения представит себе сначала, что он искренно усомнился в достоверности чужого одушевления, а вслед затем попробует разрушить в себе какую-нибудь самую прочную ассоциацию, например, убеждение в трехмерности пространства, для чего допустит в нем четыре измерения, из которых одно остается недоступным для наших восприятий1). При таких сравнениях он убедится, что уничтожение неразрывных ассоциаций никогда не встречает препятствий со стороны всего нашего существа. И всякий, кто занимался геометрией Лобачевского (его пангеометрией, построенной в предположении, что из одной точки может быть к данной линии проведена не одна параллельная, то есть, непересекающаяся с ней, а целый пучок подобных линий, и тогда величина угла этого пучка зависит от величины расстояния точки от данной линии) или кто просматривал попытки построить геометрию четырехмерного пространства, наверное припомнит, что как ни были непривычны для нас подобные построения, они все-таки не встречали такого противодействия со стороны нашего душевного мира, которое переживается нами, когда мы пытаемся оставить неразрешенным вопрос о существовании чужого одушевления. В последнем случае возмущается не только наш ум со своими издавна укоренившимися в нем привычками, но все наше существо. Здесь-то, очевидно, в противодействии всего нашего существа всякому уклонению от положительного решения нашего вопроса, лежит причина, почему никто никогда не сомневается в существовании чужой душевной жизни. Сомневаются и спорят только относительно пределов ее распространения, ее типов и т. п., но отнюдь не относительно ее существования.
________________________
1) Привычка к мысли о трехмерном пространстве укореняется даже и наследственным опытом.
82
А на что же указывает это противодействие всего нашего существа подобным сомнениям, и откуда оно берется? Как истолковать его, если мы признаем существование чужой душевной жизни за непреложную истину? (А кто же решится отрицать ее?). Рассмотрим состав нашего существа. В него входят чувства, посредством которых мы воспринимаем данные опыта, а также и ум, обсуждающий показания. этих чувств. Условимся же называть все эти чувства (и внешние — зрение, слух и т. д., и внутренние — мускульные, органические, а равно и самонаблюдение над нашими душевными процессами) — эмпирическими чувствами. Эмпирические чувства и ум, сами по себе, как мы видели, еще не обязывают нас допускать существование чужой душевной жизни. Если прислушиваться исключительно лишь к голосу этих составных частей нашего существа, то мы одинаково в праве и допускать существование одушевления помимо нас и отрицать его. Но, как мы сейчас говорили, в нашем существе действует еще «что-то такое», и оно открывает просвет в такую область, которая остается скрытой для эмпирических чувств и ума, именно — заставляет нас признавать существование чужого одушевления. Назовем это «что-то такое» метафизическим чувством, и пока еще не будем рассматривать ближайшим образом его природы. Так как для каждого из нас существование чужого одушевления составляет непреложную истину1), то надо допустить, что источниками истины служат не только ум и эмпирические чувства, но также и метафизическое чувство. Подобно тому, как при помощи зрения мы узнаем то, чего не в состоянии узнать при помощи других чувств, так точно при помощи метафизического чувства мы узнаем то, чего не в состоянии узнать одними эмпирическими чувствами, и этим путем решаем такие сомнения, которые с эмпирической точки зрения навсегда останутся неразрешимыми. Существование особого (кроме эмпирических, чувств и ума) органа познания, и при том такого познания, которое отличается метафизическим характером (выходит за пределы всякого возможного опыта), — вот вывод, который логически неизбежен для всякого, кто признал закон отсутствия объективных признаков одушевления и в то же время считает неоспоримою истиной одушевление других людей.
_______________________
1) Ведь мы уже допустили это; теперь же мы должны только узнать, что вытекает из этого предположения.
83
Конечно, с первого взгляда это должно казаться несколько странным: мы слишком привыкли к общепринятому перечню органов познания, и никогда не подозревали в нем подобного пробела. Но мы имеем еще другие истины, похожие на истину одушевления других людей, тем, что они тоже никоим образом не могут быть оправданы чисто-эмпирическим путем, а мы все-таки признаем их. Значит, и они подтверждаются и проверяются каким-то неэмпирическим органом1). И не в праве ли мы его считать за указанное метафизическое чувство, особенно же коль скоро подтверждаемые им истины таковы, что они подразумевают и постулируют истину существования чужой душевной жизни? Мы имеем в виду признание обязательности нравственного долга. Никто не отрицает ее2). Философы до сей поры еще не могут подыскать для этого факта таких объяснений, которые сделались бы общепризнанными. Еще менее умеют они обосновать эту обязательность. А мы все- таки признаем ее, не заботясь ни о том, чтобы объяснить ее происхождение, ни даже о том, доказал ли кто из философов и в состоянии ли они доказать, что признание обязательности нравственного долга составляет истину, а не заблуждение.
Более того, каждый из нас легко может убедиться, что необходимость признавать обязательность нравственного долга никоим образом не может быть доказана. Вполне возможно после того, как мы уже признали что-либо нравственно обязательным, доказывать, что поэтому мы должны признать столь же обязательным и еще что-нибудь и т. д. Но если мы решились отвергать обязательность нравственного долга вообще, то есть, все нравственные обязанности без исключения, то уже никто не докажет нам, что мы должны считать что-нибудь нравственно обязательным. На чем основывать подобные доказательства? Сослаться на нравственный долг нельзя, ибо я его вообще отрицаю. Из ссылки же на то, что
_________________________
1) Мы не станем говорить о генезисе этих истин, а также и о том, чем они впервые внушаются нам; а обратим свое внимание только на то, чем они подтверждаются. Каков бы ни был генезис этих идей, мы допускаем их справедливость, хотя не в состоянии доказать ее эмпирическим путем; значит, что-то подтверждает их. Этого и достаточно для наших целей.
2) По словам психиатров, некоторые душевнобольные составляют исключение из этого правила. В этом нет ничего удивительного: подобно тому как могут ослабеть и даже исчезнуть чувства слуха, зрения и т. д., так точно может подвергаться ослаблению, я искажению, и метафизическое чувство.
84
есть, на факты, ничего не выйдет, ибо из того, что есть, никак не может вытекать, чтобы нечто долженствовало быть, то есть, чтобы нечто было нравственно обязательным1). На столько же бесплодны и всякие ссылки на расчеты личной пользы (на благоразумие), так как нравственно-обязательное и полезное не одно и то же. Так чем же, нам обосновывать свое утверждение относительно обязательности нравственного долга? Очевидно — нечем, и всякое опровержение ее отрицания будет только кажущимся: мы или втихомолку заранее допустим то самое, что еще только доказываем (то есть, заранее допустим признание некоторых нравственных обязанностей, а потому и в выводе, разумеется, получится логическая обязанность признавать впредь и их и еще некоторые вытекающие из них), или же смешаем в своих рассуждениях нравственную обязанность с чем-нибудь другим, например, с благоразумием и т. п. Превратить нравственную обязательность в логическую необходимость, которая вытекала бы из нашего знания о том, что есть, и о том, что по законам бытия необходимо будет, нет никакой возможности. Не даром же Кант в следовании нравственному долгу (значит — в признании его обязательности) видел обнаружение свободы воли: эмпирические чувства и обсуждающий их показания ум действительно представляют полную логическую свободу — признавать и не признавать обязательность нравственного долга. Существование эмпирического мира, да и вообще мира бытия, хотя бы трансцендентного, не влечет за собой логической необходимости признания нравственных обязанностей. Да не один Кант отожествляет нравственность со свободой. Вообще, когда говорят о свободе воли, то считают обнаружением последней способность воли следовать повелениям нравственности, делать выбор между ними и другими влечениями; при этом последние (например, влечения к телесному благосостоянию, чувственные стремления и т. п.) считаются неволь-
_________________________
1) Если в числе того, что есть, будет указана даже и воля Бога, предписывающая нам тот или другой закон, то все-таки никак нельзя вывесть, что его исполнение нравственно обязательно, если только мы заранее не допустим признания какой-либо обязанности. Знание бытия Бога и его воли еще не подразумевает признание последней нравственно-обязательною: ведь нет никакого внутреннего противоречия в понятии дьявола — павшего ангела, который, зная и Бога и его волю, не признал ее нравственно-обязательной для себя, а взамен того по свободному выбору признал своим законом повсюду оказывать ей противодействие.
85
ными, несвободными, признание же первых делом свободы, а потому таким актом, который остается логически необоснованным, невынужденным, пока мы руководствуемся одними эмпирическими чувствами. Все это показывает невозможность доказать обязательность нравственного долга, если бы кто вздумал отрицать ее.
Пусть в нас действует специфическое нравственное чувство, которое побуждает нас к выполнению нравственных обязанностей. Но если мы не станем верить ему и начнем оспаривать обязательность всех их вообще, то никоим образом нельзя сделать их обязательными для нас. Это настолько очевидно, что понятно для всех и каждого. И ненужно быть философом, чтобы подметить это. Всякий понимает, что если он захочет, то смело может отвергать все нравственные обязанности целиком (а не то, чтобы, признавая одни из них, отрицать другие), нисколько не рискуя-погрешить против фактов и логики. Действительно, нельзя найти такого человека, который, поняв, что его собеседник откровенно отрицает обязательность всех обязанностей вообще, решится его разубеждать. Всякий тотчас же заявит, что при таких условиях нельзя убедить своего противника никакими доводами и что если последний говорит вполне искренне, а не шутит (в чем обыкновенно сильно сомневаются в подобных случаях), то остается только подождать, пока его не переубедит сама жизнь, то есть, пока он не прислушается к какому-то особому голосу внутри себя. От подобных споров обыкновенно все воздерживаются. Факт же общего признания обязательности нравственных обязанностей (не выполнения их в действительности и не признания их значения для человечества, что еще, может быть, многие решатся отрицать, но сам факт признания их высшей обязательности) указывает на то, что ее истина оправдывается каким-то неэмпирическим чувством, или, как это говорится, каким-то особым внутренним голосом: он внушает нам, что обязательность нравственного долга есть истина.
Пусть утилитаризм прав и пусть содержание нравственного закона и даже влечение к его исполнению вырабатываются в нас посредством (личных и наследственных) неразрывных ассоциаций из чисто эгоистических стремлений. Но ведь после того, как я подмечу, что обязательность нравственного долга ровно ничем не может, быть доказана, я должен был бы, а уж во всяком случае мог бы, перестать считать ее истиной. Во мне осталось бы только привычное стремление к выполнению того, что я прежде считал
86
нравственно обязательным, но не было бы необходимости считать его таковым. Напротив, естественнее всего было бы ждать, что как только я подмечу недоказуемость обязательности нравственного долга, так тотчас же отвергну ее и буду считать себя освобожденным от него. Всякий человек в глубине души завзятый рационалист; и поэтому он всегда готов отрицать истину всего того, что не может быть доказано, особенно же — если он сам подметил возможность опровергнуть все доказательства, предъявляемые ему в пользу этой истины. Как соблазняются атеизмом? Ведь доказать небытие Бога нельзя; а не смотря на все (личные и наследственные) неразрывные ассоциации и привычки всей нашей души к вере в Бога, некоторые лица, хотя бы на время, становятся атеистами. Как же это происходит? Доказанную несостоятельность предъявленных доказательств существования Бога и его недоказуемость они, когда впервые замечают ее, считают за достаточное основание для оправдания атеизма. Когда юноша сам собой додумается до вывода, что исторически-установившийся государственный строй и сложившиеся социальные отношения не представляют собой ничего абсолютно-обязательного, ничего божественного и вечного, то он в большинстве случаев пропитывается на время революционными стремлениями, хотя бы они противоречили всем его привычкам мысли, даже наследственным. Можно набрать не мало подобных примеров. К тому же в учении о логических ошибках предупреждают не обо всех арифметически возможных уклонениях от правил логики, а только о тех, которые часто встречаются и в действительности (например, там не предупреждают против ошибочного обращения частно-утвердительного суждения в общеутвердительное вроде следующего: «некоторые металлы жидкости; следовательно, все жидкости суть металлы»); а между тем там находится предупреждение об ошибочном смешении опровержения доказательства с опровержением доказываемого положения. Значит, логики подметили в нашем уме наклонность к их смешению. Но она не действует в тех случаях, когда дело идет об обязательности нравственного долга1): хотя мы и подмечаем недоказуемость его обязательности, тем не
_______________________
1) Повторяем, что подметить недоказуемость обязательности нравственного закона не только легко для всех и каждого, но, как показывает ежедневно наблюдаемый факт воздержания от всяких чисто теоретических споров с теми, кто попробует отрицать ее, уже чуть не все давно подметили эту недоказуемость: иначе не считали бы подобных споров бесплодными.
87
менее охотно считаем последнюю истиной, а не привычным заблуждением.
Итак, какой-то голос, говорящий внутри нас, внушает нам мысль, что обязательность нравственного долга составляет истину, хотя она и не может быть доказана одними лишь эмпирическими чувствами и умом. Другими словами, эту истину мы проверяем каким-то неэмпирическим чувством1). А какого рода эта истина? Она такова, что ее признание неизбежно предполагает признание еще другой истины — существования чужого одушевления. Ведь нравственный долг немыслим, если я окружен повсюду только бездушными предметами; все бездушное может стать объектом нравственной обязанности только чрез свое отношение к чему-нибудь одушевленному. А если так, то в предположении существования метафизического чувства нет ничего странного и непозволительного, по крайней мере, столь же мало странного, как и в существовании чувства, которым проверяется обязательность нравственного долга: оба они доставляют уму возможность решить то, что остается неразрешимым для него, когда он руководится одними лишь эмпирическими чувствами, и оба внушают уму такие истины, которые находятся во взаимной связи.
То обстоятельство, что истина одушевления других людей проверяется нами не эмпирическими чувствами и умом, а другим путем, уже было отмечено в философской литературе. Вот что пишет Риль в своей «Теории науки»2): «стоят за то, будто о существовании подобных нам людей мы заключаем (а не воспринимаем этого непосредственно). Я думаю, однако ж, что предположение это неверно... Не спорю, что, действительно, будет заключением по аналогии, если из движений очень низкого разряда животных, еще не обладающих центральной нервной системой, даже и дифференцированными органами чувств, мы заключаем о наличности психических возбуждений, имеющих с нашими сознательными состояниями некоторое, хотя бы даже и самое отдаленное сродство. Но сомневаюсь, чтоб было простым аналогичным заключением то, что побуждает меня верить в душу собаки, такого животного, чьим душевным заявлениям я могу сочувствовать, и еще сильнее сомневаюсь я в этом относительно подобного заключения о психической жизни моего
_________________________
1) Вопрос же, как мы впервые приходим к идее нравственного долга, мы оставляем в стороне, как неважный для нашей теперешней задачи.
2) Цитируем по переводу Корша: «Теория науки и метафизика с точки зрения философского критицизма», Москва, 1887.
88
ближнего. Для постижения нами психической внутренности другого существа Клиффорд ввел выражение ejectiv (самовыбрасывание, перемет себя в другого). И, на сколько речь идет о различении этого рода познания от объективной подметы, с одной стороны, и от аналогичного заключения, с другой, я нахожу выбор такого выражения удачным. Но тут есть нечто большее, нежели выброс самого себя в чужое сознание, — тут дело в настоящем соощущении психической жизни другого. Путем междосубъективных или, как тоже называют их, альтруистических чувств, заготовь установляется взаимная связь между нашим собственным сознанием и сознанием нашего ближнего (упреждающая, стало быть, сознательность). Мы постигаем внутреннюю жизнь наших ближних почти непосредственно, по крайней мере, до того еще, что сами сознаем перенос нашего собственного нутра в другого. Истинное, например, участие мы по этой непосредственности различаем от притворного. Мы страдаем внутри другого существа, перестающего чрез то быть нам чуждым. От подмечаемых нами внешних признаков душевных движений мы тотчас переходим к тому, что ими обозначается. Едва ли можем мы изобразить это иначе, как именно так, что по поводу выражения душевного волнения в другом сознании мы переживаем с ним это волнение в своем собственном. Мне трудно поверить, чтобы младенец должен был целым рядом опытов и на основании аналогического заключения изучить смысл любовной материнской улыбки. Пусть уразумение знаков душевного движения основывается на опытах наших предков, — чего я впрочем не принимаю, — но все-таки в настоящее время оно должно быть прирождено нам. Как бы то ни было одним существованием в нас альтруистических чувств доказывается существование сочеловеков вне нас»1).
Таким образом, по мнению Риля, первоначальным источником нашей идеи чужого одушевления служат альтруистические чувства. Он говорит не столько о проверке реальности этой идеи, сколько об ее генезисе, вернее — соединяет оба вопроса в один. Но мы разделим их, потому что вопрос о генезисе этой идеи очень сложен, и для его решения нужно предварительно критически пересмотреть все наши психологические воззрения, так как они переполнены догматическими примесями, которые обусловливаются, напри-
______________________
1) L. с. 198 и сл., курсив в подлиннике.
89
мер, догматическими предположениями о времени и способе возникновения душевной жизни и т. п.1). Поэтому мы будем говорить только о таком вопросе: что придает непоколебимость нашему убеждению в одушевлении других людей и чем проверить его, если мы узнали, что эта истина принадлежит к числу теоретически недоказуемых и что ее поэтому легко (теоретически) отрицать?
Поставив себе такой вопрос, мы должны будем остановиться на нравственном чувстве2): только оно одно и в состоянии сделать эту истину неоспоримой, внушить нам непоколебимую веру в нее; ибо мы бесспорно допускаем обязательность нравственного долга, а последняя совершенно немыслима без признания чужого одушевления. Другие же чувства, если их рассматривать независимо от всяких примесей нравственных элементов, не в состоянии убедить нас в существовании чужого одушевления. Так, Риль упоминает о сочувствии. Конечно, поскольку оно повелевается нравственным долгом, по стольку оно служит неоспоримым свидетелем чужого одушевления. Но если мы станем рассматривать его само по себе, вполне независимо от всякого отношения к нравственному долгу, то все остальные явления сочувствия могли бы переживаться нами без всякой мысли об одушевлении других существ. Действительно, если ребенок видит, что возле него страдает какое-нибудь существо, которого он еще не считает одушевленным, то он в силу подражательности может переживать те же физиологические состояния, которые переживаются этим существом. А так как с ними связаны соответствующие психические состояния, то ребенок будет переживать сострадание относительно такого существа, которого он еще не считает одушевленным. Сын Дарвина, будучи всего лишь шести месяцев, то есть, когда он еще не мог понимать значения выражения горя, по всем видимостям обнаруживал сострадание, если видел плачущую кормилицу. Так не происходило ли это именно тем путем, как это сейчас было описано, — вслед-
________________________
1) Говоря раньше, как вернее было бы представлять историческую сторону генезиса этого убеждения, мы уже упомянули, что он осложняется примесью к деятельности эмпирических чувств и ума еще деятельности других душевных способностей — метафизического чувства и наследственных ассоциаций. Там же мы изложили дело так, как бы в человеке происходили одни только теоретические процессы.
2) Слово «Нравственное чувство» мы употребляем в широком смысле так что под ним можно подразумевать и практический разум Канта.
90
ствие подражательности? С безусловной достоверностью нельзя сказать этого, ибо такая психология есть палка о двух концах; но все-таки это более чем возможно. Далее: многие избегают вида чужого страдания, чувствуют как бы отвращение к нему (избегают даже разговора о нем), и все это из боязни, что у них самих наступят такие же страдания. А одушевлено ли другое страдающее существо или нет, как тяжело ему, — об этом они и не задумываются, и относятся к нему самому вполне безучастно. Наоборот, все любят веселые лица, не людей, не радостные души, а лица, потому что, глядя на них, самому становится веселее, независимо от того, скрывается ли за ними истинное веселье или же полная душевная пустота1). Значит, если я вступлю на путь теоретических сомнений относительно существования чужого одушевления, то тот факт, что я переживаю явления сочувствия, взятый сам по себе, помимо примеси нравственного одобрения этим явлениям, не в состоянии рассеять моих сомнений: переживание этих явлений было бы возможно и без идеи чужого одушевления. Конечно, они усиливаются и чаще переживаются, если я верю в него; но они возможны и без этой веры. Сочувствие питается ею, но само по себе не подтверждает ее и не связано с ней необходимым образом. Напротив, все явления сочувствия могут переживаться нами (вследствие подражательности) без этой веры и, как показывают упомянутые случаи отвращения, к виду чужих страданий и наслаждения веселыми лицами, в действительности часто переживаются без всякого помысла о чужом одушевлении. Следовательно, сочувствие само по себе не пригодно для того, чтобы сообщить непоколебимость нашему убеждению в одушевлении других людей; и тот протест, который оказывается всем нашим существом попыткам поколебать это убеждение, идет не со стороны сочувствия, а из другого источника. Нравственное же чувство, хотя бы оно пробудилось в самой неясной форме, безусловно пригодно для этой цели: нельзя даже смутно считать что-либо нравственно обязательным, если не допускать чужого одушевления. Как только возникает хотя бы самая темная мысль о существовании чего-то нравственно-обязательного, так тотчас же должно быть и убеждение в существовании чужого одушевления. Ведь обязательность нравственного долга немыслима, если нет ни одного одушевленного существа,
_________________________
1) Одна из причин, почему многие любят общество детей, хотя и не любят их самих порознь; находясь в нем, мы и сами молодеем.
91
кроме носителя этого долга: прямо или косвенно он всегда имеет своим объектом одни лишь одушевленные существа.
Другие же чувства, кроме нравственного, правда, питаются и поддерживаются убеждением в одушевлении других людей: таковы — гнев,1) честолюбие, ненависть и т. п. Но сами по себе они не способны к тому, чтобы* сделать его устойчивым, непоколебимым. Этому препятствует уже то, что они переживаются далеко не всеми лицами и не всегда, а только спорадически. Изо всех чувств была бы, по-видимому, наиболее пригодной для этой цели любовь. Конечно, если мы возьмем те виды любви, в которых это чувство перестает отличаться от беспрепятственной деятельности нравственного чувства, то любовь окажется немыслимой без веры в одушевление любимого лица. То, что называют разумной (и что вернее было бы называть нравственной) любовью матери к детям, мужчины к женщине и наоборот, действительно невозможно без этой веры. Но такая любовь сливается с проявлением нравственного чувства. Если же она отделяется от него и принимает грубый, животный характер, то вера в одушевление любимого лица утрачивает свое значение для любви2). Известно, что грубо влюбленные часто домогаются обладания, не заботясь о том, встречают ли они взаимность в предмете своей любви. Значит, если бы он был или считался ими даже вполне бездушным (но по-прежнему живым) существом, то все-таки не утратил бы для них своей цены. Также вряд ли возможно сомневаться, что животная любовь к детям, которая вся сводится на заботы об одном лишь их физическом благосостоянии, не нуждается в вере в их одушевление. Подобное убеждение неотделимо от любви лишь тогда, когда она проникнута и регулируется примесью моральных элементов, например, уважением к чужой личности (даже и детей можно уважать, именно как существа, стоящие выше нашего произвола и налагающие на нас известные обязанности и заботы и при том не об одном лишь физическом, но и об их моральном благосостоянии). Да и в каком виде могла бы существовать любовь, если бы в нас не было ровно никаких, даже самых смутных, нравственных побуждений? На
_______________________
1) Впрочем, можно гневаться и на неодушевленные предметы с полным сознанием их бездушности: так, гневно ломают дурное перо и т. п.
2) А русский народ создал даже выражения, которые прямо говорят о любви к бездушным предметам. Сапожник, по словам Толстого, любит сапог, над которым работает.
92
основании только что сказанного надо думать, что если бы она и существовала (ибо и это еще неизвестно), то ограничивалась бы лишь слепыми влечениями к известным действиям и взаимоотношениям, в роде питания и защиты детенышей, обладания самкой и т. п., то есть, такими же влечениями, какие мы рисуем себе, когда говорим об инстинкте животных; например, когда говорим, что птица, выросшая в неволе, строит бесполезное для нее гнездо под влиянием инстинкта. А эти слепые влечения, разумеется, сами по себе не в состоянии ни пробудить, ни подкрепить убеждения в чужом одушевлении.
Во всяком случае, если мы даже и допустим, что любовь, взятая без всякой примеси нравственных элементов, всегда сопровождается идеей одушевления любимого лица, то все-таки нельзя будет сказать, что она-то именно и делает эту идею непоколебимой и неоспоримой. Мы ведь, хотя иногда и подчиняемся такой любви, все-таки не считаем ее обязательной для себя, а потому не можем считать неоспоримыми и обязательными и тех мыслей, которые сопровождают ее. Бывают даже такие случаи, когда человек сознает всю ложь подобных мыслей. Так, любовь побуждает нас идеализировать любимое лице; но, испытывая это побуждение, влюбленные в то же время могут понимать, что предмет их любви заслуживает не идеализации, а прямо презрения. По крайней мере, романисты описывают подобные случаи. И всякий, кому случалось бороться со своим пристрастием к тому или другому человеку (случай, однородный с теми), знает, что в их описаниях нет ничего психически невозможного. Поэтому, если мы испытываем, что все наше существо не допускает никаких сомнений в существовании чужого одушевления, то это происходит не от любви — по крайней мере, не от той любви, которая чужда примеси нравственных элементов. А мы уж не говорим о том, что подобная любовь не переживается нами беспрерывно, в любое время, а сравнительно редко; признание же обязательности нравственного долга и деятельность нравственного чувства всегда стоят наготове. Значит, естественнее всего предположить, что оно-то именно и возмущается, когда мы пытаемся отказаться от убеждения в одушевлении других людей; оно-то и делает эти попытки бесплодными и противоречащими всему нашему существу.
Таким образом то, что мы назвали метафизическим чувством, и нравственное чувство приходится рассматривать, как одно и то же,
93
то есть, считать метафизическое чувство неотделимой стороной нравственного, именно как бы его познавательной стороной: само нравственное чувство навязывает нам лишь признание обязательности нравственного долга, то есть, особый вид оценки настроений и актов нашей воли, а эта сторона нравственного чувства раскрывает нам, относительно кого именно имеем мы нравственные обязанности. Относительно нравственного чувства не может быть никаких сомнений, что его деятельность неотделима от деятельности метафизического чувства: ведь признание обязательности нравственного долга немыслимо без признания существования одушевления помимо меня (то есть, без положительного приговора со стороны метафизического чувства). Можно только сомневаться, не действует ли метафизическое чувство независимо от нравственного? Может быть, переживаемое нами противодействие (о котором мы упоминали раньше) со стороны всего нашего существа сомнениям в одушевлении других людей зависит от того, что у нас существует особый орган познания, который мог бы действовать даже и в том случае, если бы в нас не было никаких нравственных задатков, и показания которого, напротив, обусловливают возможность деятельности нравственного чувства, а сверх того питают и поддерживают другие чувства симпатию, любовь, гнев и т. п.? Но следующе соображения говорят за то, что и метафизическое чувство в свою очередь неотделимо от нравственного и что деятельность первого надо рассматривать, как одну из сторон последнего:
1) Прежде всего отметим, что мы не сознаем обособленности метафизического чувства: потому-то оно и не попадается никогда ни под каким названием в психологических перечнях наших чувств. А что же это за особое чувство, обособленность которого не сознается нами? Гнев мы потому должны считать чувством, обособленным от удивления, что сознаем их обособленность, то есть, их качественное отличие друг от друга; отличия же метафизического чувства от других мы не сознаем. Правда, это обстоятельство можно истолковать иначе: было в истории психологии время, когда не отличали моторного чувства от осязательного. Причиной этому служило то, что первое при обычном самонаблюдении крайне трудно сознавать особо от осязательного чувства: для этого требуются или какие либо искусственные приемы самонаблюдения, или же те болезненные явления, при которых исчезает одно из этих чувств в то время, когда сохраняется другое. Так точно нет ничего не-
94
мыслимого и в том, что обособленность метафизического чувства могла бы обнаружиться при каких-либо еще неизвестных нам условиях. Но во всяком случае это не исключает и обратной возможности, то есть, того, что обособленность метафизического чувства не может быть сознана ни при каких условиях. Поэтому возможность (хотя не необходимость) рассматривать его, как только одну из сторон нравственного чувства, остается еще ничем не опровергнутой.
2) Эта возможность подтверждается еще более, когда мы обратим внимание на тот ход мысли, который приводит нас к предположению метафизического чувства. Мы вынуждены были заключить о существовании в нас «чего-то такого», что заставляет нас допускать чужое одушевление, и прежде всего, разумеется, одушевление других людей (ибо оказалось невозможным уничтожить в себе именно убеждение в их одушевлении); и вот это-то «что-то такое» мы и назвали метафизическим чувством. Но мы при этом еще не довели до конца своей задачи: ведь мы еще не решали, составляет ли это «что-то такое» совершенно особое ото всех других чувство, или же совпадает с каким-нибудь из них, как его неотделимая сторона. Мы убедились только в том, что оно не совпадает ни с эмпирическими чувствами, ни с умом; ибо эти способности оказываются вполне бессильными для того, чтобы навязать нам убеждение в существовании чужого одушевления. Но не совпадает ли оно с нравственным чувством, об этом мы тогда не заводили никакой речи. А между тем нравственное чувство оказывается отнюдь не бессильным, но вполне достаточным для того, чтобы навязать нам требуемое убеждение. Поэтому вернее всего рассматривать метафизическое чувство, как одну из сторон нравственного. Для эмпирических чувств и ума, говорим мы, вопрос о чужом одушевлении оказался неразрешимым; но все наше существо навязывает нам убеждение в существовании других одушевленных существ, и при том навязывает иначе, чем это могли бы сделать неразрывные ассоциации. Следовательно, говорим мы, в состав всего нашего существа, кроме эмпирических чувств и ума, входит еще что-то особое, с ними не совпадающее и навязывающее нам это убеждение. Это и есть метафизическое чувство. Но ведь, кроме эмпирических чувств и ума, в состав нашего существа входит, сверх способностей гнева, любви, симпатии и т. п. чувствований, еще нравственное чувство; и оно вполне пригодно, чтобы непреодолимым
95
образом навязывать нам это убеждение. Следовательно, предположенная нами деятельность метафизического чувства выходит голосом нравственного чувства.
3) Подобно тому, как мы должны признавать одушевленными все те существа, относительно которых мы имеем нравственные обязанности, так точно и наоборот — наши нравственные обязанности существуют относительно всех тех существ, которые мы считаем одушевленными. Ведь коль скоро животное одушевлено, то оно eo ipso является объектом некоторых нравственных обязанностей (например, обязанности не подвергать его мучениям ради забавы и т. п.)1). Таким образом та сфера, на которую распространяется положительный приговор метафизического чувства (признание данного существа одушевленным), как раз совпадает со сферой положительного же приговора нравственного чувства (со сферой тех объектов, относительно которых существует нравственный долг). А разве это не указывает на то, что оба приговора возникают из одного и того же источника, то есть, признание чужого одушевления, если и не порождается, то во всяком случае проверяется нами посредством нравственного чувства? Если бы мы допускали такие одушевленные существа, относительно которых у нас нет никаких нравственных обязанностей, то это показывало бы возможность деятельности одного лишь метафизического чувства помимо деятельности нравственного, и не было бы основания, которое уполномочивало бы нас рассматривать обе деятельности, как слитые между собой. Но в действительности дело стоит иначе.
Итак, вернее всего считать метафизическое чувство одной из сторон нравственного. Конечно, это не будет вполне необходимым, если мы не допускаем, что мы имеем нравственные обязанности относительно всех без изъятия одушевленных существ. Но мы не будем рассматривать этого вопроса, ибо решение его, очевидно, не легко, да и выходит за пределы нашего исследования, которое имеет в виду главным образом не этические и не психологические, но гносеологические задачи2). Поэтому перейдем прямо к сле-
________________________
1) Рассуждая о неотделимости метафизического чувства от нравственного, мы имеем и должны иметь в виду не то, что делается людьми, а то, что они обязаны делать, хотя бы это часто не исполнялось, потому ли что они еще не поняли этой обязанности, или же умышленно заглушают в себе ее сознание, и т. п.
2) От решения этического вопроса: распространяется ли круг наших нравственных обязанностей на все одушевленные существа, зависит решение
96
дующему указанию: если и допустить метафизическое чувство, которое было бы вполне самостоятельно относительно нравственного, то во всяком случае его приговоры нуждались бы еще в особом подтверждении со стороны последнего.
В самом деле, допустим даже, что результатом деятельности метафизического чувства служит какой-либо специфический продукт в роде того, как у мускульного чувства таким продуктом служат моторные ощущения, у слухового — звуковые и т. д. Собственно говоря, это предположение нелепо, потому что мы не сознаем в себе никакого специфического продукта, возникновение которого следовало бы приписать метафизическому чувству. И сколько бы мы ни анализировали наше убеждение в существовании чужого одушевления, мы никогда не встретим в нем ничего подобного. Но допустим и это. Что же, в состоянии ли одно лишь существование подобного специфического продукта, который можно было бы назвать метафизическим ощущением или ощущением чужого одушевления, внушить нам уверенность в объективном значении этого продукта? Ведь ясно, что такое ощущение, равно как и все другие (звуковые, зрительные и т. д.), может иметь только субъективное значение, ибо оно, так же, как и последние, составляет продукт моего же сознания. Поэтому я не могу приписывать этого ощущения тому, что находится вне моего сознания, совершенно также, как я не в праве делать это относительно цветов, звуков и т. п. И в том и в другом случае я не в праве допускать, чтобы ощущения были адекватными изображениями того, что лежит за пределами сознания, а с ним — и всех ощущений.
Но в действительности дело стоит еще хуже: метафизическому чувству, если допустить его обособленность от нравственного, нельзя приписать никакого подобного специфического ощущения. В чем же тогда состоит результат его деятельности? Очевидно, только в том, что оно навязывает нашему уму неискоренимую мысль о существовании чужого одушевления, такую мысль, которая, хотя и не опровергается опытом, но и не доказывается им. Следовательно, эту мысль можно рассматривать, как одну из неэмпирических, прирожденных нам независимо от влияния нашего опыта.
____________________
вопроса: надо ли рассматривать метафизическое чувство, как обособленное от нравственного, или же как одну из сторон последнего. А этот вопрос, очевидно, имеет психологический характер.
97
При этом она может быть прирождена только в двух видах: или как априорная, или как неаприорная. По поводу этого деления надо сделать маленькую оговорку. Обыкновенно смешивают оба термина: прирожденный и априорный, и все, что прирождено, называют априорным и наоборот, так что делают оба слова равнозначащими. Такое смешение установилось издавна, под влиянием не личного произвола того или другого автора, а исторически сложившихся причин, и потому смешно упрекать за него. К тому же слова суть условные знаки понятий, и ничто не мешает нам употреблять их в каком угодно смысле. Но смешение слов не должно уничтожать различения понятий. А неэмпирические или, если угодно, прирожденные идеи могут быть неоднородны между собой. Про одни из них Кант (справедливо или нет, в данном случае для нас это безразлично) утверждал, что они служат или условиями всякого возможного опыта (априорные понятия), или же его необходимыми формами (пространство и время); они, по его словам, создают объективное значение опыта, и поэтому обязательно реализуются в опыте.
Вот такие-то идеи из числа прирожденных мы условливаемся называть априорными, а все прочие неэмпирические идеи неаприорными. Многое может быть прирождено нам, но не быть априорным в указанном смысле слова. Если во мне существуют привычки к известным действиям, приобретенные мной в силу наследственности, то они прирождены мне, но все-таки неаприорны; потому что они не имеют того значения, которое, по словам Канта, присуще идеям пространства, времени, причинности и т. д. Подобным же образом и нравственный закон, который Кант называет априорным, нельзя так называть в установленном нами смысле этого слова, ибо неэмпиричность нравственного закона имеет совсем иное значение, чем неэмпиричность допускаемой Кантом априорной идеи причинности и т. п.1). И нет ничего немыслимого
________________________
1) Сам Кант, употребляя слово «априорный» в равных значениях, был виновником того смешения слов, на которое мы указываем. Но дело не ограничивается смешением слов, а распространяется также и на понятия. В доказательство можно сослаться на полемику Гельмгольца, которую он ведет в своих «Die Thatsachen in der Wahrnehmung» (Berlin, 1879, стр. 62) против Канта. Он высказывает там такую мысль: если рассматривать аксиомы геометрии также, как и Кант, то есть, приписывать им то, что мы условились называть априорностью, то все-таки их реальность должна еще быть оправдана опытом. Между тем их априорность (в указанном смысле) можно, конечно, призна-
98
в существовании таких идей, которые были бы прирождены всем людям без исключения, но все-таки не были бы априорными.
Допустим же, что результат деятельности метафизического чувства является в виде неаприорной прирожденной идеи. Ясное дело, что, взятая сама по себе, она не будет содержать в себе никакого ручательства за свою объективную реальность. Нахождение идеи в нашем сознании еще не спасает ее от наших сомнений, и всегда легко может быть истолковано, как результат наших чисто субъективных особенностей. Для своего оправдания она нуждается в каком-либо особом подтверждении. Если же эта идея будет из числа априорных, то за ней, конечно, будет обеспечена ее эмпирическая (но не трансцендентная) реальность; ибо всякая априорная идея, составляя субъективное условие возможности доступного для нас опыта, eo ipso должна являться реализованной в опыте. Например, если время составляет субъективное (то есть, зависящее от организации нашего сознания) условие возможности доступного для нас опыта, (то есть, такое условие, без подчинения которому ни один объект не может «делаться предметом доступного для нас опыта), то, естественно, всякий предмет опыта будет являться нам не иначе, как во времени, хотя бы скрывающаяся сзади него вещь в себе была бы чужда временных отношений. Но вот вопрос: где, то есть, в каких пределах обеспечена реальность априорных идей? Только в пределах опыта, то есть, в том, что сознается мной или воспринимается мной посредством эмпирических чувств, как внутреннего, так и внешнего. А имеют ли они значение для того, что скрывается за пределами моего сознания и существует не в нем, как его объектированное или субъектированное состояние, но само по себе?1). Это еще неизвестно, и распространять значение априорных идей за пределы опыта у нас нет еще никакого основания. Ведь
_________________________
вать и не признавать; но раз она допущена, то уже по самому понятию априорности должна быть признана их эмпирическая (но не трансцендентная) реальность.
1) Весь внешний мир слагается из ощущений, которые по законам нашего познания неизбежно сознаются нами, как объективные, то есть, как бы находящиеся помимо нас; ощущения же суть состояния нашего сознания; следовательно, весь материал внешнего мира состоит из объектированных состояний сознания. Внутренний же слагается из таких состояний сознания, которые сознаются нами, как субъективные.
99
их реальность для опыта обеспечена именно тем, что они субъективные (зависящие от моего сознания) условия доступного для моего сознания опыта; поэтому они должны отпечататься во всей том, что является или могло бы (например, при изощрении моих чувств и т. п.) явиться мне в доступном для меня опыте. Но отсюда еще не следует, чтобы они отпечатались также и за его пределами. В опыте они должны отпечататься, ибо он есть состояние нашего сознания и должен подчиняться условиям доступности для сознания, то есть, содержанию априорных идей; но то, что лежит за пределами опыта, остается вне сознания и не обязано подчиняться субъективным условиям доступного для нас опыта1). Достоверная реальность априорных идей уже по самому понятию их ограничивается только пределами опыта, но не распространяется на то, что остается вне него. И что же будет, если убеждение о существовании чужого одушевления принадлежит к числу априорных идей? Она должна быть реализована в опыте. А так как чужое одушевление фактически остается за пределами опыта, то значит, если мы допустим априорность этой идеи, ее реализация в опыте может обнаружиться только следующим образом: в состав опыта должны входить, между прочим, и такие существа, которые будут неизбежно вполне похожи на меня, и при том на столько, что я всегда, без всяких противоречий с данными опыта и очень легко могу считать их одушевленными. Но будут ли они таковы на самом деле, это еще неизвестно, потому что чужое одушевление лежит, все-таки, за пределами опыта; а на эту область еще не распространяется достоверная власть априорных идей.
Таким образом, в каком бы виде мы ни представляли себе результат деятельности самостоятельного метафизического чувства, его приговоры, взятые сами по себе, оказываются недостаточными для того, чтобы придать неоспоримость убеждению в существовании чужого одушевления. Поэтому последнее во всяком случае нуждается в подтверждении со стороны нравственного чувства. Только при таких условиях может это убеждение быть неоспоримым; во всех же остальных случаях его легко отвергнуть. Но, скажут нам,
_________________________
1) Поэтому Кант прямо утверждал, что вещи в себе не подчинены априорным идеям, например, они вне времени и пространства. Но для подобного утверждения, конечно, нужны особые основания; а пока их нет, мы должны говорить только, что еще не известно, реализованы ли априорные идеи в вещах в себе, или же нет.
100
ведь и основной приговор нравственного чувства (о необходимости признавать нравственный долг вообще) тоже ровно ничем не может быть доказан. Напротив, если кто станет его оспаривать, то такой отрицатель не может быть опровергнут. Этот приговор должен быть признан на веру. А если так, то и все то, что оправдывается одним лишь нравственным чувством, есть вера, а не знание. Поэтому и признание чужого одушевления составляет, все- таки, одну лишь веру, которая еще нуждается в оправдании. Почему же в таком случае мы делаем разницу между приговорами обособленного метафизического чувства и приговорами нравственного? Почему мы первые считаем недостаточными?
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, на всякий случай предупредим читателя, чтобы он не навязывал критической философии таких задач, которых она не обязана решать. ее первая и главнейшая задача состоит в исследовании тех идей, которым мы склоняемся приписывать значение познания. При этом мы должны объяснить также, что именно побуждает нас приписывать им такое значение; какова сравнительная степень их обязательности или достоверности; каким путем может быть повышена та и другая и т. п. И очень часто критико-философские исследования должны закончиться решением этих и подобных им вопросов (к числу последних мы относим, например, такие: определение генезиса идей, их влияния друг на друга и на общий характер нашего мировоззрения, оценку их пригодности, как вспомогательных или регулятивных принципов, и т. п.). Требовать же от критической философии, чтобы она непременно, во что бы то ни стало, исследовала не только наши идеи, но и их объекты, и обязательно доказывала их реальность, логически непозволительно, ибо это значило бы заранее, догматически, предрешать ход ее исследований: нет ничего невозможного в том, что реальность некоторых идей останется навсегда теоретически недоказуемой. Так именно и стоит дело в данном случае: существование чужого одушевления теоретически недоказуемо. А коль скоро это установлено, то задача критической философии ограничивается только тем, чтобы определить, чем именно можно придать наибольшую твердость убеждению в его существовании (и другими вопросами вроде сейчас перечисленных нами). Поэтому единственно, в чем можно требовать от нас отчета, это — почему мы думаем, что нравственное чувство придает больше твердости нашему убеждению в существовании чужого одушевления, чем при-
101
говоры самостоятельного (обособленного от нравственного) метафизического чувства?
Но не трудно оправдать наше мнение: история мышления, дает для этого достаточный материал. Известно, что человеческий ум приписывает объективное значение специфическим продуктам наших чувств (например, зрительным ощущениям) только на низших ступенях своего развития, именно — когда он еще находится на уровне так называемого наивного реализма. Но как только он начинает размышлять о достоверности своих воззрений, так тотчас же разрушает точку зрения наивного реализма, и сомневается в объективном значении специфических продуктов чувств, даже прямо не доверяет им. Поэтому, если бы у метафизического чувства был найден подобный специфический продукт, то его объективное значение тотчас же было бы подвергнуто сомнению. Далее, прирожденным неаприорным идеям человеческий ум доверяет несколько дольше, чем объективному значению ощущений, но все-таки в конце концов начинает сомневаться в их соответствии действительности и догадывается, что оно еще должно быть как-нибудь проверено. Что же касается до априорных идей, то мы начинаем, сомневаться в их трансцендентном значении тотчас же, как только усвоим понятие априорности. Таким образом по мере того, как разум переходит с низшего уровня развитие к высшему, в нем постепенно усиливается строгость к оценке теоретических доводов и возрастают сомнения относительно реальности всех продуктов, которые можно было бы поставить за счет обособленного метафизического чувства.
Но иначе относится он к приговорам нравственного чувства. Чем выше стоит человек в умственном отношении, тем тщательнее отличает он нравственную обязанность от всякой другой. Сначала приговоры нравственного чувства, как показывает история этики, беспрерывно смешиваются с правилами благоразумия, с различными исторически сложившимся взглядами, обычаями и т. п.; поэтому, оспаривая последние, разум часто, даже не замечая того, оспаривает и нравственность. Так поступали софисты. Но чем дальше, тем сильнее обособляется область чистой нравственности. Н замечательно, что в это время уже не возникаете никаких сомнений в ее обязательности. Напротив, обязательности нравственного долга доверяют тем сильнее, чем тщательнее отличают нравственное от всего того, что похоже на него, но еще не тожественно с ним.
102
Для доказательства достаточно сослаться на Канта, Фихте и др.; в чем только ни сомневались они, но не решались распространять своих сомнений на обязательность нравственного долга1).
Вот почему мы приписываем санкции нравственного чувства гораздо больше значения, чем каким бы то ни было приговорам обособленного метафизического чувства. В последних мне легко сомневаться, но я не могу отказаться от признания нравственного долга. А так как он подразумевает существование чужого одушевления, то я не могу сомневаться и в нем. Конечно, подобное признание существования чужого одушевления все-таки составляет веру, а не теоретически доказанный вывод. Но это вера не слепая, а проверенная, принятая не по рутине, а хорошо обоснованная, и при том это такая вера, которая ничем не может быть поколеблена: ведь теоретически признание чужого одушевления неопровержимо ровно на столько же, на сколько и его отрицание, так что единственным средством для опровержения этой веры служит опровержение обязательности нравственного долга. А кто сумеет это сделать?
Метафизического чувства, которое было бы обособлено от нравственного, у нас, наверное, нет; по крайней мере, нет никаких
________________________
1) Не служит ли опровержением этих слов Мандевиль с его этическим памфлетом: «Басня о пчелах»? Но, во-первых, еще трудно решить, в какой мере он действительно bona fide отрицал обязательность нравственного долга. Его основная мысль сводится к тому, что на самом деле человеческая деятельность руководится порочными желаниями и что добродетель была бы вредна для процветания цивилизации. Его цель состояла в полемике с учением Schaftes bury, которое «представляло ту опасность, что человек удовольствуется наслаждением сознания того, что он обладает благородными стремлениями, и нисколько не позаботится о том, чтобы осуществить их в полезной деятельности». (Подлинные слова Falckenberg’а см. Geschichte der neueren Philosophie, Leipzig, 1886, стр. 151). Что же касается до его теории, то «едва ли можно говорить об его собственной теории, ибо его многочисленные комментарии, экскурсы и диалоги, посредством которых он впоследствии расширил до размера нескольких томов свою Басню о пчелах, состоявшую первоначально всего лишь из нескольких сотен строчек, таковы, что их парадоксы слишком мало связаны друг с другом, чтобы иметь значение теории» (Слова Iodl’а, см. Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie, B. I, Stuttgart, 1882, стр. 186). Во-вторых, не надо упускать из виду способа рассуждений Мандевиля. Он таков: «то, что имеет значение о так называемых аскетических добродетелях, он тотчас же распространяет на все нравственное» (Iodl, ibid., 1871). «Это было замечено и выставлено против Мандевиля еще Адамом Смитом в Theory of moral sentiments, p. VII, sect. II, Chap. 4» (Iodl, ibid., стр. 406).
103
оснований допускать его. Но как бы то ни было, само же нравственное чувство и служит органом метафизического познания: оно внушает нам столь неоспоримые идеи, как убеждение в существовании чужого одушевления. Эта идея неоспорима как в том смысле, что она не может быть опровергнута никакими теоретическими аргументами, так и в том, что человек под влиянием нравственного чувства беспрерывно противится ее отрицанию всем своим существом, а потому никогда не откажется от нее. А чем отличается такое убеждение от многих так называемых научных воззрений? Строго говоря, ничем. Ведь очень часто в основе этих воззрении, как показывает критико-философский анализ, лежат метафизические предпосылки, которых нельзя опровергнуть опытом, но нельзя и доказать им. Например, все современное научное мировоззрение отличается механическим характером: оно насквозь пропитано атомистической теорией; даже те, кто не решается объявить ее неоспоримой (и напрасно: она действительно теоретически неоспорима!), постоянно толкуют об атомных процессах, о молекулярных изменениях (например, головного мозга, нервов и т. п.). Что же касается до атомизма, то он весь основан на предпосланном всем данным опыта убеждении, что сзади, как бы внутри, действительно наблюдаемых нами изменчивых тел скрывается вне всякого опыта их истинная неизменяемая сущность. Этой предпосылки нельзя опровергнуть, ибо ее всегда можно примирить с опытом (приспособить к нему при помощи добавочных гипотез), но за то и нельзя доказать им (ибо в опыте, если и не все течет, то все текуче, изменчиво). А уж одним этим обнаруживается метафизический характер основной атомистической предпосылки1). Бо-
______________________________
1) Подробнее об этом см. любой философский анализ атомизма, например, Stallo: La matière et la physique moderne, Страхова: Мир как целое и др. Автор этих строк в своей статье «К вопросу о строении материи» (Журн. Мин. Нар. Пр., 1890, №№ 6 и 7), разбирая химический атомизм, старался в нем выставить на вид следующие гносеологические особенности: основная метафизическая предпосылка химического атомизма приспособляется к данным опыта (для устранения противоречия, неизбежно возникающего между предположением неизменяемой сущности тел и их фактически данною в опыте химическою изменчивостью) посредством множества вспомогательных гипотез. Почти каждый класс явлений вызывает в атомизме новую вспомогательную гипотезу. Это приспособление можно вести без конца, так что атомизм никогда не попадет в противоречие с опытом и поэтому никогда не будет эмпирически опровергнут. Напротив, для тех, кто пропитан непоколебимою верой в основной
104
лее того, эта сущность, обусловливая пространственными взаимоотношениями своих частиц самое существование и деятельность наших органов чувств, а с ними и наших ощущений, eo ipso остается навсегда за пределами доступных для нас восприятий, как бы ни были изощрены наши чувства. Чтобы сделаться предметом возможного опыта, атомы нуждаются в таких восприятиях, которые совершались бы без деятельности органов чувств. А это служит неоспоримым признаком их трансцендентно-метафизического характера. Чем же, спрашивается, отличается атомистическая теория и обусловленные ею взгляды от воззрений на животный мир, построенных при помощи той точки зрения, которую мы назвали психологической (то есть, допускающей существование одушевлений помимо меня)? По отношению к теории познания ровно ничем, ибо: 1) в основе того и другого мировоззрения лежит метафизическая предпосылка; 2) оба одинаково не могут быть эмпирическим путем ни опровергнуты, ни доказаны; 3) оба очень полезны и удобны для расширения нашего познания. Можно отметить в них только одно отличие: атомизму никто не доверяет в такой мере, как идее одушевления других людей. Таким образом, хотя последняя идея в конце концов и входит в состав веры, а не знания, но такой веры, которая нисколько не отличается от того, что большинство считает научным воззрением.
Более того, эта идея пользуется и, очевидно, всегда будет пользоваться еще большим доверием, чем любое научное положение. Даже математические теоремы (чтобы не поднимать излишнего спора, не говорим — аксиомы, хотя, может быть, это будет верно и для них) не считаются нами столь достоверными, как одушевление наших ближних. А между тем единственным источником этой достоверности может служить только Нравственное чувство. Не ясно ли отсюда, что этот орган метафизического познания способен доставлять нам такие идеи, степень неоспоримости которых превосходит неоспоримость любого научного положения? А если так, то не в праве ли мы надеяться, что, подвергая тщательному исследованию то, что подразумевается в обязательности нравственного долга, то есть, то, что Кант назвал постулатами практического
________________________
атомистический догмат, подобное приспособление неизбежно будет казаться объяснением фактов, то есть, эмпирическим оправданием атомистической теории; поэтому их доверие к ней будет беспрерывно укрепляться.
105
разума, мы будем в состоянии прочно решать, хоть некоторые, метафизические вопросы, например, о бессмертии души, о существовании Бога? Ведь они с точки зрения теории познания однородны с вопросом о существовании чужого одушевления. Так возьмем вопрос о существовании Бога: 1) и там и здесь дело идет о существовании духовной деятельности; 2) и там и здесь эта деятельность обнаруживается в материальном мире, но чужда логически необходимой связи с его событиями, то есть, способ ее действия на него навсегда остается непонятным; 3) как нельзя одними теоретическими доводами ни опровергнуть, ни доказать существования чужого одушевления, так точно, как это показал Кант, подобными доводами нельзя ни опровергнуть, ни доказать существования Бога; 4) подобно тому, как мы словно чувствуем присутствие одушевления в окружающих нас людях, так точно если не все, то очень многие (хотя бы изредка) чувствуют присутствие Бога. Нужно немалое искусство, чтобы суметь описать, как именно это происходит, и не напомнить при этом ни ханжества, ни сентиментальности; да и, наверное, разные лица переживают это явление не при одинаковых условиях. Но несомненно, что чувство близости Божества многими переживается: иначе чем бы поддерживалось религиозное чувство теперь, когда мы не только освободились от наследственного трепета перед природой, но уже выучились повелевать ею, и когда вся наша жизнь сложилась так, что некогда и подумать о сверхчувственном мире, разве что в глубокой старости или во время опасной болезни?... Что же касается до вопроса о бессмертии души, то сразу видна его гносеологическая однородность с вопросом о чужом одушевлении: ведь первый есть часть второго, именно вопрос о последнем моменте существования одушевления.
Все это мы говорим затем, чтобы оправдать нашу надежду на возможность прочного решения метафизических задач посредством изучения постулатов нравственного чувства. Для той же цели отметим также, что некоторые вопросы метафизики находятся в теснейшей связи с вопросом о существовании чужого одушевления. Например, при оценке реальности внешних восприятий ссылаются на социальный аргумент: внешний мир считается существующим, между прочим, потому, что он воспринимается не только мной, но также и другими существами. Но этот аргумент может иметь надлежащую силу лишь в том случае, когда не только поставлено
106
вне сомнений убеждение в существовании других людей, но и узнано, что именно делает его несомненным. Далее, нравственное чувство, принуждая нас верить в существование чужого одушевления, этим самым заставляет верить также и в то, что мир построен сообразно с нравственными требованиями. В самом деле, если я должен допускать чужое одушевление, то, спрашивается, как я могу это исполнить? Одушевление производится мной же самим тем путем, что составные элементы моей душевной жизни я переношу на другие существа. Разумеется, прежде всего я могу их перенести только на существа, наиболее сходные, со мной самим — на людей. После же того, как они одушевлены мной, я уже теоретически вынужден на основании аналогии одушевлять и другие существа, более или менее сходные с людьми1). Неодушевленными останутся в моих глазах только такие тела, которые слишком непохожи на людей. Таким образом нравственное чувство заставит меня только начать одушевление других существ. Но с кого именно оно будет начато и как далеко оно будет распространено мной, это зависит также от внешнего устройства различных тел и от законов деятельности моего ума. В конце концов под влиянием этих факторов окажутся две группы существ: одни из них я буду считать одушевленными; другие же остаются в моих глазах неодушевленными. Конечно, и их я могу одушевить, но я ничем еще не вынужден к этому. А в связи с этим первые являются прямыми объектами нравственных обязанностей. а относительно других мы вполне свободны: сами по себе они нас ни к чему не обязывают. Теперь: если я верю требованиям нравственного чувства и если я поэтому верю, что те существа, которые я одушевляю под его влиянием, действительно одушевлены, а те, которых я ничем не вынужден одушевлять, действительно неодушевлены; то этим самым я верю и тому, что меня не обманывает внешнее строение тел, что оно, действуя на меня в связи с законами теоретической деятельности моего ума, не навязывает мне
________________________
1) Пока я отрицаю одушевление всюду, кроме самого себя, нет ни одного явления, которое я был бы обязан рассматривать, как объективный признак одушевления. Но как только я припишу одушевление другим людям, так тотчас же некоторые телесные явления окажутся стоящими в постоянной связи с душевными явлениями не только у меня, но и у всех людей. А потому, по правилам индукции, их надо будет рассматривать, как признаки одушевления, и придется допускать последнее всюду, где найдутся такие явления.
107
нравственных обязанностей там, где их нет, и не избавляет от них там, где я им подчинен. Таким образом, если я верю в одушевление других существ и делаю это именно под влиянием нравственного чувства, то я должен верить, что внешний строй вселенной приспособлен к тем же самым целям, к осуществлению которых приближает нас и нравственное чувство. Эти цели могут быть мне совершенно неизвестны; но я должен верить такому приспособлению целей природы к целям нравственности. Я к этому нравственно обязан, ибо эта вера подразумевается в вере в существование чужого одушевления; а последняя в свою очередь подразумевается в признании обязательности нравственного долга. Кто считает последнюю истиной, тот должен считать истиной и указанную нами телеологическую точку зрения на мир, и на наше место в нем1).
Как видим, многие метафизические вопросы или вполне однородны в гносеологическом отношении с вопросом о чужом одушевлении, или же тесно связаны с ним. А этот вопрос может быть решен не иначе, как только требованиями нравственного чувства. Как же не надеяться, что изучением его постулатов можно будет решить многие метафизические вопросы и построить таким путем неоспоримую систему метафизики? Теоретическими средствами нельзя сделать лишь первого неоспоримого шага за пределы опыта; но раз только проложен туда путь, то он тотчас же разветвится на множество тропинок, которые откроют нам новую широкую область.
Нас спросят, может быть: чем же будет отличаться эта метафизика от прежней до-Кантовской, да и от той, которую пытался построить сам Кант посредством анализа постулатов практического разума, то есть, тем самым методом, на который мы возлагаем такие надежды? Почему до сих пор все метафизические системы были неубедительны, а мы надеемся, что хотя и не сразу, но постепенно возникнет прочная, неоспоримая система? Что касается догматической, то есть, до-Кантовской метафизики, то она слишком резко отличается от рекомендуемой нами. До Канта, не смотря на все разнообразие направлений (рационализма и эмпиризма, спиритуализма и материализма и т. д.), разнообразие, столь сильное, что тогда уже исчерпали все возможные виды метафизики, всегда пытались строить ее
________________________
1) Кстати, легко ли ее мыслить, не допуская существования Бога?
108
одним и тем же путем — чисто-теоретически. Мысль о невозможности того метода, можно сказать, даже и не приходила в голову авторам метафизических систем: они допускали на веру, как догмат, теоретическую разрешимость вопросов метафизики. Но этим не ограничивалось. Так как в действительности-то эти вопросы теоретически неразрешимы, то естественно, что то или другое из подобных (чисто теоретических) решений не могло быть сделано обязательным для всех. Если же каждая система являлась обязательной в глазах своих последователей, то это могло зависеть (и на самом деле зависело) только от того, что они исходили при ее построении из некоторых положений, которые казались им самим вполне очевидными, сами собой разумеющимися, в действительности же были и неопровержимы и недоказуемы, так что их можно было принять только на веру, как бы некоторый догмат. А в зависимости от них и вся метафизическая система приобретала чисто догматический характер1). К единственно возможному же способу ее проверки — посредством постулатов нравственного чувства, тогда или
____________________________
1) Так, для рационалистов казалось вполне очевидной невозможность непосредственного взаимодействия души и материи, й это только потому, что его механизм непонятен для человеческого ума. Отсюда системы окказионализма, престабилизма и т. д. Материалисты же, видя, как это непонятное взаимодействие духовной сущности с материальной возникает снова во всех системах при объяснении психофизиологических явлений (например, в окказионализме и в престабилизме оно возникает в виде действия духовного Бога на материю), естественно должны были прийти к попытке отбросить всякую духовную сущность, оставив одну материальную. При атом, конечно, надо было руководствоваться неопровержимым и недоказуемым положением, будто бы материя способна порождать всякие явления, в том числе и душевные. Принять его было не трудно, ибо основной принцип этого положения был в духе времени. Ведь рационализм отрицая существование того, что непонятно, то есть, логически невыводимо, этим самым обнаруживал смешение логической возможности с реальной; а про материю нельзя сказать, что она не порождает душевных явлений, так что это порождение остается еще логически возможным. Таким образом логическая возможность была принята за действительную способность. Противники же материализма, замечая, что порождение душевных явлений материей тоже непонятно, основываясь на этом, пытались опровергнуть материализм (считая недействительным все то, что непонятно). И вот поднялся теоретически неразрешимый спор между материализмом и его противниками, где каждый принимал ту или другую сторону в зависимости от того, что ему казалось более правильным и очевидным: считать ли непонятное недействительным (спиритуализм), или же логическую мыслимость действительной способностью (материализм).
109
совсем не прибегали (например, Декарт, Спиноза), или же (в спорах с материализмом) не могли придать ему надлежащего значения, так как домогались чисто-теоретического решения вопросов метафизики. Ссылки на требования нравственного чувства делались как бы бессознательно, без понимания того, что оно только и может быть единственным судьей в этих вопросах. В ином положении будет находиться критическая метафизика. Сознавая теоретическую неразрешимость метафизических вопросов и зная пределы нашего познания, она будет застрахована от догматизма. Во всех тех случаях, когда ей придется делать выбор из двух одинаково недоказуемых и одинаково неопровержимых ответов, она сделает его в зависимости от приговора нравственного чувства, а не в зависимости от того, что в данный момент и данному лицу кажется более очевидным. У нее всегда будет средство для проверки своих основоположений; а поэтому она будет отличаться неоспоримостью. Учение критической метафизики может быть выражено в такой схеме: вот такие-то и такие-то вопросы теоретически неразрешимы, так что на них можно с одинаковым правом отвечать и «да», и «нетъ»; но нельзя было бы считать обязательности нравственного долга истиной и пришлось бы рассматривать ее, как бессмыслицу, если не признать таких-то и таких-то ответов (например, одушевления других людей); следовательно, кто эту обязательность признает истиной, должен признавать истиной также такие-то и такие-то метафизические положения. Так как их теоретическая недоказуемость уже заранее выяснена, то и никакие споры против них невозможны, если сделана достаточно ясной их связь с требованиями нравственного чувства.
Что же касается до Канта, то, конечно, ему-то и принадлежит идея критической метафизики. Но странное дело: в то время, как в других науках считается необходимым довольно продолжительное время для постепенного развития той или другой правильной идеи, от философии требуют, чтобы в ней все делалось как бы по волшебству, сразу, и начинают подозревать правильность идеи, если она еще не осуществлена на деле. А между тем что же удивительного, если Кант указал единственно возможный путь для неоспоримой метафизики, но ему самому не удалось построить ее? Для этого были веские причины. Сам Кант по указанному им методу не нашел еще ни одного метафизического положения, неоспоримость которого была бы вне сомнений и которое служило бы наглядным примером, сколь достоверны
110
могут быть положения критической метафизики. Теперь же найдена такая истина: это — одушевление других людей. Далее, Кант еще не имел в руках полного перечня теоретически неразрешимых вопросов. А чем полнее будет он, тем успешнее будет применение рекомендованного им метода, ибо последний состоит именно в решении путем нравственных требований теоретически неразрешимых вопросов. Не ясно ли изо всего этого, что неудача Канта ничего не говорит против его метода. Более того, вполне возможно, что от его применения и впредь придется долго ждать успеха. Ведь наш ум переполнен различными недоказуемыми догматами, а каждый из них с логической необходимостью приводит к строго определенным метафизическим воззрениям, не всегда совпадающим с критической метафизикой. Мы же, считая эти догматы данными опыта или a priori необходимыми истинами, относимся с таким же доверием и к вытекающей из них метафизике. Поэтому мы тотчас же отвергаем все, что противоречит ей, и требуем, чтобы все философские воззрения непременно согласовались с ней. В противном случае они будут казаться нам беспочвенными; ибо мы считаем свои привычные взгляды непреложною истиной и основными принципами всякой здравой философии. В действительности же они составляют обусловленную нашими догматами и развивающуюся под влиянием опыта метафизику; и нам совсем не приходит в голову, что мы таким образом зачастую требуем согласования разнородных и даже диаметрально-противоположных метафизических систем. Разъясним все это на примере.
Мы уже упоминали, что догмат, допускающий сзади изменчивых тел их неизменяемую материальную сущность, под влиянием данных опыта приводит нас к атомизму1). Оттого, исповедуя этот догмат, мы, волей-неволей, влечемся к атомистическому мировоззрению со всеми его выводами. А так как мы не знаем о недоказуемости этого догмата; даже не даем себе в нем отчета (то есть, не обращаем внимания на него отдельно от вытекающих из него выводов), не знаем и того, что он-то именно (а не сам опыт, взятый в чистом виде) приводит нас к атомизму, и в то же время приходим к последнему не иначе, как под влиянием опыта; то нам неизбежно кажется, будто бы реальность атомизма
_______________________
1) Как к единственно возможному средству приспособить этот догмат в данным опыта, то есть, сделать их мыслимыми наряду с этим догматом.
111
засвидетельствована самими фактами опыта1). Поэтому, как бы ни противились атомистическому мировоззрению нравственное чувство и его постулаты, мы тем не менее будем допускать его и ограничимся лишь искусственным примирением первого с последними. Чтобы отделаться от такой некритической метафизики, нам надо сперва вскрыть основной догмат и весь генезис атомизма и убедиться в недоказуемости его основной предпосылки. Тогда мы уже будем в состоянии решать метафизические вопросы независимо от ее влияний под руководством одного лишь нравственного чувства. Но наш ум переполнен множеством подобных (неопровержимых, но и недоказуемых) догматов; и в то время, как одно лице разделается с одними из них, другое отвергнет не те же самые догматы, а другие. Поэтому та метафизика, которая невольно, без научного исследования, а сама собой, создается под влиянием нравственного чувства, у разных лиц приспособляется к различным догматическим примесям. Отсюда разнообразие метафизических направлений, каждое из которых не сознает ни своего догматизма, ни даже своей- принадлежности к метафизике. Напротив, каждое не только претендует быть эмпирически оправданной теорией (ибо каждое возникает чрез приспособление разных догматов к опыту, то есть, под влиянием опыта, а это приспособление кажется их авторам эмпирическим доказательством их взглядов), но еще считает себя даже критически обоснованным (ибо каждое возникает после того, как мы разделались с некоторыми догматами). Понятно, что при таких
__________________________
1) Как известно, даже и древний атомизм возник не иначе, как под влиянием опыта, хотя эмпирические науки были в то время только еще в зародыше. Левкипп и Демокрит стремились приспособить элейское учение о неизменяемости и единстве истинного бытия к данной в опыте изменчивости и множественности вещей; отсюда неизменяемость и качественное единство вещества атомов и их подвижность. Значит, и здесь атомизм развился из метафизической предпосылки и под влиянием опыта. И любопытно, что те способы рассуждения, посредством которых раскрывается, как именно надо приспособлять основную метафизическую предпосылку к данным опыта (то есть, как мыслить последние наряду с признанием реальности первой), например, рассуждение о необходимости пустоты для движения и т. п., древние атомисты, как и новые, невольно принимали за единственно возможное объяснение фактов, а поэтому и за эмпирическое доказательство атомизма. Таким образом, и те, и другие атомисты делали одну и ту же ошибку: смешивали относительное с абсолютным — то, что является единственно возможным с точки зрения привычной для их ума метафизической предпосылки, они считают единственно возможным при какой бы то ни было точке зрения.
112
условиях нечего и ждать в близком будущем построения общепризнанной метафизики.
Ея успех находится в прямой зависимости от успеха критического анализа нашего познания, вернее — всех тех воззрений, которым люди склоняются приписывать значение познания. В состав метода критической метафизики входит не только анализ постулатов нравственного чувства, но прежде всего критическая теория познания, результаты которой должны составить фундамент всего философского мировоззрения. А разве легко выследить и критически оценить все исповедуемые нами догматы? Вследствие их привычности, мы обыкновенно не обращаем на них ровно никакого внимания; даже, всегда руководясь ими, мы никогда не высказываем, а просто подразумеваем, их. А при таких условиях не легко подметить их и оценить их значение. Ведь в сходном положении находились логические законы мышления. Человеческий ум всегда руководствовался ими; но нужен был гений Аристотеля, чтобы формулировать их и выяснить их значение. Господствующие же в нашем обыденном мировоззрении догматы гораздо разнообразнее, чем логические законы мышления, да сверх того очень часто признаются нами за хорошо проверенные эмпирические обобщения, так что критической метафизике предстоит задача гораздо труднее той. которую решал Аристотель в своих логических исследованиях.
К этим затруднениям прибавим влияние привычки. Еще недостаточно подметить недоказуемость какого-нибудь догмата, чтобы навсегда освободиться от его влияния. Коль скоро наша мысль свыклась с ним, то есть, он неразрывно ассоциировался со всеми нашими идеями, то, хотя бы мы даже отрицали его, он все-таки может оказывать своеобразное влияние на наше мировоззрение тем, что мы будем примешивать к последнему выводы, которые вытекают из этого догмата (и признание которых теперь уже необязательно); ибо они тоже успели неразрывно ассоциироваться со всеми нашими идеями, и подобно обосновывающему их догмату рассматривались всегда, как эмпирически доказанные. А уж не будем много говорить о бессознательном влиянии рационализма, вследствие которого часто питают неограниченное доверие к нашей познавательной способности и не терпят мысли о существовании чего-либо абсолютно непознаваемого (или неразрешимого для нашего ума). Некоторые, забывая об историческом и психологическом законе, гласящем, что чем грубее человеческий ум, чем ниже стоит он в науч-
113
ном развитии, тем догматичнее относится он к своим воззрениям и тем больше доверяет самому себе, а чем выше — тем меньше верит своим силам и тем критичнее относится к своим взглядам, — прямо утверждают, что все непознаваемое есть всего только еще непознанное1). Такие догматики вполне искренно будут принимать какое-либо кажущееся решение того или другого теоретически неразрешимого вопроса и употреблять все извороты ума для того, чтобы успокоить его сомнения, как это делали схоласты, исходя из своих предвзятых мнений относительно согласия Аристотеля с католицизмом.
Но всему этому нельзя надеяться на быстрый успех критической метафизики. Но это еще ничего не говорит против пригодности Кантовского метода. Нельзя же требовать, чтобы все методы были одинаково легки и одинаково быстро приводили нас к цели. Оценивать Кантовский метод надо вот каким путем: другие (догматические) методы метафизики до сей поры не дали ровно ничего общепризнанного, а критико-философский анализ убеждает нас в том, что они и неспособны к этому. Кантовский же метод, хотя тоже еще не привел и не скоро, да и с большим трудом, приведет нас к общепризнанной метафизике, тем не менее оказывается единственно пригодным для этой цели. Поэтому его надо предпочитать всем другим; и можно надеяться, что рано или поздно при его помощи мы выработаем прочную систему метафизики, лишь бы не исчезала память об этом методе.
А вряд ли можно опасаться этого. По крайней мере, до сих пор мысль Канта не только не заглохла, но распространяется все более и более. В Германии еще с шестидесятых годов начался „возврат к Канту “, и с того времени там образовалась значительная группа писателей ново-кантианцев. Но этим дело не ограничилось, и возникшее движение распространилось далеко за пределы Германии. Пусть свидетельствует о том Фулье, который далеко не сочувствует этому методу: „Ученики Канта в Германии, в Англии и во Франции, — говорит он, — возвели метод своего учителя в систематический метод моральной и религиозной апологии. Этот метод состоит в
______________________________
1) Кто допускает Кантовский закон трех стадий развития человеческого ума (или какой-нибудь подобный ему), тот может рассматривать указанный закон, как вывод из Кантовского; для отдельных же индивидуумов он подтверждается ежедневными наблюдениями.
114
том, что постулируют непрерывный ряд актов веры, так что вас незаметно переводят от веры естественной к вере моральной, а от моральной веры к вере религиозной. Окончательный результат есть решение в пользу (pari en faveur) той или другой системы — или метафизической или религиозной. С того момента, говорят поборники этого метода, как только вы выходите за пределы простого признания наличного состояния сознания, каковы: ваше теперешнее удовольствие, неудовольствие, ваше ощущение запаха, вкуса, света, вы вынуждены допускать акты веры, практические постулаты, которые неизбежно находятся даже и в теории... 1) Веря в мое существование, вы допускаете подобный постулат. И под этим метафизическим постулатом, который содержится в речи, одновременно и столь простой и столь странной, направленной к другим людям: «вы существуете», Фихте откроет этический постулат. Если я верю в ваше существование, — скажет он, — то это потому, что я имею обязанности относительно вас и что я нравственно обязан считать вас существующим. Более того, не обязанность ли заставляет меня верить в реальность внешнего мира? На этот вопрос, который я часто ставил себе: мир, представление которого я нахожу в себе, имеет ли реальное существование? — я не могу найдти никакого другого более недоступного для всяких возражений ответа, кроме следующего: я нахожу в себе сознание известных обязанностей, для которых нельзя было бы найдти объекта и которые нельзя исполнять иначе как в мире, тожественном с тем, какой я представляю себе. Следовательно, этот мир существует. Этот мир есть для меня объект обязанности, та сфера, в которой исполняется обязанность 2).
Это изложение мыслей Фихте, сделанное Фулье, дополним еще немного подлинными словами Фихте: „мы вынуждены, — говорит он, — признавать, что мы вообще действуем и что действовать мы должны некоторым определенным образом. Мы вынуждены призвать известную сферу этой деятельности: эта сфера есть действительно существующий мир, как мы его находим; и наоборот — этот мир есть не что иное, как та сфера, и никоим образом не простирается дальше ее. Из этой-то потребности деятельности и происходит созна-
___________________________
1) L’avenir de la métaphysique fondée sur l’experience, Paris, 1889, стр. 225. Тут-то Фулье говорит и об английских метафизиках: Клифорде, Баррате и Льюиссе. Мы уже приводили это место.
2) Ibid., стр. 226.
115
ние действительного мира, а не наоборот — не из сознания мира потребность деятельности. Первее эта потребность, а не то сознание; оно выводное. Мы действуем не потому, что мы мы познаем, но мы потому и познаем, что назначены к деятельности. Практический разум есть источник всякого разума. Для разумных существ законы деятельности известны непосредственно; а потому, что они известны, известен им и их мир. Мы не можем отказаться от первых без того, чтобы не погрузились в абсолютное ничто и наш мир, а с ним и мы сами. Мы возвышаемся над этим ничто и поддерживаем себя над ним только посредством нашей нравственности “ 1).
„Не заходя так далеко, как Фихте, — продолжает Фулье, — Ренувье все-таки допускает, что достоверность порождается свободным выбором при помощи обязанности, как критерия, и что постулаты встречаются даже и в том, что мы считаем вполне несомненным... По своей классификации философских систем Ренувье представляет их, как логически сводимые к двум, между которыми нам предстоит свободный выбор. Одна из этих систем сводит все к законам вечно существующей, безграничной природы, развивающейся в бесконечной и безначальной эволюции в силу. универсального детерминизма, от которого не изъяты даже и наши мысли, и наши хотения. Другая же система берет своим исходным пунктом сознание и конструирует вселенную в согласии с его формами и с его законами, как ограниченное целое конечных существ, имевших свое начало и способных посредством актов свободного выбора полагать начало новых явлений в согласии или противоречии с законом обязанности... А чтобы установить главенство моральной веры Жюль Лекье, Ренувье, Секретан, а также Вилльям Джемс стараются показать, во-первых, что вера и постулаты отчасти существуют уже в принципах знания, а, во-вторых, что вера произвольна“ 2).
Конечно, делаются и возражения против Кантовского метода. Сам Фуллье, не сочувствуя ему, не мог не сделать их 3). Но ка-
__________________________
1) Die Bestimmung des Menschen, Berlin, 1845, В. II, стр. 263.
2) Fouillée, 1. с. рр. 227—235.
3) Он даже и описывает Кантовский метод не вполне спокойным тоном: читая его без пропусков, чувствуешь, что ему хочется прибегнуть к помощи насмешек.
116
ковы, они? Он полагает, что „мы не начинаем познания только с самих себя, с того, чтобы говорить только Я: мы чувствуем, хотим, действуем в некоторой среде, которая нам или содействует, или препятствует; мы знаем себя не иначе, как только в отношениях к другим существам; началом для нашего мышления служит не Я, а Мы“. Между тем, „метафизики, которые следуют за Фихте, рассуждают так, как будто бы живое существо начинает с того, что имеет идею индивидуального и замкнутого Я, идею духовной монады без всякого отверстия во вне. Отсюда им не трудно заключить, что субъект без помощи чуда не может дойти до идеи объекта. Но такой изолированный субъект есть метафизический призрак “ 1). В пояснение ко всему этому прибавляется еще такое замечание: „мнимые постулаты суть не что иное, как только данные опыта, не проанализованные и не разъясненные, или же обобщения, основанные на этих данных: Следовательно, практический разум не имеет преимущества (примата) ни пред знанием, ни пред метафизикой “ 2). И даже идея чужого одушевления объясняется Фуллье, как подобное же обобщение3).
Таковы его возражения. Можно ли придавать им какое-нибудь значение? Все постулаты, — говорит он, — суть результаты непроанализованного и неразъясненного опыта. Пусть будет так. Но следует ли отсюда, чтобы они не нуждались в оправдании со стороны нравственного чувства? Ведь именно оттого-то, что они вытекают из опыта, не подвергнутого ни анализу, ни разъяснению, они и не могут отличаться убедительностью; поэтому-то именно в их реальности очень легко усомниться, и они нуждаются в особом оправдании. А когда мы их проанализуем, то уже окончательно убеждаемся, что эмпирическим путем их нельзя ни доказать, ни опровергнуть, так что для теоретического разума здесь невозможно никакое окончательное решение. И вот мы ссылаемся на то, что эти теоретически неразрешимые вопросы легко решаются нашими нравственными требованиями, так что поскольку неоспоримы последние, по стольку же неоспоримо и одно из мыслимых решений каждого из этих вопросов. Этот ход рассуждения сохраняет свою обязательность независимо от того, каков бы ни был психологический генезис
_________________________________
1) L. с., р. 237.
2) L. с., р. 239.
3) L. с., р. 238.
117
постулатов нравственного чувства. Но Фуллье, оспаривая учеников Канта и отрицая у них право ссылаться в метафизике на постулаты нравственного чувства, смешивает между собой вопрос об их психологическом генезисе с вопросом об их гносеологическом значении. Тот же ответ можно повторить и по поводу самых первых слов его возражения: оставим в стороне, что служит психологическим началом нашего мышления — Я или Мы; но нельзя оспаривать, что после того, как я начинаю во всем сомневаться, несомненными для меня остаются только состояния моего сознания. И вот тогда-то, — прибавляют оспариваемые Фуллье защитники Кантовского метода, — всякае попытка сделать теоретическим путем переход от Я к не-Я неизбежно окажется бесплодной, легко оспариваемой; неоспоримым же может быть только тот переход, который, прямо или косвенно, будет основан на постулатах нравственного чувства.
Одинаково мы будем отвечать и в том случае, если кто-либо станет настаивать, что и само нравственное чувство и неискоренимость убеждения в одушевлении других людей возникает в нас только путем наследственных привычек мысли. Допустить такую гипотезу еще возможно: стоит только (для объяснения разницы между тем душевным состоянием, которое возникает при попытках уничтожить в себе убеждение в одушевлении других людей, и тем, которое возникает при уничтожении неразрывных и даже наследственных ассоциаций) допустить, что, когда укоренятся в нас эти привычки, то вместе с тем в нас начинают действовать такие законы, которые не действовали до той поры (они-то в некоторых случаях, куда относится и наш собственный, и порождают отмеченную нами. разницу между тем и другим душевным состоянием). Что же касается до нравственного чувства, то его уже давно пытаются объяснить посредством наследственных ассоциаций. Для защиты же Кантовского метода мы можем оставить в стороне, на сколько справедлива та и другая гипотеза, а отвечать на это возражение также, как мы отвечали Фуллье. Каково бы ни было происхождение идеи чужого одушевления, эмпирически она не может быть оправдана. А каково бы ни было происхождение нравственного чувства, мы не решаемся оспаривать его приговоров (хотя и не всегда исполняем их). Поэтому, в виду невозможности чисто-теоретической метафизики, не остается никакого другого средства для проверки идеи чужого одушевления, а вместе с тем и для решения других ме-
118
тафизических вопросов, кроме изучения нравственного чувства и его постулатов.
В заключение напомним еще раз читателю, что в течение слишком двух тысячелетий возникало немало попыток и методов для решения метафизических вопросов. Но все они исторически, на деле, обнаружили свою несостоятельность: Этого мало: Кантовский критицизм выяснил, что они и не могут дать ничего прочного, неоспоримого. Кантовский же метод, правда, тоже еще не дал ничего подобного; но относительно его очевидно, что, с одной стороны, нельзя ждать от него быстрых успехов, а с другой — только он один и может дать, рано или поздно, что-нибудь прочное: хотя построенная при его помощи метафизика и будет теоретически недоказуема, но зато неоспорима и чужда догматизма. Ясно поэтому, что в метафизике надо держаться Кантовского метода. А для этого, кроме тщательного изучения явлений нравственной жизни, необходимо выследить все теоретически-неразрешимые вопросы, и надо это сделать с схоластической точностью, так, чтобы ясно обнаруживалось: 1) в каких именно вопросах можно рассуждать с двух противоположных точек зрения; 2) в чем состоит каждая из них; и 3) к каким взглядам приводит та и другая. Вот в этой-то необходимости и находится оправдание наших утомительно-длинных соображений об отсутствии объективных признаков одушевления.
119
Страница сгенерирована за 0.14 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
