13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шавельский Г. И., протопресвитер
Шавельский Г. И., протопр. В школе и на службе
© Conference Sainte Trinité du Patriarcate de Moscou ASBL, 2015
Правообладателем дано разрешение размещения данной работы только на сайте http://www.odinblago.ru/.
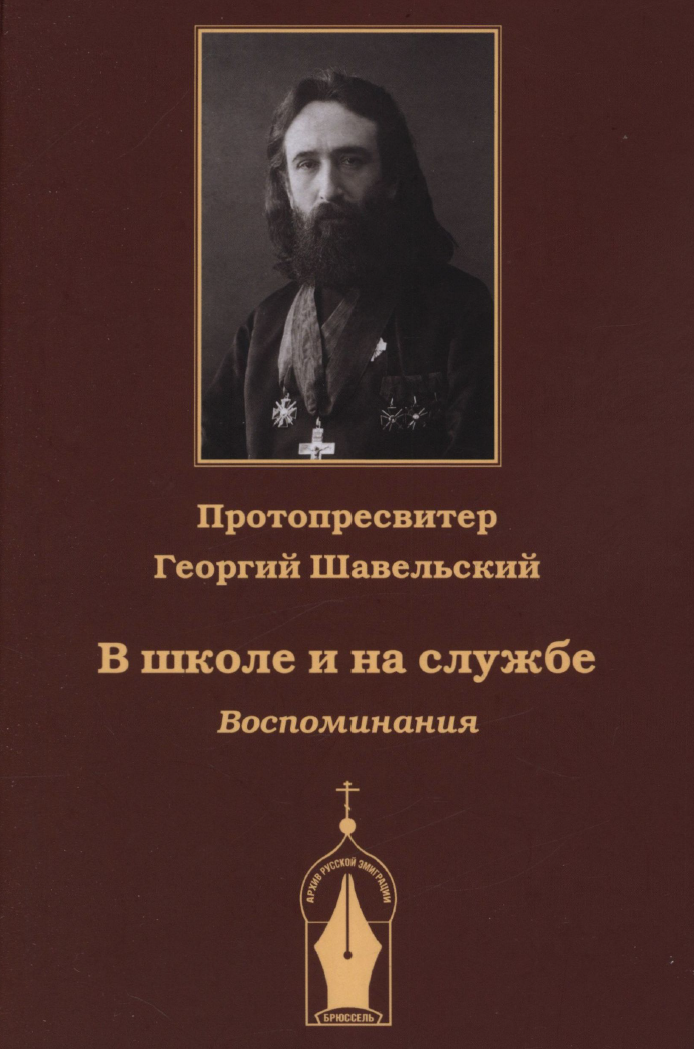
Протопресвитер Георгий Шавельский
В школе и на службе
Воспоминания
Москва — Брюссель
2016
Содержание
Протопресвитер Георгий Шавельский и его мемуары «В школе и на службе» 3
В школе и на службе
IV. На службе в должности псаломщика 61
V. На службе в сане священника 88
VI. Опять в школе. В Санкт-Петербургской духовной академии 109
На первом курсе (1898-1899 гг.) 109
На втором курсе (1899-1900 гг.) 130
На третьем курсе (1900-1901 гг.) 136
На четвертом курсе (1901-1902 гг.) 139
VII. Опять на службе. В Суворовской церкви при Николаевской академии Генерального штаба 146
IX. В должности главного священника 1-й Маньчжурской армии 183
XI. В должности протопресвитера военного и морского духовенства в мирное время 243
XII. Мои служебные поездки, встречи, впечатления 274
XIII. Наиболее примечательное из пережитого в 1912 году 292
XVI. Объявление войны. Отъезд в действующую армию. Ставка Верховного главнокомандующего 349
XVIII. Опыт воссоединения галицийских униатов с Русской Православной Церковью 383
XIX. Жизнь в Ставке Верховного главнокомандующего. Поездки по фронту 394
XXI. Впечатления от царских приездов в Ставку Верховного главнокомандующего 412
XXII. Победители и побежденные. Наши победы и поражения 421
XXIII. Борьба между царицей и Верховным из-за влияния на государя 429
XXV. Мое назначение присутствующим в Святейшем Синоде. Наблюдения и впечатления 445
XXVII. Прибытие государя в Ставку. Моя поездка в Псков и Петроград. Отречение государя 466
XXIX. Московский Поместный Собор 1917-1918 годов. Избрание Патриарха Всероссийского 484
XXX. Пребывание в Киеве. Поездка в Крым к великому князю Николаю Николаевичу 494
XXXI. В Добровольческой армии 502
XXXII. Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее церковное управление 506
XXXIII. Недуги Добровольческой армии 521
XXXIV. Деятельность Временного высшего церковного управления на юго-востоке России 531
XXXV. Закат Добровольческой армии 547
XXXVI. Самокритика. Новый главнокомандующий. Мой отъезд из Добровольческой армии 556
XXXVII. Жизнь в Болгарии. Моя литературная и преподавательская работа. Встречи и впечатления 565
XXXVIII. Мое участие в церковно-приходской деятельности 581
XXXIX. Моя служба в болгарском клире при церкви Святой Седмочисленницы в Софии 592
ХL. Русское беженство и Великая война. Русский корпус. Мое отношение к его вербовке 599
XLI. Митрополит, а потом и экзарх Стефан I. Мои отношения с ним 608
XLII. Вступление советских войск в Болгарию. Приезд архиепископа Григория и Патриарха Алексия 617
XLV. Мои мечты: архипастыри и пастыри, их личные и служебные отношения 643
Заключение. Слава Богу за все! 659
Комментарии 683
Приложение
Воспоминания дочери протопресвитера Георгия Шавельского Марии Георгиевны 693
Сокращения 813
Протопресвитер Георгий Шавельский и его мемуары «В школе и на службе»
Протопресвитера Георгия Ивановича Шавельского (1871-1951) по праву можно считать одним из наиболее значительных и влиятельных церковных деятелей дореволюционной России и русского зарубежья. Будущий протопресвитер родился в селе Дубокрай Витебской губернии (ныне Невельского района Псковской области) в семье небогатого псаломщика местной церкви. Стремление к образованию и высокая одаренность позволили будущему протопресвитеру по первому разряду окончить Витебское духовное училище и семинарию. В 1895 г. Г.И. Шавельский принял сан священника и планировал посвятить свою жизнь приходскому служению.
Однако жизнь сложилась иначе. В 1897 г. умерла супруга отца Георгия. Оставив двухлетнюю дочь Марию на попечение родственников, пастырь уехал в Санкт-Петербург и поступил в духовную академию, которую блестяще окончил. В течение нескольких лет отец Георгий был настоятелем Суворовской церкви в Санкт-Петербурге и профессором богословия в Академии Генерального штаба.
В первые дни Русско-японской войны священник Георгий Шавельский пожелал идти на фронт и вскоре получил назначение в действующую армию. Закончил войну отец Георгий протоиереем и главным священником 1-й Маньчжурской армии. В годы войны будущий глава Военно-духовного ведомства неоднократно оказывался на волосок от смерти, перенес контузию и тиф. Совершая служение в действующей армии. протопресвитер отмечал недостатки, в изобилии имевшиеся в Военно-духовном ведомстве, чтобы затем отразить их в своем труде «Служение священника на войне» (Военный сборник, 1912, №11-12). Это сочинение до сих пор читается с большим интересом. Мало кому известно, что протопресвитер в этот период писал стихи, публиковавшиеся в московских газетах.
По окончании войны отец Георгий Шавельский продолжил служение в Суворовской церкви, преподавал в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга. В 1911 г. отец Георгий был назначен протопресвитером военного и морского духовенства. С первых дней своего служения в новой должности он взялся за устранение недостатков, накопившихся в ведомстве.
В 1914 г. по инициативе протопресвитера состоялся первый в истории России Съезд военного и морского духовенства. После начала Первой мировой войны протопресвитер находился в Ставке Верховного главнокомандующего в Барановичах, руководя пятитысячной армией военных священников. Однако Г.И. Шавельский не ограничился канцелярской работой. Извест-
3
ный публицист М. Лемке записал в своем дневнике: «Шавельский довольно часто бывает на фронте, говорит там солдатам проповеди и речи, довольно храбро ходит в полосе огня» (Лемке М. 250 дней в царской ставке. — Петроград: Государственное издательство, 1920. С. 447).
В 1915-1917 гг. Г.И. Шавельский состоял членом Святейшего Синода, затем принимая участие в работе Московского Собора 1917-1918 гг. В 1918 г. протопресвитер. едва избежав смерти. к которой приговорили его витебские большевики, пробрался к генералу А.И. Деникину, возглавил духовенство Добровольческой армии, стал одним из инициаторов созыва Ставропольского Собора 1919 г. и создания Высшего церковного управления на юго-востоке России. По переезде в Константинополь оно стало основой для Высшего церковного управления за границей.
Находясь в изгнании, протопресвитер стал профессором богословского факультета Софийского университета, активно участвовал в церковной жизни русского зарубежья. Однако недоброжелательное отношение к отцу Георгию со стороны русских архиереев-эмигрантов и выпады против него со стороны Карловацкого Собора 1921 г. стали причиной того, что бывший глава Военно-духовного ведомства оказался в стороне от политики русской Зарубежной Церкви.
Тем не менее протопресвитер. стоявший за единство русской церковной эмиграции, тяжело переживая по поводу разногласий внутри нее. В 1926 г. он обратился к митрополитам Антонию (Храповицкому), Евлогию (Георгиевскому) и Платону (Рождественскому) с просьбой сохранить мир и единство. Видя бесплодность своих попыток, Г.И. Шавельский перешел под юрисдикцию Болгарской Православной Церкви и служил в храме Святой Седмочисленницы до самой смерти.
Отец Георгий оставил после себя книгу «Православное пастырство» и целый ряд статей. Широкую известность получили также «Воспоминания» отца Георгия, изданные в 1954 г. издательством имени А.П. Чехова в Нью-Йорке и переизданные в Москве издательством Крутицкого подворья в 1994 г.
Велико и неопубликованное наследие протопресвитера Георгия Шавельского, рассеянное по разным архивам. Многое из написанного им находится в фонде №1486 Государственного архива Российской Федерации. Часть материалов хранится в Архиве российской и восточно-европейской истории Колумбийского университета (США), например рукопись книги «Русская Церковь пред революцией», которая увидела свет в издательство «Артос-медиа» в 2001 г.
До последних дней протопресвитер не выпускал из рук перо, стремясь поделиться своим богатым опытом, а также предосте-
4
речь будущие поколения от ошибок дореволюционной России, Белого движения и русской эмиграции. Где бы ни находился пастырь. обо всем он выносил собственное суждение, предлагая меры, чтобы исправить встречавшиеся недостатки.
Во многом эту задачу выполнила книга Г.И. Шавельского «Православное пастырство». К сожалению, пастырское богословие достаточно долго находилось на периферии богословской науки. Протопресвитер свидетельствовал, что почти во всех семинариях этот курс преподавался слабыми учителями, «неудачниками». Во многом благодаря таким пастырям, как митрополит Антоний (Храповицкий), архимандрит Киприан (Керн) и протопресвитер Георгий Шавельский, наука пастырского богословия заняла достойное место в ряду богословских дисциплин. Помимо рекомендаций пастырского характера, предложенных священнослужителям, в своей книге протопресвитер обратил внимание и на многое из того, что привело Россию к революции и воинствующему безбожию.
Вопрос о том, что стало причиной трагедии. протопресвитер ставил и в другой своей работе — в книге «Русская Церковь пред революцией», а также в «Воспоминаниях» (Нью-Йорк, 1954). Эти воспоминания относятся к периоду с 1911 г., когда отец Георгий возглавил Военно-духовное ведомство, до 1920 г., когда он был отстранен от должности протопресвитера Добровольческой армии и выехал за границу.
Однако помимо этих воспоминаний он оставил и более полные мемуары, охватывающие период с начала 1870-х гг. до 1949 г. Период с 1911 по 1920 г. также отражен в этих воспоминаниях в сжатом виде. Протопресвитер Г.И. Шавельский назвал их «В школе и на службе». имея в виду постоянное чередование в его жизни учебы и пастырского служения.
Мемуары состоят из частей, написанных в разные годы. Из текста видно, что в основном они были написаны к 1948 г. Исключением является фрагмент 30-й главы, а также главы 31-35, написанные в 1943 г. Эти главы составили одну 12-ю главу «Воспоминаний», изданных в Нью-Йорке.
Однако протопресвитер Г.И. Шавельский продолжая писать свои мемуары и после 1948 г., дополняя их описанием церковных событий в Болгарии. Последние две главы мемуаров «В школе и на службе» и заключение были написаны в конце 1949 г. Скорее всего, автор продолжая работать над своим трудом, однако закончить его не успел. Во всяком случае, текст заключения остался незавершенным. Однако представляется очевидным, что протопресвитер высказал все что хотел. На это указывают повторы, встречающиеся в последних главах мемуаров, а также отступления. направленные на то, чтобы лишний раз подчеркнуть свою роль в церковной истории.
5
Воспоминания «В школе и на службе» хранятся в фонде №1486 «Протопресвитер Г.И. Шавельский» Государственного архива Российской Федерации. Данный фонд сначала поступил в ЦГИАМ (Центральный государственно-исторический архив СССР в г. Москве) из Главного архивного управления МВД СССР в 1952 г. в виде россыпи. Фонды, хранившиеся в ЦГИАМ, ныне находятся в ГАРФ. В 2010 г. копия мемуаров была передана в архив Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле.
Мемуары «В школе и на службе» могут значительно помочь не одному поколению российских и зарубежных исследователей. В книге отражена ситуация в духовной среде в Витебской епархии, подробно говорится о семинарской жизни в конце XIX века. Старательно описывая жизнь приходского духовенства, протопресвитер Г.И. Шавельский рисует картину быта, психологического климата и морального уровня сельского священника и его паствы.
Не менее интересны впечатления, связанные с учебой в Санкт-Петербургской духовной академии. Здесь протопресвитер слушал таких выдающихся профессоров, как В.В. Болотов, Н.Н. Глубоковский, Н.А. Скабалланович, И.С. Пальмов, и многих других ученых, чьими именами до сих пор гордится наша наука — как церковная, так и светская. В годы учебы в академии протопресвитер был знаком и со многими яркими историческими персонажами — епископом Сергием (Страгородским), архимандритом Феофаном (Быстровым), священномучеником протоиереем Философом Орнатским, священником Георгием Гапоном и другими.
Годы служения протопресвитера Г.И. Шавельского в Суворовской церкви и преподавания в Николаевской академии Генерального штаба были ознаменованы знакомством со многими генералами и офицерами, которые впоследствии участвовали в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. В эти годы протопресвитер Георгий Шавельский познакомился и со святым Иоанном Кронштадтским, часто служившим в Суворовской церкви. Записи протопресвитера о великом кронштадтском пастыре читаются с большим интересом.
Подробно описан и период Русско-японской войны. Мемуары позволяют понять, что представляли собой армия и ее генералитет, дают возможность оценить ситуацию в среде русского военного духовенства. Протопресвитер был близко знаком с генералами Куропаткиным и Линевичем, командовавшими русскими войсками, и, что не менее важно, хорошо знал быт, нужды и горести низов Российской армии.
Служение отца Георгия в качество протопресвитера представляет наибольший интерес. В этот период протопресвитер получил возможность ознакомиться с проблемами и условиями слу-
6
жения военного и морского духовенства на территории всей Российской империи. Отец Георгий посетил Кавказ и Туркестан, Сибирь и побережье Тихого океана. Кроме того, протопресвитер познакомился с царской семьей, великими князьями и лицами, приближенными к императору. В годы войны протопресвитер сблизился с главнокомандующим Русской армией великим князем Николаем Николаевичем, генералами М.В. Алексеевым и Н.И. Ивановым, в меньшей степени с А.А. Брусиловым.
Для истории важны сведения, относящиеся к деятельности Московского Собора 1917-1918 гг., в котором протопресвитер принял непосредственное участие. Протопресвитер описал дискуссии, происходившие на Соборе, а также оставил портреты некоторых его участников и описал обстоятельства избрания на патриарший престол святителя Тихона (Беллавина).
В мемуарах нашли отражение события 1917 г., служение в Добровольческой армии. Общение с лидерами Белого движения, наблюдение за творящимся в тылу Добровольческой армии убедили протопресвитера Г.И. Шавельского в том, что в тот период истории победа над большевизмом в России была невозможна.
Не меньший интерес представляют события эмигрантской жизни. Протопресвитер поддерживал отношения с лидерами различных церковных направлений в русской эмиграции — Русской Зарубежной Церкви, Западноевропейского экзархата приходов русской традиции, а также Американской митрополии (ныне Православная Церковь в Америке).
Кроме того, Г.И. Шавельский описал ситуацию в Болгарской Церкви, под юрисдикцию которой он перешел после разделений, охвативших русское церковное зарубежье после 1926 г. Российскому читателю будет интересен портрет экзарха Болгарской Церкви митрополита Стефана (Шокова), обстоятельства его жизни и захода на покой, а также портреты Патриарха Алексия I и митрополита Григория (Чукова), посетивших Болгарию в сороковые годы.
Можно с уверенностью отметить, что многое из описанного протопресвитером прежде не было известно широкому читателю. поэтому новизна данных мемуаров очевидна. Однако Г.И. Шавельский не был бы самим собой, если бы, говоря о том или ином событии, не давал ему оценку, часто слишком строгую и придирчивую, но всегда независимую и свежую.
Не подлежит никакому сомнению, что протопресвитер относился к замечательному типу людей, для которых желание исправить, улучшить ту или иную сферу жизни стоит выше собственного материального благополучия и покоя. В мемуарах чувствуется искренняя душевная боль, вызванная тяжелейшей ситуацией в стране, катившейся в пропасть. И Г.И. Шавельский в любой должности — от псаломщика до главы Военно-духовного
7
ведомства — прилагая усилия к тому, чтобы сделать все от него зависящее для предотвращения грядущей катастрофы.
Отец Георгий проходит Русско-японскую войну и пишет статьи. где прямо говорит о недостатках в деле комплектования воинских частей священнослужителями, а также определяет. что должно стать основой для служения священника на войне. Отец Георгий служит на самых разных приходах, окормляет паству в глухих белорусских селах и столичных соборах. И в результате пишет замечательную книгу — «Православное пастырство». Отец Георгий становится протопресвитером и начинает реформы на своем новом посту. Не подлежит сомнению, что ситуация в ведомстве действительно стала меняться к лучшему. Для примера достаточно просмотреть номера журнала «Вестник военного и морского духовенства» до и после вступления отца Георгия в должность протопресвитера. Разницу можно заметить сразу; журнал сделался живее, ярче, интереснее. Официальная часть и поучения на праздники, прежде составлявшие основу публикаций, после 1911 г. потеснились, уступив место статьям на актуальные политические и церковные темы, полемике относительно положения дел в Военно-духовном ведомстве.
Мемуары «В школе и на службе» принадлежат, несомненно. одному из выдающихся сынов России и верному служителю Православной Церкви. Однако это не дает права отказаться от некоторых критических замечаний как в адрес мемуаров, так и в адрес их автора.
Всей своей жизнью стремясь к преодолению целой массы недостатков. накопившихся в церковном управлении и деле православного пастырства, протопресвитер при описании своей деятельности порой представляет дело так. будто только с его приходом на ту или иную должность ситуация в подконтрольной ему сфере начинала улучшаться. Это иногда приводило отца Георгия к замалчиванию положительных моментов в деятельности его предшественников. Так, отец Г.И. Шавельский явно приуменьшил роль протопресвитера А.А. Желобовского, занизил число священников, погибших в годы Русско-японской войны, считая, что священнослужители стали лучше относиться к своим обязанностям на фронте только после вступления в должность протопресвитера самого отца Георгия.
В связи с этим неудивительно, что протопресвитер старался не упоминать о фактах, опровергающих его значимость. Так, отец Георгий неоднократно говорит о себе как о пожизненном протопресвитере, оставляя в стороне тот факт, что Всероссийский Церковный Собор в 1918 г. освободил его от этой должности.
Хорошо заметна в трудах протопресвитера Г.И. Шавельского и его неприязнь к монашествующим, в том числе к архиереям.
8
Хотя о некоторых иерархах протопресвитер отзывался тепло, например о Святейшем Патриархе Тихоне (Беллавине), митрополите Антонии (Вадковском). архиепископе Тихоне (Троицком-Донебине), в целом отношение отца Георгия к иерархии было отрицательным.
Интересная особенность мемуаров протопресвитера Г.И. Шавельского — это практически полное молчание о монастырях и монашеской жизни. Маловероятно, чтобы протопресвитер не посещал монастырей и ничего не слышал о своих современниках — оптинских, зосимовских или глинских старцах. По всей видимости, объяснить это можно тем, что подобного рода воспоминания протопресвитер считал не заслуживающими внимания и отражения в своих записях. Эта особенность многое позволяет понять в поступках и взглядах протопресвитера, изначально предвзято относившегося к иночеству.
Только принципиальной нелюбовью к монахам можно объяснить тот факт, что вполне достойные архипастыри представлены в воспоминаниях отца Георгия как недалекие карьеристы, думающие больше о своем покое и о своем чреве, чем о Церкви и Родине. Предвзятость автора мемуаров хорошо видна на примере епископа Трифона (Туркестанова), самоотверженно трудившегося на фронте, однако не заслужившего в мемуарах протопресвитера никаких похвал. Неприязнью и, вероятно, недостаточной информированностью можно объяснить написанное Г.И. Шавельским о престарелом митрополите Московском Макарии (Невском-Парвицком), который представлен в мемуарах как явный приверженец Григория Распутина, обязанный ему назначением на кафедру. Эти факты не соответствуют действительности: как известно, святитель Макарий, которого называли апостолом Алтая, не был знаком с Распутиным и на Московскую кафедру не стремился, с сожалением расставался со своей томской и алтайской паствой. Непригодность митрополита Макария к управлению епархией из-за старческого возраста также сильно преувеличена мемуаристом.
Предвзятостью, вызванной резким отношением к отцу Георгию со стороны Зарубежного ВЦУ, объясняется тот факт, что для характеристики архиереев Русской Зарубежной Церкви протопресвитер Г.И. Шавельский на страницах своих сочинений не нашел ни одного доброго слова, хотя среди этих иерархов было немало высокообразованных и высокодуховных личностей.
Особое место занимают в мемуарах люди, когда-либо перешедшие дорогу протопресвитеру, чем-то ему не угодившие или просто не нравившиеся ему. Они подвергаются обвинениям, иногда надуманным. Это коснулось, например, подвижника благочестия епископа Серафима (Соболева), назначенного архиепископом Евлогием (Георгиевским) управлять русскими приходами
9
в Софии вместо отца Георгия. Читатель заметит, что даже истинно христианский поступок епископа Серафима — визит к протопресвитеру, несмотря на демонстративное пренебрежение со стороны отца Георгия, — мемуарист назвал всего лишь «красивым жестом».
Представляются сомнительными и обвинения протопресвитера В адрес митрополита Евлогия (Георгиевского), якобы мстившего отцу Георгию за его несогласие с политикой по воссоединению униатов и даже затаившего «великую злобу». Свою убежденность в этом протопресвитер сохранил, несмотря на то что сам митрополит Евлогий с уважением относился к отцу Георгию, прислушивался к его мнению, обращался к нему за советами и даже, если верить автору мемуаров, предлагал ему стать своим преемником на посту главы Русского Западноевропейского экзархата.
Нельзя не заметить и постоянного стремления отца Георгия обелить людей, им выдвинутых, как бы низко они ни пали. Это касается, например, священника Александра Введенского. Можно понять протопресвитера, высоко оценивавшего деятельность Введенского в качество армейского проповедника в годы войны, но нельзя найти оправдание его антицерковной деятельности в советские годы. Выглядит крайне некорректным намек протопресвитера на то, что уход Введенского и Боярского в раскол был связан с недооценкой их «епархиальным начальством». Достаточно вспомнить, что «епархиальным начальством» для этих церковных деятелей был священномученик Петроградский Вениамин (Казанский), который как раз не подпадал под шаблон, применяемый протопресвитером ко многим архиереям. Важно, что в другом месте своих воспоминаний Г.И. Шавельский положительно оценивает петроградского святителя. По-видимому, желание оправдать красных обновленцев было у протопресвитера столь велико, что он начинал противоречить самому себе. Вдумчивый читатель найдет еще немало подобных мест в «Воспоминаниях» протопресвитера Г.И. Шавельского.
Хотя далеко не со всем в книге «В школе и на службе» издатели могут согласиться, нельзя отрицать факт, что данные мемуары являются ценнейшим источником для изучения истории России, русской эмиграции, Русской и Болгарской Православных Церквей.
Издание представляет собой публикацию по копии рукописи, хранящейся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. Сохранены подстрочные примечания, данные самим протопресвитером Г.И. Шавельским. Орфография и пунктуация приведены к современным нормам русского языка.
Издатели выражают искреннюю благодарность за помощь, оказанную на разных этапах подготовки мемуаров, директору
10
Музея русского искусства в Миннеаполисе (в 2002-2014 гг. директору Архива Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле) протоиерею Владимиру Цурикову, заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерею Николаю Балашову, Президенту Русского общественного фонда А.И. Солженицына Н.Д. Солженицыной и научному руководителю Госархива Российской Федерации С.В. Мироненко, руководителю Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С.Л. Кравцу и старшему редактору издательства ПСТГУ Е.Ю. Агафонову.
Особая благодарность Ирине Марковой, правнучке протопресвитера Георгия Шавельского, предоставившей фотографии и текст воспоминаний Марии Георгиевны Шавельской.
А.А. Кострюков,
доктор исторических наук, кандидат богословия, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории РПЦ, доцент кафедры истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
11
«Помянух дни древния, поучихся»
(Псал. 142. 5)
I. В родительском доме
В крещенскую ночь 1871 г. в селе Дубокрае Витебской губернии Городокского уезда стоял лютый мороз. Во всех домах замерзли окна. Потрескивали стены деревянных домов. В состоявшем из одной комнаты и холодных сеней домике 24-летнего дьячка Ивана Ивановича Шавельского целую ночь горел огонь: впервые разрешалась от бремени его молодая 20-летняя жена Анна Федоровна. Сильно стонала родильница, около нее хлопотала бабка-повитуха Прасковья. Мать родильницы. 70-летняя старушка Фекла Давыдовна (Анна была у нее 18-м ребенком), докрасна натопила печи, «чтобы, не дай Бог. не замерз ребеночек». В 6 часов утра, когда уже начали звонить к утрене и народ повалил в церковь, появился на Божий свет новорожденный. Сияющий от радости Иван Иванович отправился в церковь. «Как Анна Федоровна?» — спросил его о. Василий Еленевский. «Слава Богу! Только что сынок родился». — ответил Иван Иванович. О. Василий обнял и поцеловал его. «Поздравляю! Поздравляю! Сынок! И в день-то какой родился! Как же назовем его?» — спросил о. Василий. «Надо бы назвать Иваном. Завтра же Иванов день. Да и без того много у нас Иванов; я — Иван, отец мой — Иван... Хватит!» —сказал Иван Иванович. «Тогда возьмем следующий день — 8 января! Там есть Георгий Хозевит. Вот и назовем твоего сына Георгием! Георгий. Егорка. Юрка — хорошее имя». Совет о. Василия понравился Ивану Ивановичу.
Новорожденного внука, чтобы он не замерз. Фекла Давыдовна положила на печку и, ухаживая за ослабевшей от трудных родов дочкой, забыла о нем. Когда спохватилась, ребенок был уже посиневшим и не дышал. Вероятно, оставалось несколько минут, чтобы он никогда не увидел свету Божьего. С большим трудом привели его в чувство. Как слабенького, поспешили окрестить его. Крестил о. Василий, кажется, 10 января. Таково было начало жития моего.
Родители и деды мои не знали никаких ни наследственных, ни приобретенных болезней. Их могучие организмы и я унаследовал. Но первые два года моей жизни были страдальческими. Чуть ли не через месяц после рождения золотушные струпья покрыли и лицо, и голову, и все мое тело — весь я превратился в отвратительный гнойник. И в таком положении находился полтора года. Никто не думал, что я смогу выздороветь. Но, к удивлению всех, я выздоровел и после не поддавался никаким болезням.
Из моего детства остались особенно памятными мне три случая.
12
Первый случай. Мне идет четвертый год. Я и три моих приятеля, сыновья о. Василия Семен, Иван и Михаил, играем на площадке около священнического дома. Семен был на 3 года, а Иван на 1 год старше меня, Михаил — на 2 года моложе. Семилетний Семен притащил березовый чурбан и, усевшись на нем, начал долбить теслом1, чтобы сделать корыто. Чурбан вертелся. «Сядь-ка ты на другой конец, чтоб дерево не вертелось», — обратился Семен ко мне. Я сел. Семен взмахнул теслом и, не рассчитав расстояния, хватил не по дереву, а по моему черепу. Обливаясь кровью, я без чувств упал на землю. Перепуганные мои приятели подняли крик. Сбежались наши матери, бабушки, о. Василий, отец. Меня отнесли домой и привели в чувство. Запомнилась мне картина: с забинтованной головой сижу я на низеньком стульчике, меня окружают мать, бабушка, жена и теща о. Василия, дедушка; все угощают меня конфектами, пряниками, орехами... Спустя два дня я опять резвился на той же площадке, но уже не помогал Сене долбить корыта.
Второй случай. Мне 7-й год. Уже в то время я проявлял два, казалось бы, противоположных качества. Шаловливость моя была так велика, что все называли меня сорванцом, даже разбойником. А с другой стороны, я был точен и исполнителей. Когда требовалось сделать что-либо, исполнить приказание отца или матери, тогда я не останавливался ни пред какими страхами и опасностями. Так вот, когда мне шел 7-й год, ранней весной умер мой двухмесячный братишка Вася. Покойников я невероятно боялся. Все покойники были моими злейшими врагами, везде подстерегавшими меня, всегда готовыми напасть на меня. Этот маленький Вася, которого я несколько дней тому назад нянчил и целовал, теперь стал моим врагом. Я ни за что не осмелился бы войти в комнату, где он лежал на столе, если бы там никого другого не было. Я старался выйти из дому, чтобы не встретиться с Васей. Вечером накануне похорон, когда уже стемнело, мать говорит мне: «Деточка! Сбегай в лавку и купи фунт свечей, а то нам придется впотьмах сидеть». Мне сразу представились все опасности предстоящего путешествия. Во-первых, Вася: вдруг он встретится мне. А затем ряд других опасностей. Наше село состояло всего из девяти домов. На северной окраине села стоял наш дом и шагах в ста от него к востоку — церковь; далее к югу шагах в 80 по левую сторону находилась священническая усадьба, а напротив нее на правой стороне дороги — домик вдовы Ивана, просфорни. На правой стороне дороги шагах в ста от этого домика стояло народное начальное училище: по правую же сторону простиралось не занятое никакими постройками место, где доканчивая свой век огромный дуплистый полузасохший дуб и стояли шесть сосен, между которыми возвышалось несколько надмогильных насыпей, а между ними с севера на юг тянулся неглубо-
13
кий овражец. Испытавший нашествие французов в 1812 г. дедушка рассказывал, что тут происходило сражение, что насыпи — это французские могилы, а овражец — французский окоп. Роясь В этих насыпях, мы часто находили французские военные пуговицы, французские монеты, что подтверждало рассказ дедушки,
С юга почти у самого овражка стояло волостное правление, а с севера одна за другой по направлению к востоку помещались избушки бобылки Соломеи, синельника и на самом берегу нашего большого озера еврейская корчма. За училищем около самой дороги, по которой я должен был идти, тянулось большое топкое болото, с южной стороны прилегавшее к сосновому борку, среди которого находилось приходское кладбище. «В этом болоте, — рассказывал нам церковный староста Фаддей, — чертей тьма-тьмущая. В иную ночь так и вспыхивают на нем огоньки — это они, проклятые, выглядывают, не идет ли кто, чтоб напасть на него». По другую сторону дороги, за волостным правлением, лежал тоже болотистый луг, но там, по словам Фаддея, чертей не водилось, потому что им нужны очень топкие места, чтобы было куда нырнуть. За этим лугом, на пригорке около самого леса, шагах в 150 от кладбища находилась русская корчма и при ней лавка, где я должен был купить свечи. В общем, от нашего дома до лавки было около полукилометра.
Самая опасная часть предстоящего мне пути начиналась за училищем: в болоте — черти, на кладбище — покойники, за каждым деревом может сидеть покойник. А главное, дня три тому назад на кладбище похоронили утопленника. «А утопленник, — объяснял нам Фаддей, — как ни отпевай его, остается утопленником, может много навредить человеку». Словом, опасный путь предстоял мне. Но раз моя мать сказала, я должен исполнить. Накинув пальтишко, я вышел на улицу.
Ночь была светлая. Красовалась на небе луна, весь небосклон был усеян звездами. Выйдя на улицу, я осмотрелся кругом: не стоит ли где Вася, не подстерегает ли меня утопленник? Не заметив никого, я направился дальше. Дом о. Василия был освещен, в избушке просфорни тоже мерцал огонек, впереди из всех окон училища вырывались снопы света. Тут я был бы совсем спокоен, если бы не смущали меня французские могилы. Но я быстро утешил себя: «Эти ж покойники давным-давно умерли, и, кроме того, они французы и, конечно, души их перебрались во Францию». А вот когда я подошел к болоту, меня начало трясти как в лихорадке. Для бодрости я попробовал свистетъ, но страх от этого не уменьшался и свист не выходил, как следовало бы. А до корчмы с лавкой еще было более 200 шагов. Оставалось положиться на свои ноги. И я сколько хватало сил пустился бежать, не озираясь ни на болото, ни на луг, ни на лесок за болотом, а только глядя на
14
огонек, светившийся в одном из окон корчмы. Прибежав, я слова не мог выговорить, пока не успокоился. Корчмарь Николай Иванович начал журить меня, но я оправдывался, что необходимо было спешить, так как мне приказано как можно скорее принести свечи. На обратном пути я летел с еще большей скоростью, и бежать мне было легче, так как дорога от лавки до училища спускалась вниз. Раскрасневшийся, запыхавшийся, вспотевший, я наконец переступил порог отцовского дома. Мать со слезами встретила меня: «Как я за горем не сообразила, что нельзя было посылать тебя. Никто не напугал тебя? Боже мой! Как ты вспотел. Иди переоденься да чаю горячего выпей! Спасибо тебе!» И мать крепко поцеловала меня. Она очень любила меня, как и я безгранично ее любил. Ее поцелуй вознаградил меня за пережитые мною страхи.
Третий случай. Зима. На дворе оттепель. Для игры в снежки лучшее время. Мне идет 9-й год. После обеда отец прилег отдохнуть. От нас, детей, когда отец почивал, требовалось, чтобы мы вели себя тихо, так как малейший шум будил отца. Отец уже уснул. Я начал забрасывать снежками проходившую по двору нашу прислугу Федосью. Бросал я очень метко, и один из моих снежков попал ей в лицо. Федосья заревела благим матом. Проснувшийся отец выбежал на крыльцо и, увидев, в чем дело, основательно выпорол меня. Было очень больно, но эта боль уменьшалась от сознания, что я вполне заслужил ее.
От моих шалостей чаще всего страдали мои младшие сестры и братья. Когда мне шел 10-й год, нас было пятеро: я, две сестры и два брата, один из которых был грудным ребенком. Когда у нас за обедом или ужином случался гость, тогда нас четверых сажали за особый столик и мы ели из одной чашки или тарелки. Помню какой-то праздник. Рано утром мы увидели зарезанную курицу и заранее предвкушали, что на обед будет вкусный суп, какой только мать наша умела готовить. На обеде у нас был гость, и нас поместили за особый столик. Мать налила нам в большую чашку супу, и мы принялись за работу. Конечно, я не зевал, и суп убывая быстро. «Ты быстро ешь», — обратилась ко мне сестренка. «А вам кто мешает не отставать от меня?» «Мы не умеем так быстро есть», — сказал братишка. «Тогда чтоб никому не было обидно, сделаем так: я разделю суп на четыре одинаковых половины; вы ложками придерживайте каждый свою часть, а я свою быстро съем», — предложил я. Ребята согласились. Я ложкой разделил суп на четыре части, ребята загородили свои части, а я приналег на суп. Первой спохватилась нервная и капризная Анюта. «Мама! Егор весь суп съел!» — закричала она. «Не может он обойтись без проказ!» — недовольным тоном обратился к матери отец. Вставши из-за стола, мать подошла к нам. «Чего вы тут не разделили?» — обратилась она к нам. Все трое начали жаловаться, что я
15
съел весь суп. «Зачем же ты объедаешь их?» — обратилась ко мне мать. «Мамочка! — ответил я. — Они не умеют есть и требуют, чтоб и я так же, как они, ел. Я не могу. Тогда я предложил разделить суп на четыре части, чтобы потом каждый придерживал ложкой свою, пока я свою съем. Виноват ли я, что они и есть не умеют, и удержать свои части не сумели?» «Вот видите, вы сами виновны», — едва удерживаясь от смеху, сказала мать. — Успокойтесь! Сейчас получите суп».
Благодаря моей изобретательности ни один день не проходил без тех или иных шалостей, почти всегда безобидных, но не всегда простительных. Когда мне угрожала опасность быть наказанным, на выручку являлись бабушка с дедушкой, безгранично любившие меня. «Анюточка! Не слушай ты их, — обыкновенно убеждала мою мать бабушка, когда сестры жаловались на меня. — Сами виноваты: лезут к нему, задираются, надоедают, а потом и жалуются». И мать, также очень любившая меня, поддавалась убеждениям бабушки.
Все три сына о. Василия до поступления в духовное училище учились в народном училище. Я же учился у своего дедушки (по матери) Федора А-ча. Интересный был старик. Тогда ему было за 70 лет. Всю жизнь свою он прослужил дьячком, хоть по развитию и настроению он вполне заслуживая священнического сана. Сильная хромота на одну ногу мешала ему стать священником. Вместе с дьячковской он нес и учительскую службу. Еще в 30-х годах прошлого столетия у него была собственная школа, которую, между прочим, посещали известные архиереи (воссоединители униатов) Иосиф Семашко и Василий Лужинский. В дедушкину школу отдавали своих детей и священники, и помещики. Своими успехами я всегда радовал дедушку.
Настала пора отдавать меня в духовное училище, но тут встал материальный вопрос. Наш годовой доход был мизерен. При огромной семье (десять душ: отец с матерью, трое стариков — 60-летний отец отца, 80-летние родители матери и нас, ребят, пятеро) отец получал крохотное жалованье — 8 рублей 44 копейки в месяц. 10 десятин причитавшейся ему церковной земли немного прибавки давали. Отец отца не получал никакой пенсии. отец матери за свою 50-летнюю службу получал пенсию 8-10 рублей в год в виде пособия от Епархиального попечительства.
Бюджет нашего дома, таким образом, был незавидный. Но мы жили не худо, не зная нужды. У нас было неплохое хозяйство: лошадь, 3-4 дойных коровы, свиньи, овца, разного рода птица: землю обрабатывали сами, и она являлась для нас большим подспорьем. В озере водилось много рыбы, и отец с дедушкой недурно рыбачили. Летом соседний с нашим селом лес изобиловал множеством грибов и ягод — земляникой, малиной, черникой,
16
брусникой, черной смородиной. Ко всему этому надо прибавить, что цены на все продукты стояли очень невысокие: десяток яиц — 5 копеек, фунт масла — 12-13 копеек, фунт мяса или рыбы — 3-5 копеек.
В январе 1881 г. однажды вечером, уже лежа в постели, я подслушал семейный разговор. «В этот год, — говорил отец, — придется Егора везти в училище. Как-то мы управимся с расходами? Квартиру со столом дешевле 8 рублей в месяц не найдешь. Значит, отдавай все свое жалованье! А еще расходы: одеть и обуть, там же не как дома, босиком и в рваных штанишках бегать не будет. Да еще надо отвозить и привозить — тоже расходы; надо книжки, бумагу и прочее покупать... А и у нас же тут свои расходы...» «Что бы там ни было, способного мальчика мы не можем оставить без образования, — решительно заявила мать. — Отпустим прислугу, сократимся во всем, когда-нибудь и поголодаем, но Егорка должен учиться». «Поеду-ка я к братцу, — вмешалась в разговор бабушка. — Он должен помочь нам». Отец и мать одобрили решение бабушки.
Единственный родной брат бабушки, он же и крестный матери, протоиерей Иасон Давидович Лукашевич тогда с давних лет настоятельствовал в городском Себежском соборе. Умер он в 90-х годах, мне так и не пришлось увидеть его. Он был бездетен, богат и скуп. Последнее его качество, между прочим, сказывалось в том, что он единственной своей сестре, моей бабушке, очень нуждавшейся, аккуратно высылал помощь в размере... 10 рублей в год. Вскоре бабушка на отцовской лошади отправилась к брату в г Себеж, стоявший от нашего села приблизительно в 140 километрах.
Мать с нетерпением ожидала возвращения бабушки. Наконец бабушка вернулась. Мать бросилась к ней: «С радостью ли прибыла ты, мамочка? Что крестный? Обещал ли помощь?» Бабушка заплакала: «Отказал... Говорит, что же надумали — дьячковского сына учить... Отдайте его в сапожники, и будет с него». Так, с благословения своего богатого деда-протоиерея я должен был стать сапожником, но моя мать сказала: «Не плачь, мама! Бог с ним, с крестным! И без его помощи Егорка получит образование. Себе во всем откажем, а неучем его не оставим».
1 августа отец на своей лошадке отвез меня в г. Витебск, где я должен был выдержать приемные экзамены. Путь был неблизкий: наше село находилось в 90 километрах от Витебска. Проехав 55 километров, мы ночевали в г. Городке. Я горел нетерпением, когда же увижу Витебск, где мне предстоит выдержать экзамены и затем долго учиться. Вот и Витебск. Скоро начались экзамены, которые я выдержал успешно. Я — ученик духовного училища.
17
II. В духовном училище
Я ликовал. Идучи по городу, воображал, что все смотрят на меня, — не могут они не видеть, что я не кто-нибудь, а ученик духовного училища!
В селе же рассуждали, что отец зря отдал меня в училище: скоро или меня выгонят за озорство, или я сам убегу оттуда. Вероятно, такие разговоры тревожили моих родителей. Не иначе как по поручению отца наш корчмарь Н.И. Савин в начало сентября, будучи в Витебске, зашел в наше училище, чтобы осведомиться о моих успехах и поведении. Его удивлению не было границ, когда и от учеников, и от надзирателя он получил самые лучшие обо мне отзывы.
Действительно, в Витебске я стал неузнаваем. Отец поместил меня на квартиру к соборному диакону Ивану Алексеевичу Волкову, женатому на двоюродной сестре моей матери, с платой за квартиру со столом, мытьем белья и баней по 7 рублей в месяц. У Волковых было три сына; Дмитрий — на 4 года старше меня, Иван и Семен — на 4-5 лет младше меня. Дмитрий усвоил дурную привычку — совсем не от желания серьезно изучать науки сидеть в каждом классе по два года. Поступив в училище, я застал его перешедшим в 3-й класс. Не изменив своей привычке, он потом просидел в этом классе 2 года, а затем остался на 2-й год и в 4-м классе, где я и догнал его.
Дмитрий был спокойным малым, но Иван и Семен были забияками, себя считали хозяевами в доме, горожанами, а на меня смотрели как на пришельца из деревни. У меня же не было много защитников — бабушки, дедушки и горячо любимой матери. В училище кругом были чужие люди. И я сразу присмирел. Кроме того, учебное дело заинтересовало меня. Скоро все учителя обратили на меня внимание как на лучшего в классе, способного, примерного ученика. В особенности я успевал в арифметике, все объяснения учителя я схватывал на лету, быстро и безошибочно решал все задачи. Учитель перестал вызывать меня к очередному, как других учеников, ответу. Я спрашивался тогда, когда никто в классе не мог ответить на вопрос или решить задачу. Также мои ответы учитель часто оценивал баллом 5 (при пятибалльной системе). И учителя, и ученики считали меня первым в классе.
Кончилась рождественская треть. Отец приехал на своей рыжей лошадке, чтобы взять меня на Святки домой. В училище ему выдали мой отпускной билет, на второй странице которого, где выставлялись месячные баллы по успехам и поведению, стояли одни пятерки. Просиявший отец поцеловал меня и предложил в награду за успехи купить мне калоши. Признаться, меня очень бы порадовали калоши. Но я не забывал, что отцу трудно содер-
18
жать меня, мечтая, что меня примут на казенное содержание, и потому решительно отказался от подарка; чтобы начальство не подумало, что мой отец богат. А один из учеников старшего класса сострил: «Отец Шавельского недоволен баллами сына: одни пятерки и ни одной шестерки». Эта шутка быстро распространилась, и его товарищи долго дразнили меня.
В родное село я прибыл героем: шутка ли, я — первый ученик в классе! Радости матери и моих милых старичков не было границ: мать и бабушка не ошиблись во мне; дедушка гордился, что я его ученик. Праздники прошли быстро. 17 января я опять покинул родительский дом. При прощании, обливаясь слезами, бабушка сунула мне в руку серебряный рубль. И это она делала потом всякий раз при моем отъезде в училище. А ведь они с дедушкой получали, считая и братнее пособие, 18-20 рублей в год. Из них, значит, три рубля она отдавала мне. Отказаться от денег нельзя было: она приняла бы отказ мой как самое жестокое оскорбление. Ою этих рублях я и доселе не перестаю вспоминать как о евангельской жертве вдовицы. Любовь бабушки ко мне была беспредельна. Мать рассказывала, что бабушка, проводив меня в училище, с горя ложилась в постель и два-три дня не вставала с нее.
8 января меня доставили в Витебск. Я опять у дьякона И.А. Волкова. В воскресенье вечером к нему зашли его знакомые священники о. Софроний Серебренников и о. Дамиан Макаревский. Первый служил в с. Еленце, второй — в с. Завережье Невельского уезда. Только 4 километра разделяли их села. Они были сверстниками и жили в большой дружбе. Их сыновья — первого Стефан, а второго Петр — учились со мною в одном классе и за рождественскую треть успели «утешить» своих родителей значительным количеством двоек. Обеспокоенные двойками отцы прибыли в Витебск, чтобы принять какие-либо меры против новых возможных двоек. Помощник смотрителя училища Иван Фомич Богданович посоветовал им: «У о. дьякона Волкова квартирует одноклассник ваших сыновей Шавельский, разумный и скромный мальчик, лучший в классе ученик. Поместите туда своих сыновей, чтобы Шавельский влиял на них и, когда потребуется в ученье, помогая им». Волковы согласились взять на квартиру обоих мальчиков. Уходя, о. Софроний и Дамиан наградили меня двумя полтинниками. При этом о. Дамиан обратился ко мне: «Смотри ж, Егорушка! Мы надеемся на тебя. Ты должен постараться, чтобы ты оставался первым, Степка стал вторым, а Петька мой — третьим в классе».
Задача давалась мне неразрешимая: превратить двоечников в пятерочники. Все же получился немалый успех: мои Степка и Петька, освободившись от двоек, перешли во второй, а затем в третий класс. В 3-м классе я был принят на казенное содержание
19
и, перейдя на казенную квартиру, содержавшуюся вдовою Борисович, расстался со своими приятелями. После этого дела у них пошли хуже.
Мы во 2-м классе. Продолжаем жить в соборном доме. Дом стоит на возвышении. От дому спускается на север к переулку двор, длинным коридором огражденный с обеих сторон высоким дощатым забором. Конец августа: солнце зашло, но на дворе тепло и светло. По небу тихо плыла луна, везде переливались огоньки звезд. После ужина у Петьки разболелись зубы. Тетка-дьяконица дала ему какое-то лекарство, но от него не легчало. Тогда дьякон решил применить свое искусство. «Пойдем, ребята, во двор, — обратился он к нам троим, — я вас научу заговаривать зубную боль. Лучшего средства не может быть. Вы запомните, что я буду говорить. Только старшим вас не сообщать их, иначе заговор и у вас, и у них перестанет действовать. А младшим можете сообщать». Мы последовали во двор за дьяконом. «Теперь, — скомандовал дьякон. — становитесь в ряд около меня и смотрите на луну и повторяйте за мною!» Дьякон, также смотря на луну, начал заклинание, представлявшее бессвязный набор маловразумительных для нас слов. Я толкнул локтем Степку, Степка — Петьку. Петька был очень смешлив. Чтобы не прыснуть со смеху, он сжал двумя пальцами нос и, не могши сдержаться, издал сильный звук. «Свиньи вы, невежи!» — крикнул дьякон и ушел, не закончив заклинания. Тем не менее от всего происшедшего у Петьки утихла боль.
Кажется, в сентябре 1882 г, дьякон Волков получил назначение в богатый Петропавловский приход. Пришлось оставить соборный дом. Наняли частную квартиру, поместительный домик с садиком и огородом, почти на окраине города, против казарм 63-го Углицкого и 64-го Казанского полков. Домик этот принадлежал двум братьям Короткевич, витебским мещанам. Они жили в другом, рядом стоявшем домике, на чердаке которого помещалась огромная голубятня с разными приспособлениями для полетов своих и для ловли чужих голубей. Младший Короткевич — Филипп, 25-летний здоровый одноглазый парень, — все свое время отдавал голубям: размножал, дрессировал, покупая, променивал своих, заманивая и ловил чужих, которых должны были потом выкупить их хозяева. В той части города голубиный спорт был очень развит и умелым голубятникам приносил значительный доход. Мы ежедневно могли наблюдать, как к Филиппу приходили хозяева пойманных голубей, торговались, спорили, ругались с ним, пока он не отдавал пойманного. А то Филипп беспокойно шагал около своей голубятни и ругал «сукина сына» своего голубя, попавшего в ловушку соседа-голубятника, и затем шел выкупать пойманного. Нас очень занимала вся эта процедура.
20
Хотя с переходом к Петропавловской церкви материальное положение Волковых сильно улучшилось, однако они не сократили, а увеличили число квартирантов. Прибавилось еще четыре человека: два брата Красавицких, Фотий Черепнин и красавец атлет Николай Одельский, в 1888 г. простудившийся и быстро сгоревший от чахотки. Кроме младшего Красовицкого, все они были моими одноклассниками, все были хорошие и способные ребята, кроме доброго и чрезвычайно трудолюбивого, но совершенно неспособного Фотия.
Наше положение на новом месте жительства сильно ухудшилось: всех семерых нас поместили в не такой уж большой комнате, которая стала служить нам и спальней, и местом для занятий; кормить нас начали гораздо хуже, чем раньше; в пост же мы положительно голодали. Из подслушанного разговора дьякона с женой мы узнали, что они собираются обзаводиться собственным домиком. Значит, сообразили мы, на наших желудках экономию загоняют. К счастью, я скоро как казенно содержавшийся перешел в общежитие вдовы Борисович, кормившей нас как на убой — обильно, всегда вкусно, даже изысканно.
Теперь скажу несколько слов о самом училище. В мое время смотрителем училища был протоиерей Матвей Иванович Красовицкий, окончивший курс Московской духовной академии, человек умный, но замкнутый, малообщительный. Его общение с учениками было очень ограниченным. Только в самых крайних случаях ученики обращались к нему, когда требовалось специальное от него разрешение. Таков был, например, следующий случай. Мальчишки что обезьяны. Показалось им, что вырвать зуб — это своего рода шик, признак зрелости. Начгиш у разных зубодеров рвать зубы. Узнав об этом, о. Матвей приказал. чтобы без его разрешения никто из учеников не рвал зубов. Моему однокласснику, большому сорванцу Алексею Овсянкину, все же захотелось после этого выдернуть зуб, и он отправился к о. Матвею за разрешением. О. Матвей сидел в правлении училища, сосредоточенно перечитывая бумаги. Овсянкин открыл дверь и остановился у входа в комнату. О. Матвей не обращая на него внимания. Овсянкин кашлянул. О. Матвей поднял голову, через очки взглянул на просителя: «Тебе что надо?» — «Позвольте мне. отец Матвей. вырвать зуб!» — сказал Овсянкин. О. Матвей опустил голову и опять углубился в чтение. Овсянкин продолжая стоять. Через несколько минут о. Матвей опять поднял голову и объявил просителю свое решение: «Иди ты лучше оторви себе голову!» Ученики уважали о. Матвея, считая его очень умным и справедливым.
Интересны последние годы жизни о. Матвея. Кажется, в 1883 г. он купил выигрышный билет у своей свояченицы Руженцовой, по первому мужу Григорович. Через полгода на этот билет пал самый
21
большой выигрыш — 200 тысяч рублей. До этого времени о. Матвей получал по должности смотрителя 1200 рублей в год, жалованье, достаточное для скромного существования. И о. Матвей со своей семьей (женой, сыном и двумя дочерьми) жил очень скромно. Теперь он стал богатым: капитал мог давать ему процентов 10 тысяч рублей в год, а губернатор, первое лицо в губернии, в то время получал только 5 тысяч рублей в год. Но с богатством пришли несчастья. Свояченица потребовала выигрыш, так как это был ее билет. Не успевши в своем требовании, она подала жалобу в суд. Суд отказал ей, но самая судебная процедура, сопровождавшаяся неприятными для о. Матвея разговорами, пересудами и инсинуациями, сильно надломила его здоровье. Во время этого процесса он рассорился со своей женой, принявшей сторону свояченицы. Разошелся о. Матвей и с многочисленными своими родственниками, каждый из которых претендовал на часть выигрыша. Летом, когда о. Матвей с семьей жил на даче, на нее напали разбойники, и только чудом спаслась семья. Старшая дочь о. Матвея осталась в девицах, считая, что женихов прельщает ее приданое, а не она сама. Старые друзья о. Матвея, знавшие его бедняком, теперь сторонились его, когда он стал богатым. В душевном одиночестве и смущении доживал о. Матвей свой век.
Помощником смотрителя училища был Иван Филиппович Богданович, студент семинарии, окончивший курс по 1-му разряду. И по внешнему виду, и по духовным качествам он был создай для начальствования. Росту выше среднего, с чистым открытым лицом, всегда изящно одетый, аккуратный и точный, умный и распорядительный, строгий и справедливый, он пользовался большим уважением не только у учеников, но и у их родителей и учителей. Ученики, кроме того, его боялись, так как, отчитывая провинившегося, он не стеснялся в выражениях и умел донять самого бесчувственного. Особенно часто доставалось от него ленивым, худшим ученикам. Великовозрастный, но туповатый ученик Я. Емельянович при каждом ответе урока выслушивал реплики Ивана Филипповича вроде таких и подобных: «Болван вы! Какая же гад — рыба?» (Яше подсказывали «ибо», а он, не расслышавши, хватил «рыба»), «Усы у вас выросли, а ума не вынесли. Женить вас надо, да в пономари пристроить. А тут вы без толку сидите: только воздух портите». Великовозрастный и великорослый мой родственник Дмитрий Волков при ответе приседал, чтоб не так был заметен рост его. «Волков! Носом в парту не упирайтесь! От этого не перестанете болваном быть. Готовились бы к урокам лучше! Собираетесь до седых волос сидеть тут у нас. Хуже редьки надоели вы нам».
Фактически Иван Филиппович всем руководил в училище. О. Матвей был красивой вывеской, а хозяином в училище был Иван Филиппович.
22
Как преподаватель греческого языка Иван Филиппович не оставлял желать лучшего: умел толково и для всех понятно объяснить урок, умел и настоять, чтобы его объяснения были внимательно выслушаны и урок старательно выучен. Благодаря Ивану Филипповичу мы поступали в семинарию серьезно подготовленными по этому предмету. Преподавай он этот предмет и в семинарии, он сделал бы нас настоящими эллинистами.
Священную историю Ветхого и Нового Заветов, катехизис и богослужение преподавая нам священник кафедрального собора о. Василий Олимпович Говорский, молодой и нежно красивый, скромный и благочестивый, всегда изящный и ровный. Как и Иван Филиппович, он был студентом семинарии. Учитель это был заурядный: отсюда и досюда, по учебнику. Требовал знания учебника, и только. Огня в нем не было. В 1911 г. он был принят мной в Ведомство военного духовенства.
Арифметику преподавая красавец священник Успенского собора, студент семинарии о. Александр Ефимович Гнедовский, преподавая просто, но достаточно толково. В 1887 г. он перешел в военное ведомство: скончался в 1912 г., я отпевал его.
Латинский язык в нашем классе преподавался студентом семинарии Алексеем Андреевичем Черепниным. Ученики звали его Махоркой, потому что этим зельем всегда от него пахло и оконечности пальцев правой руки были желтыми. Черепнин преподавая неплохо, но его невзрачный вид и вялость значительно метали ему. Потом, уже пожилым, он женился, принял священный сан и служил священником в селе Фалковичи (в 14 километрах от Витебска), где и скончался.
Учителем русского языка я застал студента семинарии Михаила Гавриловича Жданова, красивого мужчину и ничем не выдававшегося учителя. В следующем году он оставил службу в училище и на его место был назначен окончивший Новороссийский университет Георгий Гаврилович Левицкий, сын священника Черниговской губернии. По лицу и прическе — точный портрет Н.В. Гоголя, всегда веселый и жизнерадостный, остроумный и подвижный, он фанатически любил свой предмет и умел и в учениках возбудить любовь и интерес к нему. Скоро он заслуженно стал любимым нашим учителем, потому что преподавал он с увлечением, живо, интересно, увлекательно. У него занимались и успевали даже самые слабые ученики. Через несколько лет Левицкий перешел на ту же должность в Полоцкий кадетский корпус, где и служил до своей смерти.
Географию преподавая о. Матвей, смотритель училища. Преподавание велось им несерьезно: всегда он сильно опаздывая на уроки: к урокам не готовился, при объяснениях уроков вдавался в мелочи и не придерживался системы: удовлетворялся самыми
23
незначительными познаниями учеников, которые в ущерб своему развитию пользовались этим.
Остается сказать несколько слов об учителе пения, соборном диаконе Алексее Ивановиче Виноградове, и надзирателе Павле Ивановиче Лузгине. О. Алексей по развитию был истым дьяконом, преподавал пение примитивно, особым его благоволением пользовались ученики, певшие в архиерейском хоре, которым им он ставил 5,5 (при пятибалльной системе). Павел Иванович, студент семинарии, выделялся своим необыкновенно высоким ростом, за что ученики прозвали его Каланчой. Другое его прозвище было Мизгирь. В его положении, когда его должность по принятым тогда порядкам была чисто полицейской, ему трудно было заслужить любовь учеников, но он и не пытался приобрести ее.
Врачом училища был немец Карл Иванович Бергнер. В городе его считали недурным врачом, но наши ученики брезгливо относились к нему, так как он одновременно состоял врачом и в витебских публичных заведениях.
Нельзя не упомянуть еще об одном члене училищной корпорации — училищном служителе Парфене, мужчине лет сорока, обладавшем могучими мускулами и великой отвагой. Мы, ученики, с большим уважением относились к нему, так как он был знаменитым бойцом в городских боях.
Наше училище помещалось в небольшом одноэтажном здании, принадлежащем Красному Кресту, на Малой Задвинской стороне города, в одном квартале от центральной Вокзальной улицы. С большого училищного двора в здание вели два входа. Первый вход вел в маленький вестибюль, направо от которого находилась классная комната 4-го класса, а налево — 2-го класса. Против входных дверей была дверь в учительскую, а слева от учительской находилась комната для заседаний правления училища, служившая в то же время и кабинетом смотрителя. Второй вход вел в узкий коридор, на правой стороне которого помещались приемная врача с небольшой больничной комнатой и классная 1-го класса, на левой — комната служителя и классная 3-го класса, соединявшаяся дверью с учительской. Классные комнаты были небольшие. но мы, неизбалованные дома, не замечали неудобств нашего здания. Все ученики жили на частных квартирах, городские — у своих родителей.
Рядом с нашим училищем на той же улице стояла военно-гарнизонная Николаевская церковь, причт которой состоял из священника о. Николая Заблоцкого и псаломщика Ивана Михайловича Сотко. Дети о. Николая Аркадий и Константин учились в одном со мной классе. Так как эта церковь считалась и нашей, училищной, и ее мы посещали в воскресенье и праздничные дни, в ней совершались все училищные требы, то я скажу несколько слов о членах ее причта.
24
о. Николай не производил на меня впечатления: служил он холодно, без всякого воодушевления, голое у него был слабый и невнятный, наружностью тоже не привлекал он. Помнится, что он был нервным и раздражительным. Но Иван Михайлович был восхитителен. Небольшого роста, всегда прилично одетый, благообразный, с большой лысиной и круглым добрейшим лицом старичок, он и сейчас, почти через 70 лет, как живой представляется мне. Мы, ученики, уже пришли к литургии. О. Николай совершает проскомидию, а Иван Михайлович читает часы. Читает наизусть, расхаживая по церковному амвону и двумя пальцами туша надгоревшие в подсвечниках свечи. Его странствование нисколько не мешает чтению: Иван Михайлович читает внятно, отчетливо, проникновенно, так что каждое слово западает в душу. Так же прочитывая и шестопсалмие — наизусть, туша свечи. Пел же Иван Михайлович, пожалуй, еще лучше, хоть и не обладая большим голосом. Пел он нежным баритоном, без всяких выкриков и фокусов, задушевно, строго церковно, разумно. Другого подобного церковного певца я не встречал в течение всей своей жизни. По окончании академического курса живя в Петербурге, я ежегодно навещая Витебск и тогда непременно заходил в Николаевскую церковь, чтоб еще раз послушать милого Ивана Михайловича.
Поговаривали, что он часто пропуская лишнюю рюмочку, о чем будто бы свидетельствовал порозовевший кончик его носа. Я ни разу не видел Ивана Михайловича выпившим, но. возможно. эти разговоры имели основание. В те времена нередко случалось, что благочестие уживалось с выпивкой. Был у меня в Петербурге большой приятель — академик, очень умный, честнейший, благороднейший, благочестивый человек, строгий постник; во все постные дни, не исключая обыкновенных среды и пятницы, сам не прикасался и семье своей не разрешал прикасаться ни к чему скоромному. Но от хмельного пития не отказывался ни в будни, ни в праздники, ни в мясоед, ни даже в Великий пост. На этой почве мы с ним однажды поссорились. Вышло это так. Наш общий знакомый пригласил нас обоих к себе на ужин. Была среда, значит, день постный. А знакомый-то наш был очень богат, гостеприимен и постами не интересовался. Наготовил он, чтоб ублажить нас. всякой всячины — и постной, и скоромной. Нас пригласили к столу. Увидев множество мясных закусок, мой приятель насупился, начал покашливать. Это у него означало, что он недоволен. А хозяин как нарочно приставая к нему: «Возьмите ветчины! Замечательная!.. А это гусь копченый. Тоже заслуживает внимания... Таких грибков в сметане, как эти, вы никогда не едали — попробуйте!..» Мой приятель начал раздражаться. Тогда я обратился к нему, наливая только что опорожненную им рюмку: «От этой же постнятинки ты, конечно, не откажешься?» «Ты
25
хочешь, чтоб я ушел отсюда?» — сердито ответил он и после в течение нескольких дней не разговаривал со мной.
В городе нас звали бурсаками и не без оснований: наше училище продолжало сохранять многие особенности старой бурсы, которую так красочно представил Помяловский. Переменились учителя, изменились учебники и методы обучения. Но воспитательная сторона во многих отношениях оставалась прежней. В училище, где было начальство, мы занимались науками, уроками, остальное время проводили на квартирах, в большинстве которых жило по 7-10 учеников. Там мы были предоставлены самим себе. Квартирохозяева не считали своим долгом, да и не обладали нужным авторитетом и способностями, чтоб воспитывать нас. А начальство... О. Матвей жил в соседнем доме с квартирой вдовы Борисович, но за два года он ни разу не зашел к нам. Почти не посещал ученических квартир и помощник смотрителя. Надзиратель Павел Иванович заходил раз-два в месяц, всякий раз не более чем на 5 минут. Задаст, бывало, несколько вопросов: «Все ли дома? Чем занимаетесь? Выучили ли уроки?» — и оставит нас. Правилам приличия и обращения никто нас не учил, идеалов нам никто не рисовал, бесед дружеских, отеческих с нами никто не вел. Единственный человек являлся исключением — это Г.Г. Левицкий, пользовавшийся всяким случаем, чтоб войти в дружеское общение с учеником. Особенно памятны его загородные с нами прогулки. Бывало, выведет нас за город — на Юрьеву горку или еще куда-либо — и там затевает игры, рассказывает нам, беседует с нами, наставляет нас. Если бы каждый учитель хоть отчасти следовал примеру Георгия Гавриловича!
Кажется, иногда начальство намеренно закрывало глаза, чтобы не замечать наших проступков. В то время еще были в моде кулачные бои. В Витебске, как только на реке Западной Двине, делившей город на две части, прочно замерзая лед, начинались бои. Обыкновенно в воскресные или праздничные дни в послеобеденное время в расположении города на обоих высоких берегах реки собирались тысячные толпы народа. Выступали бойцы, рослые, бородатые, иногда лет 50-60. Лучшие бойцы были городскими знаменитостями; их все знали, после каждого боя их имена передавались из уст в уста. На нашей стороне такими знаменитостями были: Парфен, наш училищный служитель, и Бочка, по профессии бондарь, почему и прозвали его так. Огромного роста, толстущий, как бочка, богатырски сильный — он был страшен для своих противников: их ряды валились под его мощными ударами. Парфен был в ином роде: росту выше среднего, худощавый, он брал силою своих мускулов и ловкостью. Благодаря этим двум бойцам победа часто давалась правой (нашей) стороне. Стоявшие на берегах толпы выкриками подбадривали, поощряли, а
26
при удачах бурно приветствовали — каждая сторона своих бойцов. Я не слышал об убитых в этих боях, но возвращающихся со свернутыми скулами, с окровавленными физиономиями не раз видел. Вообще, эти бои представляли дикое зрелище. Однако полиция не препятствовала им.
У нас в училище тоже зимою на переменах между уроками происходили свои бои. Туг одна сторона училища (2-й и 4-й классы) шла против другой (1-й и 3-й классы). Дело начиналось со снежков, переходило в потасовку, а кончалось мордобитием. Каждая сторона имела своих чемпионов. Когда я был в 1-м классе, на старшей стороне (2-й и 4-й классы) выделялся своей силой четвероклассник Яша Емельянович, великовозрастный слабый ученик, в каждом классе отсиживавший по два года. Огромного роста, с большой головой, монгольского типа широким лицом с крохотными глазами и толстым носом, он своей массивностью производил на нас. малышей, большое впечатление, которое еще увеличивалось тем, что он раза два в неделю тупой бритвой скоблил себе бороду. Мы, малыши, тогда с благоговением смотрели на него и каждый в душе завидовал ему.
2-й и 4-й классы как состоящие из более взрослых должны были бы побеждать нашу сторону — 1-й и 3-й классы. Но на нашей стороне был свой удалец — ученик 3-го класса Юзя (Иосиф) Стукалич, красивый, стройный юноша, обладавший большой силой и ловкостью. Благодаря ему часто брала перевес и наша сторона.
Училищные бои происходили, так сказать, под носом начальства. которое о них знало, но намеренно закрывало глаза. Обыкновенно на переменах надзиратель Павел Иванович расхаживая по двору, наблюдая за поведением учеников. Но как только начинался бой, он исчезал со двора.
По субботам после обеда наши бурсаки вели бои с евреями около синагоги, находившейся на северной окраине города недалеко от Ильинской церкви. Бои начинались малышами, вызывавшими евреев на бой. Когда же выступали евреи, нередко с участием взрослых, даже пожилых. тогда из засады выбегали наши бойцы и разгорался серьезный бой. Нашей опорой были Юзя Стукалич и Яша Емельянович. К сожалению, у последнего было слабое место: малейший удар в нос вызывая сильное кровотечение, и Яша выбывая из строя. Третьим по удали и успехам бойцом был мой однокурсник Семен Григорович. У него был свой метод борьбы: бросаясь «баранком», согнув голову, он ударял в живот или в грудь противника и опрокидывая его. Или же он прижимал противника к стене или забору и царапая ему лицо ногтями, специально для этого отпущенными. Это была жестокая операция: кожа клочьями валилась с лица противника, обливавшегося кровью. Я в бойцы не годился и на третьем году учебы мною стали пользоваться только как застрельщиком.
27
Из 1-го класса во 2-й и из 2-го в 3-й я переходил первым по успехам. Летом же, по переходе в 3-й класс, со мною случилось несчастье: собирая в лесу грибы, я встретился с волком, что сильно испугало меня. Я начал заикаться. При малейшем смущении или волнении я терял дар речи. Это чрезвычайно неблагоприятно отразилось на моих успехах, особенно в семинарии, где здоровым меня не знали и где я вынужден был давать только письменные ответы.
III. В семинарии
В августе 1885 г. я не без волнения вступил в священные стены Витебской духовной семинарии как ученик ее. Ректорствовал тогда архимандрит Паисий, в миру священник Петр Виноградов, до назначения на ректорскую должность состоявший законоучителем Витебских мужской и женской гимназий. Неглупый, добрый и общительный, он, однако, отличался странностями. Например, любил в вечернее время посещать классы, служившие ученикам и комнатами для занятий. Но появлялся он в классах в сопровождении своей собаки Бургаса, которому, бывали случаи, сопутствовала сучка. Когда же Бургас начинал безобразничать, наш о. ректор снимал камилавку и, ударяя ею Бургаса, с улыбкой приговаривал: «Какой же ты болван, Бургас! Бесстыдник! Пошел вон!» В оценке успехов архимандрит Паисий был очень пристрастен. Особым его благоволением пользовались певчие семинарского хора. Лучшие певцы могли совсем не учиться, будучи уверены, что о. ректор не допустит, чтобы они остались на второй год в классе. Голосистого и способного ученика Леонтия Астахова он на экзамене принял в семинарию по окончании последним только 3-го класса духовного училища, что неблагоприятно отразилось на последующих успехах Астахова. О. Паисия в семинарии не столько интересовало учебное и воспитательное дело, сколько семинарско-церковный хор, который при нем стоял очень высоко.
Не прерывал о. Паисий общения и со своими бывшими учениками и ученицами — гимназистами и гимназистками. Рассказывали, что он особенно любил знакомить первых со вторыми и чаще всего на бульваре около семинарии. Скончался он в 1900-х годах в сане Туркестанского епископа.
В 1886 г. ректором нашей семинарии стал протоиерей Иаков Андреевич Новицкий, небольшого роста, худенький, с длинной черной бородой. Его семинаристы считали ученым, философом. Может быть, они и правы были, но как ректор больших административных способностей он не проявил, и его участие в управлении семинарией для нас, учеников, осталось незаметным. В 1888 г. он был переведен на должность ректора же в свою род-
28
ную Курскую семинарию, и там его застала революция. Скончался он глубоким стариком сравнительно недавно.
Его заместил бывший преподаватель Полтавской семинарии протоиерей Иван Христофорович Пичета, по происхождению герцоговинец, питомец Киевской духовной академии. Когда я в Петербурге в музее императора Александра III рассматривал известную картину «Принесение Исаака в жертву», мне показалось, что изображение Авраама списано художником с протоиерея И.Х. Пичеты: густая грива волос, правильные и выразительные черты лица, длинная с проседью борода, — все как у протоиерея И.Х. Пичеты. К сказанному надо прибавить, что он был очень высокого роста и крепкого сложения.
Ученики невзлюбили о. Пичету: он им показался неприступным и слишком строгим. На самом же деле это был очень добрый, заботливый человек, разумный администратор, во многих отношениях улучшивший быт нашей семинарии. Его доброе сердце в особенности проявилось после семинарского бунта 26 октября 1889 г., главным образом, против него направленного. В этом бунте он был невиновен, а виновна была группа семинаристов, одни из которых не поняли, а другие оклеветали своего ректора. Бунт проходил безобразно: в огромном семинарском здании были выбиты окна, поломаны некоторые двери: собирались убить самого о. ректора. И это все происходило в то время, когда тут же, в квартире ректора, умирал от туберкулеза его первенец, студент университета. Виновники заслуживали большой кары, но ни один из них не пострадал, так как милостивый о. ректор всем им выхлопотал прошение. В следующем, 1890 г., протоиерей И.Х. Пичета перевелся ректором в Полтавскую семинарию. А скончался он, кажется, в 1920 г., будучи настоятелем кладбищенской церкви в г. Харькове.
Ректором нашей семинарии после о. Пичеты был назначен архимандрит Геннадий (Оконешников, из московских купцов), до того времени служивший в Афинах настоятелем посольской церкви. Назначение о. Геннадия ректором семинарии показывало, с каким безразличием относилась тогда высшая церковная власть к выбору кандидатов даже на такие ответственные должности, как ректорские в семинариях. Я. тогда ученик 6-го класса, почему-то был избран о. Геннадием в его митродержцы и потому всегда сопутствовал ему в его поездках для богослужений в кафедральный собор и другие церкви, наблюдал его и в классе на уроках, и в его квартире. Со мною он всегда был ласков, приветлив, часто угощал меня, а иногда предлагал мне пригласить к нему для угощения двух-трех моих товарищей. Кроме хорошего, я лично ничего не видел от него. Но по совести должен сказать, что трудно было найти более неподходящего, чем о. Геннадий, человека для занятия ректорской должности.
29
Начать с того, что он весил более 12 пудов. Это была какая-то заплывшая жиром туша. Усаживаясь в экипаже, он занимал все сиденье, и мне приходилось жаться к стенке. В трескучие морозы он выезжал на открытых санках в летней легкой рясе: никакой мороз не мог добраться до костей его. При длинных богослужениях он обливался потом, его подризник превращался в мокрую тряпку, как будто она только что была вынута из воды, и ключарь собора всякий раз жаловался, что о. ректор портит соборные облачения.
тучность о. ректора была благоприобретенной. Он любил покушать вкусно и обильно. Его кладовая ломилась от множества дорогих соленых рыб и разных закусок. Любил он и других угостить. В храмовый семинарский праздник (святых Кирилла и Мефодия, 11 мая) обед, которым он угощал почетных гостей — архиерея, губернатора и других губернских сановников, — был лукулловским. Ни раньше, ни после ни один ректор не давал такого обеда. Даже меня и моих товарищей, когда мы приглашались к нему, он угощал по-царски. Ученики прозвали его Пирожки, так как единственными темами в его нечастых разговорах с учениками были питательные: о пирогах (он произносил: «пирожки»), о вкусных селедках и тому подобном.
Самым же ужасным было то, что, разжирев телом, о. Геннадий сильно ослабел умом: полученное им академическое образование совсем не давало о себе знать. Память на лица у него отсутствовала — меня, митродержца, и то он не всякий раз узнавал, а что уж говорить о прочих. Этой его слабостью чаще других пользовались два моих товарища по классу — Щербов Саша и Шимкович Вася. Это были закадычные друзья, неизменно сидевшие рядом на задней скамейке. Сходства между ними было не больше, чем между мужским сапогом и дамским ботинком: Щербов — высокого роста стройный брюнет с продолговатым лицом и нежным баритоном: Шимкович — росту не выше среднего, белокурый, с лицом широким, говорил низким голосом, шепелявя, пел октавой. И одевались они по-разному: Щербов любил черный и темно-синий цвета, Шимкович предпочитал серый цвет. Но о. ректор никак не мог различить, который же из них Щербов и который Шимкович. Как не мог запомнить и того, что Вася — Шимкович. а не Шишкович. Приятели этим воспользовались: они условились по очереди готовиться к ректорскому уроку (Священное Писание в 6-м классе), к одному — Щербов, к следующему — Шимкович, и которого бы из них ни вызвал ректор, выходить приготовившемуся. Так они и действовали в течение всего года: Щербов часто отвечал за Шимковича, Шимкович — за Щербова. Ученики улыбались, а ректор не замечал этой грубой проделки.
Его преподавание Священного Писания Нового Завета (курса 6-го класса) было смехотворным. Никаких объяснений или разъ-
30
яснений. О. Геннадий требовал от отвечающего только перевода священного текста с греческого на русский язык. Ученики запаслись изданиями Нового Завета с двумя текстами — греческим и русским — и по ним отвечали, разбавляя русский перевод кое-чем из учебника. Получалась забавная картина: о. ректор сидел на кафедре, отвечающий стоял около него с Новым Заветом и по нему прочитывал русский текст, приводя о. ректора в удивление, что ученики так свободно и точно переводят с греческого.
В последний раз я видел архимандрита Геннадия перед Рождеством 1891 г., когда я служил псаломщиком в селе. Прибыв в Витебск, я остановился у своего бывшего товарища, Иосифа Григорьевича Автухова, тогда служившего надзирателем в семинарии. Его комната только стеною отделялась от ректорской квартиры. Возвращаясь с ним из города, мы около дверей надзирательской квартиры встретились с ректором. Всего шесть месяцев тому назад он убеждал меня поступать в академию. Но у меня не было денег на поездку, да и тянула меня к себе деревня. О. Геннадий узнал меня лишь после того, как Автухов напомнил ему. «Вы из академии приехали?» — спросил он меня. «Нет, из деревни», — ответил я. «Что же вы там делаете?» — «Служу псаломщиком». — «А дальше что будете делать?» — «Женюсь, священником стану». — «Женитесь, женитесь! Помрет жена, тогда поедете в академию...» Тут о. Геннадий оказался пророком.
Воспитательной частью в семинарии заведовал инспектор. Когда я поступил в семинарию, инспектором был магистр богословия Петр Людвигович Дружиловский, с давних лет инспекторствовавший в нашей семинарии. Ученики звали его Папашкой. Возраст Петра Людвиговича по его бритому, заплывшему жиром лицу и почти бритой голове определить нельзя было. Должно быть, он тогда подбирался к 70. В городе Петр Людвигович был всем известен, так как более тучного, чем он, человека там не было. По толщине он не уступал архимандриту Геннадию, только у последнего ряса значительно скрывала толщину. Петр Людвигович как будто не ходил, а плавал или, вернее, катился, как сорокаведерная бочка. Среди учеников ходила молва, что наш инспектор — большой ученый. Но в мое время Петр Людвигович ни в чем не проявлял своей учености.
Воспитательская роль Петра Людвиговича проявлялась в следующем. Точно в 8.45 утра, за четверть часа до звонка к урокам, из находившейся в другом конце семинарского сада инспекторской квартиры выплывала грузная фигура инспектора и, покачиваясь, по мосткам через весь сад направлялась к семинарскому двухэтажному зданию, в котором помещались классы. Во всех классах раздавались голоса: «Папашка идет! Папашка идет! Держись, Околович! Не осрамись, Попейко! Папашка идет!» Последнее обращение относилось к провинившимся ученикам, которых
31
ожидало объяснение с Папашкой. У входа в здание Папашку встречал надзиратель с шестью классными журналами под мышкой. Инспектор небрежно протягивал ему руку, и оба они начинали обход классов. Войдя в класс, Папашка здоровался и приглашал учеников сесть, а сам продолжал стоять около первого ряда парт. Надзиратель подавал ему классный журнал, в котором двойками отмечались учебные грехопадения учеников. Папашка вызывал каждого вчерашнего двоечника отдельно, требовал объяснения, делал внушения. По большей части ученические объяснения бывали однообразны: «Не мог выучить урока, потому что голова болела, потому что живот болел» — и тому подобное. Шаблонны были и Папашкины внушения: «Болван этакий, ты должен был заблаговременно выучить урок; ты должен был врачу показаться и учителю заявить о твоей болезни» — и так далее. Но бывали и комические случаи.
Ученик 3-го класса Степан Околович, щупленький изобретательный мальчишка, получил двойку по математике. Он знал, что Папашка ничего не смыслит в математике, и уже придумал объяснение. «Степан Околович!» — раздается голое инспектора. Околович, принимая печальный вид, выходит на середину класса и становится около инспектора, почти касаясь его брюха. «У тебя тут стоит двойка по математике», — говорит инспектор. «Стоит, господин инспектор», — отвечает Околович и кулаком трет глаза, делая вид, что плачет. «Ты чего же не знал?» — спрашивает инспектор. «Не мог извлечь квадратного корня из гипотенузы», — отвечает жалобным голосом Околович. «Такой простой вещи не мог ты ответить! Чтоб ты разучил этот вопрос! Убирайся!» — говорит Папашка. Околович возвращается на свою парту, улыбаясь и показывая язык. Он доволен разыгранной комедией.
А то вызывает Папашка ученика 3-го класса Леонида Попейко, толкового и остроумного, но очень шаловливого и с большой ленцой мальчика. Вчера он получил двойку по гражданской истории. «У тебя тут двойка по истории», — говорит Папашка. «Да, двойка», — смиренно соглашается Попейко. «Ты почему же не выучил урока?» — спрашивает инспектор. «Вчера Осип (старик, семинарский повар) не доварил борщ с рыбой, и у меня приключился сильнейший понос — некогда было учить уроки». — объясняет Попейко. «Пошел на место, свинья!» — говорит Папашка и делает носом такое движение, как будто еще пахнет от Попейко. Леонид возвращается на свое место, приговаривая вполголоса: «Свинья... Свинья! Виноват Осип, а меня называют свиньей».
По понедельникам и попраздненственным дням Папашка пробирал еще провинившихся в отношении отпусков, то есть возвращавшихся в семинарию после разрешенного им часа и не оказавшихся на месте во время ночной проверки.
32
Ученик 6-го класса Коля Слупский, 22-летний парень, не особенно способный и достаточно наивный, был отпущен Папашкой «в гости» до 11 часов вечера. Но парень знал, что ему не вернуться ранее 2-3 часов ночи, и попросил приятелей скрыть его отсутствие, положив на его кровать «болвана». Приятели честно исполнили просьбу: свернули три пальто, сверток положили на Колину постель и закрыли его одеялом. Получалось впечатление, что под одеялом лежит человек. Но опытный глаз производившего в первом часу ночи проверку надзирателя обнаружил обман, и теперь виновный вызывался Папашкой к ответу: «Ты, Слупский, когда вернулся вчера из отпуска?» Коля уразумел, что лгать бесполезно, и честно ответил: «В 3-м часу ночи» — «А кто же лежал на твоей кровати?» — «Болван, господин инспектор». — «Значит, болваны положили болвана. А сегодня за обедом ты посидишь болваном за голодным столом в назидание младшим», — присудил Папашка. Для ученика выпускного класса такое наказание считалось очень тяжелым.
Кроме этих ежедневных посещений, при которых нередко не возвышался, а ронялся авторитет инспектора и которые, в общем, были совершенно бесплодны, воспитательская деятельность Петра Людвиговича выражалась еще в том, что он присутствовал на всех училищных богослужениях, монументально стоя впереди ученических рядов: часто появлялся во время обедов и ужинов в столовой. И только. Живого общения между ним и учениками не было. Его ни любили, ни ненавидели; к его обличениям и прещениям относились спокойно, не смущаясь и не огорчаясь ими.
К чести Петра Людвиговича надо отнести то, что у него не было никаких наушников и шпионов из учеников. А этим недугом тогда страдали многие, особенно молодые семинарские инспекторы и ректоры. Но, конечно, как инспектор он не отвечал назначению. И энергичный ректор И.Х. Пичета добился, чтобы Петр Людвигович ушел в отставку. На его место был назначен преподаватель Полтавской духовной семинарии Василий Ананиевич Демидовский.
Уже пожилой, с седой, коротко остриженной головой и седой же недлинною бородой, среднего роста, плотный, но совсем не тучный, всегда спокойный, ласковый и приветливый, неизменно добрый, он заслуживал названия Папаша, каким скоро ученики его окрестили. Он часто по-отечески беседовал с ними, и скоро все мы его полюбили. Но в то время как распущенные ликовали, что инспектор такой добрый, более серьезные и строгие сожалели. что у нашего инспектора, по своему званию обязанного всех одинаково блюсти, чтобы не страдали и любовь, и истина, нет в руках железного жезла, которым бы он укрощал противящихся истине.
33
Преподавал Василий Ананиевич Священное Писание Нового Завета (курс 5-го класса. Евангелия) одушевленно, красочно, увлекаясь известным сочинением Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Мы увлекались его преподаванием.
У инспектора нашей семинарии было два сотрудника по воспитательной части: помощник инспектора и надзиратель. В течение последних 4 лет моего пребывания в семинарии первую должность занимал кандидат богословия Николай Степанович Минервин. вторую — студент нашей семинарии выпуска 1887 г. Петр Тарасьевич Никифоровский. Нелегко им было заслужить любовь и уважение своих пасомых. По установившимся традициям чины инспекторского надзора были не чем иным, как полицейскими чиновниками, обязанными не пушать, ловить, хватать блудных овец. Положительных обязанностей на них не возлагалось, а лишь отрицательные. Но благодаря своей доброте, тактичности и разумному отношению к делу оба они были любимы и уважаемы нами. В особенности памятен Минервин. Он всегда умел отличить преступную выходку ученика от ошибки, и, найдя ошибку, какой бы ни была она крупной, он покрывал ее. Его мудрость я испытал на себе, будучи учеником 2-го класса. Будь кто-либо другой на месте Минервина. меня могли бы изгнать из семинарии.
На долю этих двух чинов семинарской инспекции выпадало много работы: они должны были между 7.00 и 7.30 утра побывать во всех спальнях, чтоб поднять заспавшихся; в 8.00 утра быть на общей молитве: в 8.45 четверть часа сопровождать инспектора при обходе им классов; с 9.00 до 13.00 дежурить во время уроков: в 13.00 присутствовать в столовой во время обеда: с 5 до 9 часов вечера дежурить, наблюдая за порядком во время вечерних занятий учеников в классах; в 9 часов вечера присутствовать в столовой во время ужина и на вечерней молитве; ночью в 12.00-1.00 проверять учеников в спальнях: следить за учениками и в промежуточные между обедом и вечерними занятиями часы. и после ужина. К этому еще надо добавить обязательное для них выстаивание длинных семинарских богослужений и, хоть не частое, посещение нескольких частных квартир. И все это, чтобы выслеживать, ловить и потом докладывать инспектору. Не всякий мог примириться с такого рода обязанностями. Неудивительно поэтому, что П.Т. Никифоровский променял свою должность на должность псаломщика, приняв назначение в с. Загорье, где священствовал его пожилой отец.
Самое добросовестное исполнение членами семинарской инспекции своих обязанностей как блюстителей порядка и благонравия не спасало, однако, семинарию от иногда возмутительных эксцессов со стороны ее питомцев. К этому вопросу я вернусь после. Теперь же скажу несколько о семинарском преподавательском персонале того времени.
34
В общем, наш преподавательский персонал был отличный. Наши духовные академии того времени выпускали серьезно подготовленных. всесторонне образованных, разумных богословов.
Получивший назначение на какой-либо предмет обыкновенно преподавал его до глубокой старости. Случаи перехода на другой предмет были очень редки. Неудивительно поэтому, что в наших семинариях вырабатывались очень дельные, искушенные в своих предметах преподаватели. К этому надо прибавить, что искавшие земных благ кандидаты духовных академий устраивались на других должностях, не исключая Ведомства государственного коннозаводства, семинарская же служба оплачивалась скудно, и сюда шли по большей части жрецы науки, самоотверженные работники на ниве Христовой.
Священное Писание Ветхого Завета в первых четырех классах преподавал Федор Иванович Покровский. Небольшого роста, худенький, с рыжеватенькой клинышком бородкой и немножко кривыми ногами, всегда чистенький и аккуратно причесанный, он своим наружным видом производил самое приятное впечатление. Все преподаватели являлись на уроки обязательно в форменных, с металлическими белыми пуговицами фраках: Федор Иванович часто приходил на урок в обыкновенном костюме: в черном сюртуке и черных же полосками штанах, в каких теперь появляются на разных официальных торжествах министры. Федор Иванович был бездетен, жизнь проводил совершенно трезвую и скромную и поэтому мог следовать примеру одного английского государственного деятеля: «Я не настолько богат, чтобы носить дешевые костюмы». Костюмы для себя Федор Иванович всегда заказывал из самой добротной, дорогой материи.
Ученики звали Федора Ивановича Сусликом. В этом прозвище отнюдь не выражалось ни насмешки, ни тем более неуважения. Это прозвище всегда произносилось с нежностью, иногда в уменьшительном виде — Сусличек и почти всегда с добавлением «наш». Это был у нас самый любимый и чтимый преподаватель. И Федор Иванович заслуженно пользовался нашей любовью и почтением.
Как преподаватель Федор Иванович был выше всякой похвалы. Свой предмет он преподавал восторженно, проникновенно, художественно. Мы заслушивались его объяснениями, ловили каждое его слово. Чтобы не огорчить любимого учителя, мы старались добросовестно готовить уроки по его предмету. Поступив в академию, я невольно сравнивал нашего Федора Ивановича с академическим профессором по Ветхому Завету и, совсем не намереваясь умалять достоинства этого профессора, должен по совести сказать, что сравнение было далеко не в его пользу.
35
Вскоре по окончании мною семинарского курса Федор Иванович был назначен на инспекторскую должность в Рижскую, а потом в Псковскую2 семинарию, где он и закончил дни свои.
Другим очень любимым нами учителем был преподаватель основного, догматического и нравственного богословия Николай Макарович Миловзоров. Говорили, что он блестяще окончил курс академии и должен был стать профессором. Но судьба забросила его в нашу семинарию. Это был на редкость дельный, серьезный преподаватель. В своих объяснениях он всегда дополнял учебник сведениями из разных пособий. Иногда его преподавание принимало академический характер, когда он в течение 3-4 уроков подряд лекционно разъяснял нам тот или иной вопрос, читал всегда дельно, глубоко проникая в предмет, красноречиво. После при ученических ответах он проверял, насколько его лекции поняты и усвоены нами. Его отношение к ученикам было в высшей степени деликатным: он никогда не позволял себе острить или насмехаться, не называл ученика на «ты». Впрочем, на «вы» обращались к нам и другие преподаватели. Только старики — инспектор П.Л. Дружиловский и Н.Ф. Попов (о нем пойдет речь ниже) — называли нас на «ты». Покровский никогда не «поддавливал» учеников. вызывая не в очередь. Каждый из нас мог безошибочно высчитать. на каком уровне он будет спрошен Николаем Макаровичем. Правда, некоторые пользовались этим и за это потом перед экзаменс1ми несли заслуженное наказание, когда надо было доучивать все, пропущенное ими в течение года, так как в конце учебного года мы держали экзамены по всем предметам курса.
Кром этого, у нас Николай Макарович слыл за благочестивейшего человека, строго соблюдавшего все посты, спавшего почти на голых досках и вообще ведшего благочестивую жизнь. Рассказывали, что он был влюблен, собирался жениться, но невеста его неожиданно умерла. После того он ежедневно посещал ее могилу на кладбище Покровской церкви.
В начале девяностых годов он перешел на службу в свою родную Рязанскую семинарию, где затем в первых четырех классах преподавал Священное Писание Ветхого Завета. Я очень удивлялся, когда в бытность мою студентом академии рязанские семинаристы отзывались о нем как о заурядном преподавателе. Я объяснял это тем, что. очевидно, и предмет не пришелся ему по сердцу, и ученики для него требовались иные — старших, а не младших классов. В Рязани он и доживал свой век.
Общую и русскую церковную историю преподавал нам и секретарствовал в семинарском правлении Александр Георгиевич Любимов, мужчина лет под сорок, среднего роста, худощавый, со скобелевской (расчесанной надвое) русой бородой. За его походку, за манеру чопорно, неприступно, даже надменно держать се-
36
бя ученики завали его Солдатом. При встречах с ним в городе семинаристы старших классов не раскланивались с ним, потому что он делал вид, что не замечает их, и не отвечал на их приветствия.
Большим умом он не отличался, но преподавал свой предмет отлично: рассказывал, объясняя задаваемый урок ясно, исчерпывающе, красиво, не удовлетворяясь учебниками, но искусно дополняя их сведениями из разных капитальных сочинений. Во время объяснения он ходил взад и вперед по классу, заложив руки в карманы брюк, выставив бороду вперед и не глядя на учеников. Манера странная, но мы скоро к ней привыкли и не обращали на нее внимания.
В 90-х годах он переменил службу — был назначен на должность правителя канцелярии витебского губернатора. На этой должности он не стяжал себе ни любви, ни славы. А по душе он был совсем не злой, а даже добрый человек.
Логику, философию, психологию и педагогику нам преподавал «наш генерал» — Михаил Иванович Лебедев, магистр богословия, действительный статский советник (гражданский генеральский чин), директор женской гимназии. Росту выше среднего, с красивой седеющей шевелюрой (ему было за 50) и такой же бородкой, приятно, легко улыбающийся, медлительный и важный, он одним своим наружным видом производил на семинаристов большое впечатление. На уроки он неизменно опаздывал. В противоположность А.Г. Любимову, а тем более Ф.И. Покровскому и Н.А. Миловзорову он не увлекал нас своими объяснениями: говорил медленно, с остановками, задумываясь, подбирая слова и фразы. Нам было скучновато, но мы тогда думали, что так и подобает говорить философу. Теперь я думаю иначе: нашему Михаилу Ивановичу или было некогда, или он ленился готовиться к урокам.
Русскую литературу в первых трех классах нам преподавал Иван Петрович Виноградов. Он же преподавал и немецкий язык. Наружный вид его был очень внушителен: брюнет огромного роста, с изящно подстриженной бородкой, в очках с золотой оправой, Иван Петрович производил впечатление русского барина. Блестящим преподавателем назвать его нельзя было, но все же он очень добросовестно относился к делу, в обращении с учениками был ровен и благороден, терпеливо выслушивая и их глупости. Вспоминаю следующий случай. Мы в 3-м классе. Отвечает Ф. Зубовский, совсем не блестящий ученик. Плавает, извергая нелепые глаголы. Во время ответов учеников Иван Петрович обыкновенно, заложив руки назад, шагал по классу. Но вот он остановился и, наклонив голову, чрез очки устремил свой взор на Зубовского. А тот продолжал нести галиматью. Наконец Иван Петрович не выдержал. «Откуда вы все это взяли?» — обратился
37
он к отвечающему. «Из учебника», — ответил тот. «Покажите мне ваш учебник!» Фаня — так мы звали Зубовского — с торжествующим видом понес учебник. «Какой это мудрец сделал тут разметки?» — спросил Иван Петрович. Фаня с гордостью ответил: «Я сам». «В будущем вы уж не пытайтесь сокращать. А то получается черт знает что такое», — сказал Иван Петрович. Фаня потом возмущался поставленной ему за этот ответ двойкой: «Так хорошо выучил урок, и мне поставили двойку. Несправедливо!»
Своим учителям по русскому языку Г.Г. Левицкому и И.П. Виноградову я остаюсь благодарным за данные ими мне советы. Первый в бытность мою учеником 3-го класса духовного училища, разбирая мое сочинение, сказал мне: «Не мудрствуйте вы лукаво! Пишите сочинение так. будто вы пишете не сочинение, а письмо к своему брату, другу, знакомому, которому вы должны разъяснить поставленный в теме вопрос. Тогда у вас будет выходить живо, задушевно, интересно». В семинарии И.П. Виноградов при оценке моего сочинения заметил: «Сочинение неплохое. Но суховато вы пишете. И стиль у вас хромает. Читайте-ка побольше Тургенева, он вас научит, как надо писать». Оба совета очень пригодились мне.
Преподавателем общей и русской гражданской истории (в первых трех классах) был Михаил Алексеевич Преображенский, за 40 лет от роду, красивый брюнет с роскошной шевелюрой и маленькой бородкой, широкоплечий, росту выше среднего, добрый и приветливый, нестрогий. Преподавал разумно и интересно. Мы любили его. К сожалению, до нас доносились слухи, что он неравнодушен к хмельному питию, что бедственно отражалось на материальном положении его семьи. Надо к чести его сказать, что этот свой недостаток, если только он страдал им, он умело скрывал от взора людского.
Математику и физику преподавал и в гимнастике упражнял нас Иван Федорович Иваницкий, бывший семинарист, а теперь единственный человек с университетским дипломом в семинарской учительской корпорации. Его товарищи по семинарии рассказывали, что среди них он был чуть ли не самым плохим математиком. Плохим математиком он был и на учительской кафедре. Не умел он ни заинтересовать, ни приохотить учеников. Своим слабым преподаванием он достигал того, что даже очень способные получали отвращение к его предмету. Кроме того, он был обидно наивен, и этим часто пользовались ученики.
Мы в 1-м классе. Прозвенел звонок пред началом урока. Мы ждем прихода Ивана Федоровича. Многие ученики волнуются: они не решили заданных математических задач и теперь дрожат от страха, что их ожидают единицы, на которые был очень щедр Иваницкий. Самые отчаянные сорванцы в классе — Степан Околович, щупленький, но коварный мальчишка, Леонид Попейко и
38
Семен Григорович — о чем-то совещаются. Мы знаем, что Иван Федорович непременно вызовет их. Приходит Иван Федорович, начинается урок. Один за другим проваливаются три ученика. Каждого из них Иван Федорович награждает колом (единицей). Четвертым вызывается Околович. Тихими шагами подходит он к классной доске, делает низкий поклон учителю и, взяв мел, начинает чертить на доске что-то невразумительное. А у Ивана Федоровича любимое слово «голубчик», которым он пользовался и проявляя к ученику ласку, и упрекая его. «Голубчик, Околович! Что вы тут такое чертите?» — спрашивает сошедший с кафедры Иваницкий. Вместо ответа Околович роняет мел и со всего размаху падает на пол. Попейко и Григорович стрелою подлетают к нему, хватают его один за плечи, а другой за ноги и тащат из класса. В коридоре Околович сразу «выздоравливает», и они втроем, смеющиеся, радостные, уходят в другое училищное здание. Конечно, они не вернутся. Они спасены. Благодаря им спасены и другие, потому что испугавшийся, побледневший Иван Федорович прекращает опрос учеников. Его интерес теперь сосредоточен всецело на Околовиче: почему с ним случился обморок, почему Околович такой бледненький и худенький и тому подобное. Мы наперебой объясняем ему: «Теперь, в Великий пост, нас кормят скудно и невкусно, все мы голодаем, вот и отощал Околович. А учителя, как и вы, Иван Федорович, не считаются с этим и еще более изнуряют нас своими заданиями». Иваницкий сочувствует нам, обещает снисходительнее относиться к нам. В объяснениях проходит весь урок. Как только Иван Федорович вышел из класса, в класс влетели сияющие три наших проказника. Они, как и другие, которым угрожали колы, были в восторге от проделки.
Другой случай. Нас, учеников 4-го класса, Иван Федорович привел в физический кабинет для демонстрации опытов. Кабинет небогатый, а экспериментатор несчастливый: часто не удаются у него опыты. Лучшие ученики полукругом стоят около учителя и внимательно следят за его действиями, худшие бесцельно бродят по кабинету, а наши «выпивалы» — верзила Павел Покровский и опустившийся Вася Ноздровский — подходит к стоявшей в шкафу бутылке с чистым в 95° спиртом и по очереди потягивают из ее горлышка. Когда уже бутылка опорожнена, Ивану Федоровичу потребовался спирт для опыта, и он приказал принести злополучную бутылку. «Скажи ему, — шепнул посланному Покровский, — что я с Васькой по ошибке вместо воды его спирт выпили!» Иван Федорович заволновался: «Какой ужас! Нельзя быть такими неосторожными... Они же могут отравиться... Где они?» Захмелевшие Покровский и Ноздровский подошли к нему. «Голубчики! — продолжал волноваться Иван Федорович. — Можно ли быть такими неосторожными? Скорее идите к фельдшеру.
39
чтобы он дал вам лекарство!» А им только и надо было это. Они немедленно отправились: только не к фельдшеру, а в кладовую, где в их сундучках имелось соленое сало — чудесная закуска к выпитому спирту.
Ученики не любили Ивана Федоровича, но был случай, когда они искренне посочувствовали ему. Кажется, в 1886 г. ученик 2-го класса Иван Околович, старший брат нашего Околовича, обозлившись на Ивана Федоровича за то, что тот ставил ему двойки, во время урока проник в учительскую и острым ножом полоснул по спине дорогой, новенькой шубы Ивана Федоровича. Иваницкий был очень состоятельным человеком, и порча шубы материально не разорила его. Но этим ни в какой мере не оправдывался дерзкий и дикий поступок Околовича. Ученики приняли как справедливейшее возмездие Околовичу — изгнание его правлением из семинарии — и нарекли его Шуборезом.
Обличительное богословие, историю и обличение русского раскола преподавал нам Петр Павлович Зубовский, только что окончивший курс академии, человек очень способный и еще более трудолюбивый, в обращении с учениками всегда деликатный и доброжелательный. И не он, а определенно порочный учебник был виновен в том. что изучение нами «Обличения русского раскола» насколько было мучительным, настолько же оказывалось и бесплодным. Учебник этот был составлен по системе практиковавшихся тогда во всей России миссионерских блудословий, именовавшихся собеседованиями со старообрядцами, часто озлоблявшихся и редко обращавших последних к Православной Церкви. Учебник был переполнен иногда очень длинными выдержками из старопечатных книг, говорящими против разных пунктов старообрядческой веры. Точный и исполнительный Петр Павлович требовал, чтобы мы наизусть заучивали эти выдержки. Самое название предмета «обличением» было порочным. Обличение чаще раздражает, чем привлекает. А старообрядцев надо было привлекать любовию, разъяснениями их близости к нам, единства с нами по вере, греховности нашего разделения.
Вскоре, чуть ли не в 1891 г., Петр Павлович был назначен на должность правителя канцелярии витебского губернатора, а затем вскоре же переведен на службу в Петербург. Перед революцией он был товарищем министра земледелия. Скончался он, кажется, в 1923 г. в Калиновском монастыре Велико-Тырновской епархии в Болгарии. Там тогда помещалось Русское земледельческое училище, в котором он преподавал пение и исполнял какие-то хозяйственные обязанности.
Греческий и французский языки преподавал Алексей Никанорович Боголюбов, благообразный, деликатный, благороднейший человек. Скоро он принял священный сан и, оставаясь учителем
40
семинарии, состоял затем священником кафедрального собора. Страшный недуг — туберкулез — скоро свел его в могилу.
Латинский язык и церковное пение преподавал Николай Ферапонтович Попов, благообразный старик за 60 лет, с красивой поседевшей шевелюрой и длинной седой бородой, доброжелательный и благодушный. К нам он всегда обращался так: ребята или мальцы. В обеих ролях — и как латинист, и как певец — он был забавен. На латинский язык в семинарском образовании он смотрел как на аппендикс в человеческом организме. Придя в класс, он норовил как бы бросить перевод и заняться болтовней с учениками и пользовался всяким случаем к этому. Встретится слово «метеор», и Николай Ферапонтович спрашивает нас: «Вы, ребята, знаете, что такое метеор?» Нам тоже неохота заниматься латынью, и мы дружно кричим: «Не знаем! Не знаем!» Хоть каждый из нас хорошо знает, что такое метеоры. «Я объясню вам, — начинает Николай Ферапонтович. — Метеоры — это падающие звезды. Понимаете ли, от планет отрываются куски и летят на Землю... Тебе что надо. Сенька?» — обращается он, прервав объяснение к С. Григоровичу, увидев, что тот поднялся за партой. Семен Григорович считает себя знакомым Николая Ферапонтовича: дом его родителей забором отделяется от дома Попова, и тот по обыкновению заходит к ним поиграть в карты. На уроках Семен часто допекал Николая Ферапонтовича своими каверзными вопросами, и Попов строго запретил ему беспокоить его. «Позвольте мне, Николай Ферапонтович, спросить вас!» — смиренно обращается Семен. — «Спрашивай!» — «А что это будет, когда все пооторвется?» На лице Николая Ферапонтовича изображается и удивление, и возмущение. «Это все равно, что ты мне плюху дал. Сказано было тебе, чтоб ты не лез ко мне со своими глупыми вопросами», — повышает голос Николай Ферапонтович. «Я же просил у вас разрешения, и вы, Николай Фараонтьевич, разрешили мне спросить вас». — «Фараонтьевич, Фараонтьевич!.. Я тебе покажу Фараонтьевича! Вот скажу инспектору. что ты по ночам через забор лазишь к моей кухарке... Тогда узнаешь Фараонтьевича». Таким образом прерывался почти каждый рассказ Попова: если не Григорович, то Околович или еще кто-либо лукавым вопросом выводил его из себя. О взятии Трои Николай Ферапонтович рассказывал в течение года и не смог окончить рассказ. С ответами тоже немало случалось забавных курьезов. В общем, в семинарии мы не совершенствовались в латинском языке, а забывали его.
С пением еще забавнее выходило. В пении Николай Ферапонтович почти так же был силен, как мы в китайской грамоте. Камертоном он не умел пользоваться и приходил в класс с маленькой металлической трубочкой, издававшей один звук. Обыкновенно мы таким образом совершенствовались в пении: Нико-
41
лай Ферапонтович затягивал своим старческим голосом, а мы затем подлаживались к нему. Во всех классах учились петь одно и то же: «Господи, воззвах» и «Бог Господь», на все гласы и почти на каждом уроке — догматик «Всемирную славу». Один последний урок месяца Николай Ферапонтович посвящал спросу учеников, чтоб выставить месячные баллы. Тут случалось множество курьезов, и чаще всего виновником их бывал С. Григорович. У него, как говорилось, не было «ни гласа, ни послушания», то есть ни голоса, ни слуха. Когда на уроке проходил опрос учеников, он обыкновенно сидел с закутанным горлом: мол. у него болит горло и он не может петь. Николай Ферапонтович привык к этому и не спрашивал его. Но вот на одном из таких уроков мы увидели Семена без всяких повязок на горле. Николай Ферапонтович тоже обратил на это внимание и спросил: «Ты. Семен, будешь сегодня отвечать?» «Буду!» — гордо ответил тот. «Что же ты споешь мне?» — «Что прикажете». — «Дивно это мне. Пропой-ка «Господи, воззвах» на пятый глас». Семен раскрыл рот. начал двигать губс1ми. а сзади раздалась октава Васи Шимковича, которого Семен усадил за своей спиной. «Ты что же не поешь?» — обратился к нему Попов. «Это же моя, Николай Ферапонтович, октава», — объяснил Семен.
Николай Ферапонтович был очень огорчен, когда ревизор признал его преподавание негодным. Сожалели и ученики, что им уже нельзя будет балаганить на уроках пения.
Пастырское богословие (наука об идейной и практической сторонах пастырского служения), литургику (наука о богослужении) и гомилетику (наука о проповедничестве) преподавал нам Василий Ильич Добровольский.
Будучи студентом академии, я осведомлялся у своих товарищей о преподавателях этих предметов в их семинариях. Оказалось, что в большинстве семинарий эти предметы преподавались неудачниками. В этом было нечто странное, печальное и даже, может быть, провиденциальное. Ведь семинаристы готовились прежде всего к тому, чтобы стать священниками. А для священнического служения эти предметы были самыми необходимыми. Можно было быть хорошим сельским и городским священником, не будучи большим богословом, историком, будучи плохим математиком. плохим по тогдашней мерке «обличителем» раскола, будучи полным невеждою в древних и новых языках. Но каждый священник должен был уметь проповедовать, знать и понимать богослужение, быть сведущим и разумным в священнической практике. Преподаватель этих предметов, кроме того, должен был воспламенять души своих учеников, разжигать в них любовь к разумному, идейному пастырскому служению. Чтобы выполнить эти требования, сам преподаватель должен быть идейным, вдохновенным, глубоко понимающим природу, дух и задачи пас-
42
тырства. Я считаю, что преподавателем этих предметов должен быть священник, не просто облаченный в рясу, а предварительно поработавший на приходской службе, ибо нельзя не умудрившемуся в пастырстве учить других пастырству.
Чем объяснить, что на кафедрах этих предметов оказывались несчастливые, незадачливые кандидаты духовных академий? По-моему, по одной из двух причин или по обеим причинам вместе. Или кандидаты духовных академий считали эти предметы менее интересными и в то же время более трудными, тогда как для успешного преподавания их кроме учебников и пособий требовались еще пастырское настроение, высокий полет мысли учителя. Или высшая церковная власть не придавала нужного значения этим предметам и неразборчиво назначала преподавателей. не считаясь с их пригодностью для той или иной кафедры.
Наш Василий Ильич был рожден не для педагогического дела — бывают такие персонажи, что, в какую школу его ни назначь, на какую кафедру его ни посади, везде он будет и мучителем. и мучеником. Наш Добровольский принадлежал к числу таких персонажей. Во всей фигуре его проглядывала какая-то обреченность. Не представивши Василия Ильича, нельзя понять этого. В 1890 г. ему было не более 35 лет, но он выглядел гораздо старше. Росту выше среднего, ширококостный, с кругловатым лицом, толстым носом, не выражавшими ни мысли, ни чувства глазами, с бедноватой и при помощи займа не могшей прикрыть явно обозначавшуюся лысину шевелюрой, с нестриженной небольшой бородой и блуждающим взором — таков был Василий Ильич. К сказанному надо добавить, что ходил он неуверенными шагами, подняв левое плечо, и даже когда молчал, гримасничал и подергивал головою, руками, плечами. Когда же он начинал объяснять урок, то напоминал собою Петрушку3, и непривычному человеку нельзя было тогда удержаться от смеха. Рассказывали, что, когда он, появившись в нашей семинарии, в первый раз начал объяснять урок, весь класс разразился гомерическим смехом. Василий Ильич побежал жаловаться ректору. Ректором тогда был архимандрит Паисий. Он тотчас прибыл в класс, уселся на ученической скамье и предложил Василию Ильичу продолжить объяснение урока. Не прошло и пяти минут, как и ректор захохотал гомерически и выбежал из класса, держась за живот и приговаривая: «Не могу! Не могу! Уморил! Уморил!». Мы в течение долгого времени с великим трудом удерживались от смеха при объяснениях Василия Ильича. Говорили тогда, что он страдал пляской святого Витта — неприятною болезнью.
Преподавание Василия Ильича не было удачным. Конечно, никакого огня, никакого воодушевления у него не было. Он говорил вяло, вдавался в мелочи, не умел заинтересовать нас, а главное. измучивал нас «свидетельствами»: колокола вошли в церков-
43
ное употребление в таком-то веке — об этом свидетельствуют такой-то, такой-то, такой-то: Трисвятое введено в V веке, об этом свидетельствуют такие-то и такие-то; троеперстное крестное знамение было древним — об этом свидетельствуют покоящиеся в Киево-Печерской лавре мощи преподобного Спиридона: его рука сложена троеперстно, — и так далее. Иногда Добровольский приводил по десять свидетельств об одном предмете. Требовался невероятный труд, чтобы запомнить их. и самая неистовая память не могла больше одного дня удерживать это. Все «свидетельства» быстро улетучивались из наших голов. Сам Василий Ильич, приводя их, перелистывал классный журнал и заглядывал в притаившуюся между листами журнала записочку со «свидетельствами», от нас же требовал, чтобы мы на зубок заучивали их. Чтобы отучить Василия Ильича от истязания нас «свидетельствами». мы сговорились: при ответах, если он будет требовать свидетельств, приводить только одно — мощи Спиридона. Сказано — сделано, слово дороже денег. Мы строго держались этого правила. Отвечает кто-либо из нас урок по литургике, причем бойко, обстоятельно, лучше, чем объяснял его Василий Ильич. Речь идет о тех же колоколах, или о Трисвятом, или о крестных ходах и тому подобном. Подергивая плечом, делая выкрутас рукой и не глядя на отвечающего, Василий Ильич вдруг прерывает его: «Ну-с! А какие свидетельства укажете вы?» «Мощи Спиридона», — серьезно отвечает ученик. «То есть как это — мощи Спиридона?» — удивляется Василий Ильич. «Мощи Спиридона», —спокойно повторяет ученик. Конечно, из-за этих «мощей Спиридона» наши баллы страдали, но мы добились того, что Василий Ильич перестал докучать нам «свидетельствами».
Часто Василий Ильич задавал вопросы: «Ну-с! Хоть мы с вами еще не проходили этого, а не припомните ли?» На уроках гомилетики он надоедал нам экспромтами. Уступал ученику свое место на кафедре, а сам становился у окна сзади, опираясь на подоконник и держа в руках приставленный к ногам выше колена классный журнал. Ученику предоставлялось две-три минуты на размышление. Экспромтами мы занимались в 6-м выпускном классе и обыкновенно в конце урока. И тут не обходилось без курьезов дело. На кафедру вызван для экспромта Степан Околович. Василий Ильич в застывшей позе уже стоит у окна. Околович знает, что до звонка остается всего шесть минут. Уже прошло три минуты, а Околович не начинает своего экспромта. «Пора бы вам начать, г. Околович». — обращается к нему Василий Ильич. «Сейчас, Василий Ильич, начну, только еще одну минуточку подумаю», — отвечает Околович. Опять молчание в классе. Ученики на пальцах показывают Околовичу, что до звонка остается две минуты. У Василия Ильича начинает сильнее подергиваться плечо. Это означает, что он нервничает. «Ну уж зна-
44
ете. г. Околович, нельзя так долго обдумывать тему. Вы уж начинайте-ка!» — настаивает Василий Ильич. «Только еще полминуточки... У меня уже созрел интересный план и мысли интересные приходят», — говорит Околович. Опять молчание. Вдруг в коридоре раздается звонок, возвещающий об окончании урока, Околович осеняет себя большим крестом и торжественно возглашает: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». (Мы и на уроках, и в церкви так начинали свои проповеди.) «Ну уж, знаете ли, поздно!» — говорит недружелюбным тоном Добровольский и направляется к кафедре. Околович спускается с кафедры, произнося вслух: «Не дал мне разойтись... А какую б я проповедь отвалил».
Василия Ильича считали добрым по сердцу человеком. Но как он злорадствовал, когда ему удавалось поймать хорошего ученика не приготовившим урока! Тогда он разрождался филиппикой: «Ну уж, знаете ли, я давно замечал, что вы неблагородно относитесь к моим урокам, не запоминаете, знаете ли, моих объяснений. готовите уроки только тогда, когда ожидаете, что я вас вызову... и так далее. Вы имели у меня пятерки, а теперь получите двойку».
Незадачливым учителям достается от учеников. Доставалось и Добровольскому. Ученики прозвали его Козлом. При входе его в класс и выходе из класса часто раздавались возгласы: «Козел! Козел!» Когда ученики узнали, что Василий Ильич влюблен и что невесту его зовут Катей, его начали встречать и провожать криками: «Катя! Катя!» Для прибывшего в нашу семинарию ревизора в каждом классе в стороне от кафедры ставился особый стул. Приходя в класс на урок, Василий Ильич заставал и свой, и ревизорский стул стоящими рядом на кафедре, прижатыми один к другому. Ненаходчивый, он смущался, терялся, нервничал. Узнав, что Василий Ильич панически боится мышей, ученики поймали мышь и, привязав к ней нитку, направляли ее к кафедре, что приводило Василия Ильича в ужас. Всего не перечислить.
В 1913 г. я был бесконечно удивлен, когда узнал, что беспутный епископ Витебский Владимир (Путята) назначил Добровольского настоятелем-протоиереем витебского кафедрального собора. Я тогда живо представил себе Василия Ильича на церковной кафедре в роли проповедника...
Остается еще сказать несколько слов о двух лицах, принадлежавших к семинарской корпорации: о семинарском духовнике и учителе семинарской образцовой школы.
И по здравому смыслу, и по замыслу законодателя семинарский духовник должен быть не только совершителем треб и богослужений в семинарской церкви, но и духовным отцом для учащегося в семинарии юношества, его духовным руководителем и идейным вдохновителем на предстоящее этому юношеству пастырское служение. Неслучайно кроме ректора и инспектора с его
45
двумя помощниками только духовнику предоставлялась квартира в семинарском здании. Не означало ли это, что духовник должен был быть ближе к своим духовным детям, жить одною с ними жизнью, постоянно влиять на них? Ввиду столь высоких и ответственных обязанностей, лежавших на духовнике, на эту должность должны были избираться самые лучшие священники, пламенные духом, чистые сердцем, благоговейные и искусные совершители богослужений, тонко понимающие пастырское дело, умеющие влиять на души пасомых.
В пору моего ученья в семинарии нашим духовником был протоиерей Иоанн Никифорович Бобровский, раньше служивший в селе и ставший семинарским духовником благодаря своему близкому родству с влиятельным витебским протоиереем. Лет 45 от роду, весьма благообразный и всегда чистенький, по Апостолу не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив... одной жены муж «трезв, благочинен» (1 Тим. 3, 2-3), по взглядам того времени, он мог считаться очень хорошим священником. Но у него не было ни инициативы, ни энергии. Он был вял, малоподвижен, бездушен и безличен. Самый голос его обнаруживал его характер: тоненький, как у воробья, и такой же бездушный. Служил наш духовник без вдохновенья. вяло, монотонно, не умея придать богослужению ни величия, ни торжественности. Мы. духовные его дети, видели его только в храме: беседовали с ним только один раз в год на исповеди. Даже на ежедневных наших утренних и вечерних молитвах он никогда не присутствовал, хотя жил в том же здании — всего двумя этажами выше. Его как духовника влияние на нас равнялось нулю.
Учителем образцовой при семинарии начальной школы был Петр Федотович Никитин. В этой школе должны были практиковаться в ведении уроков изучающие педагогику ученики 5-го и 6-го классов. Руководителем этой школы считался преподаватель педагогики «наш генерал», изредка показывавшийся в школе. Законоучительствовал в школе наш духовник.
Маленького роста и худенький, пожилой, лет 75, холостяк, всегда живой и подвижный, приветливый и жизнерадостный, Петр Федотыч был приятным человеком и отличным учителем, талантливо ведшим учебное дело, умевшим держать в руках учеников. Мы называли его «курчавый без волос», потому что веночек вьющихся, довольно длинных волос окружал его совсем голый череп, который Петр Федотыч, не в пример В.И. Добровольскому, не маскировал при помощи «внутреннего займа». Ученики любили Никитина за его общительность и деликатность, уважали за деловитость. Петр Федотыч оказывал особенное внимание ученикам выпускного класса, которые являлись его ближайшими помощниками. Лучших трех он раз в неделю при-
46
глашал к себе в гости «на пульку» (преферанс) и поросенка под хреном и всякий раз угощал нас вкусным ужином с подобающим возлиянием. Жил Петр Федотыч в отдельном маленьком семинарском домике, находившемся в Семинарском переулке напротив семинарской бани, в 20 шагах от семинарии.
Семинарским старожилом был повар Осип, семидесятилетний упитанный лысый старик, кормивший и отцов наших. Семинаристы дали ему прозвище Абсоюзки (то есть негодные обрезки мяса), потому что он щедро пользовался семинарским котлом, питая, конечно, небезвозмездно, некоторых своих знакомых. Когда же семинаристы уличали его в этом, он оправдывался; «Да я же даю им только абсоюзки». Осип смотрел на кухню как на свое святилище и изгонял семинаристов, пытавшихся перед обедом и ужином проникнуть туда. Исключение делалось только для выпускных: им не только разрешался вход, но иногда, когда бывал в добром настроении, Осип угощал их кусочками мяса.
Витебская духовная семинария помещалась в огромном старинном трехэтажном здании (бывшем униатском, постройки XVII века), стоявшем на высоком левом берегу реки Западной Двины, рядом с красавцем Успенским собором. Говорили, что в этом здании был убит Иосафат Кунцевич, униатский епископ, известный гонитель православия.
В правом крыле этого здания находились: в 1-м этаже — квартира инспектора и зал для заседаний семинарского правления; во 2-м этаже — квартира ректора и рядом с нею квартирка надзирателя; в 3-м — квартира семинарского духовника и за нею больница. В левом крыле находились: на нижнем этаже, в 1-м этаже — квартира эконома, кладовые, служительские комнаты и кухня: во 2-м этаже — четыре спальни для старших классов: в 3-м этаже — огромная, для 100 человек, спальня.
Перпендикулярно левому крылу было пристроено двухэтажное длинное здание, в 1-м этаже которого были длиннейшая столовая и церковь, а во 2-м — образцовая школа и библиотека. Из большого здания чрез семинарский сад деревянные мостки вели в стоявшее на противоположном конце сада двухэтажное здание с шестью классными комнатами, круглой рекреационной залой, учительской комнатой и квартирой помощника инспектора. По другую сторону пристройки (с церковью) тянулся длинный двор с разными надворными постройками и баней.
Из 240-250 числящихся в семинарии учеников человек 40 жили на частных квартирах, а остальные — в семинарских зданиях. Для такого числа эти здания были достаточны и удобны.
Принимая во внимание незначительную плату за содержание (стол, мытье белья и баню) ученика в семинарии, надо признать наше питание весьма удовлетворительным. Я и теперь вспоминаю про вкусные семинарские блюда; борщ, ленивые щи и осо-
47
бенно про гречневую рассыпчатую кашу, как и про ситник — отличный полубелый хлеб, дававшийся нам на завтрак. Слабее кормили нас в посты, а мы постничали и в каждую среду и пятницу. По поводу скудной постной пищи семинаристы иногда бурно выражали свои претензии.
Богослужебное дело является одною из самых важных сторон в жизни и деятельности священника. Благоговейно, разумно и художественно совершаемое богослужение может не только принести удовлетворение религиозному чувству, но и учит, наставляет и вразумляет присутствующих в храме. Небрежное, бестолковое и антихудожественное совершение богослужений оскорбляет религиозное чувство, удручающе действует на молящихся. Казалось бы, поэтому в семинариях наших богослужение должно было стоять на всесторонней — в отношении совершителей, чтецов и певцов — высоте, дабы будущие пастыри тут научились, как надо священнодействовать. Между тем, как я потом узнал из разных достоверных свидетельств, во всех наших семинариях постановка богослужебного дела оставляла желать лучшего. а в некоторых семинариях вопияла о своем убожестве и ненормальности. Наша семинария не блистала своими богослужениями. В ректорство архимандрита Паисия она славилась своим хором, и это привлекало богомольцев в семинарскую церковь. Хор действительно был хороший: сильные и красивые басы — Михаил Высоцкий, Петр Основский, Евгений Троицкий и прочие; октавист Филарет Шабунио; сильные и мелодичные тенора во главе с солистом Иваном Марковским; талантливый музыкальный регент ученик Иван Савицкий, мастерски управлявший хором. В исполнении некоторых песнопений наш хор превосходил славившийся тогда как лучший в городе архиерейский хор. О нашем трио Веделя «Покаяния отверзи ми двери», исполнявшемся Троицким, Марковским и Савицким, говорил весь город. Ректор тогда всячески покровительствовал хору: певцы, поощряемые благоволением ректора и вниманием богомольцев, старались не ударить лицом в грязь. Замечательно было то, что семинаристы собственными силами, без всякой посторонней помощи подняли свой хор на такую высоту; наш же учитель пения Николай Ферапонтович не сумел ее удержать4.
С уходом архимандрита Паисия (в 1886 г.) быстро ослабел наш хор, не поощряемый последующими ректорами. Лучшие певцы перешли в архиерейский и другие городские хоры, где они получали известную мзду. Остававшиеся в семинарском хоре относились к делу кое-как, спустя рукава, а последующие семинарские регенты не могли сравниться с Иваном Савицким.
Другие стороны богослужебного дела у нас неизменно хромали. О постоянном совершителе богослужений, духовнике5, уже сказано выше: не умел он вызвать ни благоговения, ни умиления
48
в душах богомольцев. Ректоры Я.А. Новицкий и И.Х. Пичета мало украшали наше богослужение: первый был невзрачный, маленького росту, со слабым голосом; второй был величествен, но ему мешал сильно заметный герцоговинский акцент: кроме того, они были новичками в священнослужении, только по назначении их на ректорскую должность в нашу семинарию принявшими духовный сан. Еще менее мог украшать наше богослужение архимандрит Геннадий.
Еще слабее обстояло дело с чтением. Правда, по субботам в дежурной комнате классного здания чтецы проверялись учителем литургики, известным уже нам Василием Ильичом. Но репетиция одно, а исполнение — другое. Кроме того, сам Василий Ильич был таким чтецом, что, если бы сам он начал читать в церкви. улыбался бы не один богомолец. Некоторые сорванцы и эти репетиции в балаган обращали. В храме же редко когда чтение было пристойным и поучительным. Иногда же чтец перед богослужением держал пари, что он прочитает шестопсалмие в две минуты, и все чтецы спешили, чтобы сократить длинное богослужение. От такой спешки чтение часто переходило в бормотанье, не дававшее удовлетворения ни уму, ни сердцу.
Хромала и прочая внешняя обстановка. Не видно было пекущейся, направляющей, ставящей все на свое место руки; не было глаза, зорко наблюдающего и подмечающего все дефекты обстановки и исполнителей богослужения.
Кстати, надо сказать несколько слов о длинных семинарских богослужениях. Семинарские богослужения были действительно очень длинными, особенно на первой неделе Великого поста, во время говенья. Тогда они продолжались по три и даже более часа. Ожидали, что такие службы будут способствовать развитию религиозного чувства, упрочению благочестия учащихся. На деле же выходило обратное. Посторонний глаз мог наблюдать такую картину: из алтаря доносится писклявый голос духовника, произносящего ектеньи и возгласы: на клиросах — на правом иногда складно, иногда нескладно поют певцы, на левом, состязаясь в скорости, читают чтецы; по обеим сторонам храма в рядах стоят ученики: впереди их, как монумент, не озирающийся ни направо, ни налево, величавая фигура инспектора Петра Людвиговича, позади учеников помощник инспектора и надзиратели. Богомольцы — преподаватели с семьями и посторонние — стоят в столовой, большие двери, соединяющие ее с церковью, открыты. А дальше... То и дело одни ученики выходят из церкви, правда, всякий раз с разрешения помощника инспектора или надзирателя. а другие возвращаются в церковь: в рядах ученики переговариваются, улыбаются, делают гримасы, а те, кому надоело стоять, забираются в угол, усаживаются на полу и начинают поносить и духовного отца, затягивающего службу, и начальст-
49
во, поддерживающее такие службы. Во время же говенья, когда нам приходилось выстаивать особенно длинные службы, а к причастию нас готовили щирым постом, бывали и почище номера: некоторые приносили в карманах колбасу и, когда им надоедало стоять, забирались в тот же угол и там закусывали ею.
Картина отвратительная, даже страшная, но совсем не новая. Почитайте-ка в русских историях, как молились в старину в царских соборах? Служат осанистые, голосистые царские протопопы и протодиаконы, звучно поют царские певчие, а царь в это время разговаривает с боярами, принимает доклады, тут же кладет резолюции, делает выговоры и так далее. «Кесарево кесарю, а Божие Богу». Тогда вера уживалась с обрядоверием, браталась с ним, не подозревая, что обрядоверие близко к неверию, сродни ему. Последнее оправдалось на русских семинаристах: многократно приходилось и слышать, и читать, что ни одна русская школа не выпускала так много атеистов, как духовные семинарии.
туг сам собою напрашивается вопрос: как же ректоры не принимали мер против столь очевидного, ненормального, вопиющего явления? Пусть архимандрита Паисия более всего привлекало в богослужении пение6, пусть архимандрит Геннадий более всего интересовался «пирожками», но ректоры отцы Новицкий и Пичета — они же были, безусловно, умные люди. Почему же и они не замечали ненормальной постановки в порученной им семинарии богослужебного дела? Почему они не проявили никакой инициативы, чтобы устранить безобразные богослужебные дефекты? Почему в их ректорство не улучшилось, а, пожалуй, ухудшилось совершение богослужений в семинарском храме?
Нелегко ответить на эти вопросы. Во всяком случае, тут давали о себе знать несколько причин. Первой причиной, по моему разумению, была наследственность: наши деды и прадеды так привыкли к примитивному богослужению, что их внуки довольствовались им. Второй же причиной несомненно было то, что оба талантливых ректора — и Новицкий, и Пичета — были новичками и в священнослужении, и в ректорствовании, поэтому не успели еще оценить значения разумно поставленного богослужения в воспитании и образовании будущих пастырей.
Да не сочтет кто-либо эти мои, как и последующие, критические заметки за поступок хама в отношении своей alma-mater! Идет 57-й год как я окончил курс семинарии, но я продолжаю с любовью и благоговением вспоминать эту школу, выведшую меня, дьячковского сына, в люди, давшую мне возможность получить высшее образование в академии. Теперешние ученики сплошь и рядом не знают имени-отчества своих учителей и панибратски обращаются с ними. Я и до сего времени не забыл имен и отчеств своих учителей, все учителя как живые продол-
50
жают стоять перед моими глазами. Я продолжаю с благоговением относится к памяти худших наших педагогов, ибо и они были добрыми и образованными людьми. Когда приходилось мне уже в высокой должности протопресвитера военного и морского духовенства и члена Святейшего Синода встречаться со своими бывшими учителями и даже с бывшим надзирателем П.И. Лузгиным, я спешил первым засвидетельствовать им почтение и оказать всякие знаки внимания. Но я всегда исповедовал древнюю истину: erroribus discimus («ошибками учимся») и всегда исповедовал, что тяжкий грех — утаивать ошибки, что нужно не утаивать. а исправлять и предупреждать их, чтобы не стали обычными и не повторялись они.
Теперь сделаем хотя бы в общих чертах оценки учебно-воспитательного дела в нашей семинарии. Во всех наших семинариях учебная программа была серьезной. Это можно заключить из перечня преподававшихся в семинарии предметов, в большинстве богословско-философского характера, развивавших мыслительные способности. Но в этом перечне чувствовались и пробелы, такие как отсутствие круга естественных наук, знание которых для проповедей и для борьбы с суевериями были очень полезны священнику: Христос же в своих беседах пользовался примерами. взятыми из жизни природы. Не доставало в семинарской программе хотя бы самого элементарного преподавания медицины, в которой тогда так нуждалась почти совсем лишенная медицинской помощи русская деревня. Чтоб ввести преподавание этих предметов, можно было сократить некоторые другие предметы, и прежде всего число уроков по древним языкам, и, наконец, к четырем ежедневным урокам прибавить пятый.
Из сказанного выше о семинарских учителях видно, что огромным их числом преподавание велось серьезно, разумно, некоторыми блестяще. Большую роль в нашем развитии играли сочинения. Насколько помнится, 1-й и 2-й классы писали по 12 сочинений в год, 3-й и 4-й — по девять, 5-й и 6-й — по шесть. Темы для сочинений давались по всем предметам, кроме математики, физики, языков и пения. Чтобы написать сочинение, ученик должен был не только обдумать тему, но изучить иногда очень обширную литературу и умело распорядиться ею. Написанные сочинения внимательно просматривались зрителями, после чего авторам указывались недостатки их произведений, давались советы и тому подобное. Срок составления сочинений был разный: для 1-го и 2-го классов, помнится, 15 дней, для 5-го — месяц.
Вообще, надо сказать, что наши духовные семинарии и академии давали солидное развитие своим питомцам. В 1907 г. бывший Степной генерал-губернатор, а тогда член Государственного Совета генерал от кавалерии Николай Николаевич Сухотин
51
говорил мне, что самым лучшими, дельными и исполнительными чиновниками в его генерал-губернаторстве были питомцы духовных семинарий и академий.
Несравненно хуже обстояло дело с нашим воспитанием. На духовные семинарии возлагалась великая и сложная задача. Своих питомцев они должны были воспитывать так, чтобы из них выходили не только добрые люди, но и добрые пастыри. Такая цель могла быть более или менее достигнута только совместными, согласованными и дружными усилиями не одних лиц инспекторского надзора, а всей семинарской корпорации. Тут требовалась такая продуманная и строгая система, чтобы каждый преподаватель вносил свою лепту в семинарское воспитательное дело: чтобы, например, преподаватели Священного Писания с особенным вниманием останавливались на местах Слова Божия, касающихся пастырского служения; чтобы историки и словесник подчеркивали типы добрых пастырей, как они проявлялись в истории или изображены в литературе, и так далее. Даже математик должен был воспитывать, внушая ученикам необходимость точности и последовательности во всякой, и особенно в пастырской, жизни. И преподаватели древних языков могли воспитывать, обращая внимание учеников на древние примеры героизма и самопожертвования, какими добродетелями непременно должен отличаться пастырь. В особенности же нашим воспитанием должен был заниматься преподаватель пастырского богословия, литургики и гомилетики, недаром же эти предметы назывались пастырскими.
Наши же преподаватели как будто не ставили себе воспитательской цели. Каждый из них ограничивался рамками своей дисциплины, заботясь о сообщении нам учебного материала, а не о моральном воздействии на нас. Это не значит, что они совсем не воспитывали нас. Ф.И. Покровский, Н.А. Миловзоров, о. А.Н. Миловзоров увлекали нас возвышенностью своей жизни, а первые два и своими знаниями: все прочие преподаватели являлись для нас примерами трудолюбия, честного отношения к своим обязанностям, интеллигентности, благородства и справедливости. Но они сделали бы гораздо больше, если бы влияли на нас не только своими личностями, но и словом своим.
Формально воспитательное дело в семинарии лежало на инспекторе и его помощниках, а в пору инспекторства П.Л. Дружиловского фактически на его двух помощниках. Оба они были жертвами семинарского режима, слежки, они не развивали в опекаемых ими учениках добрых навыков, не прививали правил приличия, пастырских идеалов. А между тем мы, вышедшие из священнических, дьяконских и дьячковских, по большей части сельских семейств, так нуждались не только в том, чтобы зажгли в наших душах пастырский огонь, но и в том, чтобы научили нас,
52
как надо сидеть за столом, держать нож и вилку, как надо вести себя в обществе и так далее. Священнику же необходимо быть не только идейным и усердным, но и всегда опрятным, приличным, интеллигентным, чтобы своим наружным видом и манерами не смущать интеллигентную часть своих прихожан.
Инспекторский надзор, усердно следивший, чтобы ученики не уклонялись от посещения уроков, молитв и богослужений, в вечерние часы занимались выучиванием уроков, своевременно и в надлежащем виде возвращались из разрешенных им отпусков, не буйствовали, не безобразничали, не избавлял, конечно, семинарию от разнообразнейших отрицательных эксцессов.
Воскресный день. Много учеников ушли в отпуск, «в гости». Всем им разрешен отпуск не позже 11 часов вечера. Но ученики старшего класса ленивые и распущенные X, Y и Z пойдут в кабак, потом побывают в пивной и закончат свое странствование посещением публичного дома. Они вернутся в семинарию не раньше 2-3 часов ночи, когда все семинарские двери будут замкнуты; они проникнут чрез семинарскую ограду или чрез классное окно. В спальне на кроватях положены «болваны», чтоб при ночной проверке надзиратель не заметил отсутствия их.
23 ноября 1889 г. Четверг. День будний, но в нашем 5-м классе семейный праздник: общий любимец Митрофан Блажевич сегодня именинник, к нему присоединились еще два недавних именинника, и сегодня они будут угощать весь класс. Ученикам запрещено в будни после 5 часов вечера выходить из семинарии. Несмотря на это, отважный и ловкий А. Пщелко отправляется в знаменитый магазин А. Середнякова купить два штофа (в четверть ведра каждый) Смирновской водки. Пщелко — круглый сирота, и за эту услугу он освобожден классом от денежного взноса на свои именины. Закуска — хлеб и колбаса — приобретены заблаговременно, в законное время. Как только возвращается с «живительной влагой» Пщелко — это бывало часов в 6 вечера, — начинается пиршество. Класс ярко освещен. Все ученики сидят на местах, углубившись в чтение лежащих перед ними тетрадей. Как будто предчувствуя что-то негодное, помощник инспектора, расхаживая по коридору, все чаще останавливается около нашего класса и заглядывает в стеклянную сверху дверь. Но и его опытный глаз не может заметить никакого непорядка. У нас же роли распределены: ученики поглощены наукой; Пщелко со своими штофами и стаканчиком уселся на скамье, в левом углу за печкой, печка скрывает его от заглядывающего помощника инспектора; рядом с Пщелкой садится Вася Шимкович — он будет распоряжаться закуской; Околович с алфавитным списком в руках садится на передней скамье. Начинается лицедейство. «Автухов!» — вызывает Околович. «Не употребляет... Вызывай следующего!.. Вася, пришли Юзе (Автухову) колбасы!» — раздаются
53
негромкие голоса. «Блажевич!» — вызывает Околович. Блажевич поднимается с места и направляется в угол, где Пщелко уже налил стаканчик. Вася дает Блажевичу две порции колбасы с хлебом, одну для него, другую для Автухова. Следом Околович вызывает Борисовича, Вейтко, Вишневского и дальше по списку, кончая Шимковичем, Щербовым и Эрдманом. Эрдман был нашей знаменитостью: в 5-м классе он был уже 27-летним мужем, в алфавитном и в разрядном списках он неизменно занимал последнее место. Кончился список, Околович опять начал сверху: Блажевич, Борисович и так далее — пока не была исчерпана влага. К ужину наш класс ушел «веселыми ногами», за ужином держал себя развязно.
На следующий день Н.С. Минервин (помощник инспектора) спрашивал Околовича: «Скажите вы мне, что это значит? Вчера вечером никто из вашего класса не выходил в город, а на ужин все явились пьяными». Околович постарался разубедить помощника инспектора. Родной брат нашего Околовича был по академии товарищем Минервина, поэтому наш Околович часто бывал у него.
Случались и худшие номера. Вблизи семинарии находилась небольшая лавчонка, в которой торговала старая подслеповатая еврейка. Семинаристы звали ее Мамкой. Главными покупателями в этой лавчонке были наши семинаристы, к их нуждам и приспособлялась Мамка: в ее лавке были иголки, нитки, вакса, щетки, мыло, чай, сахар, табак. Можно было делать специальные заказы, которые Мамка добросовестно исполняла. Однажды мой однокурсник А. Овсянкин, вздорный и нахальный парень, по природе авантюрист, облекся в чужую енотовую шубу, в белую крахмальную рубашку, на нос напялил чужие очки в золоченой оправе и отправился к Мамке, взяв с собою приятеля, якобы семинарского служителя. Первым вошел в лавку приятель и предупредил Мамку, что сейчас к ней придет очень богатый и выгодный заказчик, секретарь семинарского правления. «Ценами ты не стесняйся! Богат, заплатит!» —добавил приятель. Минуты через две, приняв важный вид, вошел Овсянкин. «Здравствуй! — обратился он к Мамке. — От семинаристов я узнал, что ты очень добросовестно исполняешь заказы. Завтра у меня будут знатные гости. Можешь ты доставить мне две бутылки Смирновской №21, одну английской горькой, одну рябиновой водки, бутылку портвейну, фунт паюсной икры, две коробки сардин, коробку омаров, фунт швейцарского сыру? Завтра часов в 5 вечера я вот этого молодца пришлю за покупками. А послезавтра часов в 10 утра ты придешь в правление, и я по твоему счету расплачусь с тобой. Предвкушая хороший барыш, Мамка обещала выполнить заказ. На другой день вечерком «служитель» получил от нее все заказанное, а на следующий день в 10 часов утра Мамка яви-
54
лась в правление к А. Г. Любимову за деньгами. Подслеповатая, она не заметила, что этот Любимов совсем не похож на заказчика; ниже ростом, с бородой и усами, без очков, и голос у него совсем иной. Мамка начала требовать уплаты за покупки, а потом угрожать, что подаст в суд: «Набрал почти на двадцать рублей и платить не хочет... А еще учитель, секретарь!» Можно представить, что тогда переживал чопорный и надменный А.Г. Любимов. Инспекция наша после того разыскивала самозванца «Любимова», но не обнаружила его.
Все проказы, проделки семинаристов, как и их деяния, «о них же не леть есть глаголати» (лучше не говорить), так же трудно было бы перечислить, как трудно сосчитать на небе звезды, пожалуй. А все же из семинарии выходило немало хороших людей, отличных работников, самоотверженных деятелей. Из нашего курса вышло несколько добрых пастырей, и среди них Митрофан Блажевич, бывший украшением не только своей епархии, но и всей Русской Православной Церкви7. Как произошло это? Прежде всего благодаря самовоспитанию. В то время как несколько человек в классе своевольничали, безобразничали, даже распутничали, более двух третей класса, верные родительским наставлениям и воспитанию в родительских домах, сторонились от соблазнов и не поддавались дурным внушениям и примерам. Лучшие преподаватели высоким примером своей жизни и своего отношения к делу укрепляли их в этом направлении. Весьма показателен факт: нас, в 1891 г. окончивших курс Витебской духовной семинарии, был 31 человек: из этого числа немногим более 20 вышли из семинарии8 девственниками и некурившими: 25 человек стали священниками.
Теперь уделю несколько внимания собственной персоне. Только здесь, в Болгарии, от П.П. Зубовского, моего бывшего учителя по расколу, я узнал, что семинарские учителя считали наш класс по способностям лучшим в семинарии, самым талантливым. Раньше я не замечал этого, теперь же, вспоминая семинарские годы, вижу, что в нашем классе было много весьма одаренных юношей: Д.Т. Никифоровский, обладавший феноменальной памятью и большим даром речи: М.В. Блажевич, способный, благочестивый и всегда трудолюбивый юноша: Д.К. Вишневский, крохотного роста, лукавый, но очень способный мальчишка: А.И. Орлов, замкнутый, но очень способный юноша. По окончании академического курса Никифоровский и Вишневский заканчивали свою службу директорами народных училищ: первый — в Астрахани, второй — на Украине. Орлов служил секретарем Екатеринославской духовной консистории. Первым в нашем классе окончил курс семинарии И.Г. Автухов. Он уступал перечисленным в способностях, но превосходил всех в аккуратности и трудолюбии. Хоть ему и не пришлось получить академическое
55
образование, однако он занимал должность секретаря Якутской консистории, обычно предоставлявшуюся получившим высшее образование. Скончался он от чахотки, не достигши и сорокалетнего возраста.
Меня товарищи расценивали очень высоко, считали чуть ли не самым способным в классе, обращались ко мне за разъяснениями уроков, за помощью при составлении сочинений. Но мое собственное ученье проходило с большими интервалами. Во 2-м классе семинарии я, недавно занимавший первое место в разрядном списке, спустился на 24-е место. Двоек у меня не было, но и выше троек не было. Причиной этому было мое заиканье, до такой степени усилившееся, что я вынужден был давать письменные ответы по всем предметам. По-видимому, большинство преподавателей с подозрением относились к моему недостатку и выше троек мне не ставили. Все же, думаю я, эти письменные ответы. тогда причинявшие мне немало огорчений, для будущего сослужили недурную службу, приучив меня излагать свои мысли на бумаге кратко и ясно.
Мои школьные неуспехи причинили мне и иного рода огорчение: с такими баллами я не мог быть принят семинарским правлением на казенное содержание. Материальное же положение моего отца в 1885 г. очень ухудшилось: во-первых, с августа этого года ему пришлось платить за содержание моей сестры Анны, поступившей в Полоцкое женское Спасо-Евфросиньевское училище; во-вторых, 15 августа этого года скончался от воспаления легких мой дед (отец отца) Иван Потапиевич Шавельский. Хромой, одноглазый, полуграмотный, сносно читавший, а писавший «по печатному», то есть вырисовывавший печатный буквы, Иван Потапиевич долгое время служил пономарем, а с 1870 г. жил при сыне. Несмотря на годы — он умер 65 лет от роду — и хромоту, это был очень сильный старик, ходивший и с сохой, и с бороной, и с косой, и с граблями, исполнявший все сельские работы. Смерть его была большим ударом для нашего дома. Содержание меня в семинарии стало для отца почти непосильным. Но отец ни разу даже намеком не укорил меня. А тяжело ему жилось тогда. Только природа, без денег доставлявшая нам и ягоды, и грибы, и рыбу, да по нынешним временам баснословная дешевизна всех прочих жизненных продуктов выручали нашу семью. Спасало нас и то, что мы сами исполняли большинство работ в своем хозяйстве: отец косил, убирал сено, сносил и свозил снопы, ухаживал за скотом, исполнял и другие работы: мать с бабушкой без помощи наемных женщин вели все домашнее хозяйство; приезжая из семинарии на каникулы, я летом помогал отцу убирать сено и снопы, ловил с ним рыбу, собирал в лесу ягоды и грибы, зимою рубил с отцом дрова, помогал ему вести церковное письмоводство, писал для
56
крестьян письма: зимою и летом старался во всем, даже в шитье и вязанье, помогать матери. Все это приучило меня любить труд и избегать безделья.
Товарищи и в пору моих учебных неудач продолжали относиться ко мне с прежним вниманием и не переставали прибегать к моей помощи, в которой я никому не отказывал. Скоро стало моей специальностью писать для других сочинения. Помнится, в 3-м классе по логике кроме своего я написал еще семь сочинений, и все мои «клиенты» получили удовлетворительный баллы, двое — даже лучшие, чем мой балл. Не касаясь нравственной стороны такого сочинительства, должен сказать, что оно имело и положительную, и отрицательную стороны: оно совершенствовало меня в уменье владеть пером, но мешало углубиться в свое собственное сочинение и серьезно обработать его, приучало меня к работе наспех.
За мое сочинительство «клиенты» вознаграждали меня натурой: куском сала, щепоткой чаю, фунтиком сахару, куском вкусного пирога, иногда порцией поросенка «под хреном» (со сметаной), а беспутный В.Н. и пивом. Все такие даяния мне, бедняку, очень годились, а вот пиво чуть было не погубило меня. Случилось это так.
Когда я был учеником 2-го класса, после одного удачно написанного мною для В.Н. сочинения последний предложил угостить меня пивом. Мы отправились в пивной подвал на Вокзальной улице. Не помню, сколько мы выпили, но я сильно охмелел, и В.Н. с трудом доставил меня в семинарию и там уложил на задней скамье. У меня началась рвота. Товарищи, чтобы проветрить классную комнату, открыли окно. Прохаживавшйся по коридору Н.С. Минервин заметил это и вошел в класс, где нашел меня бесчувственно лежащим и около меня пивную вонючую лужу. Если бы он доложил об увиденном правлению, меня, наверное, исключили бы из семинарии. Но он только пожурил меня на следующий день, и потом только минус, приставленный к месячной отметке по поведению, напомнил мне, что в моем поведении был изъян. Забыть благородный поступок Н.С. Минервина я и доселе не могу.
Мой бывший академический профессор, а в Болгарии коллега и друг Николай Никанорович Глубоковский, всемирно известный, непревзойденный экзегет по Священному Писанию Нового Завета, рассказал мне случай из собственной жизни. Он кончал курс Вологодской духовной семинарии, причем первым. На него уже тогда возлагались большие надежды, несколько его сочинений уже были напечатаны в духовных журналах. Но у Глубоковского был один недостаток — он любил выпить. После одного из выпускных экзаменов он так угобзился, что, возвращаясь домой по главной улице города, шатался из стороны в сторону. По доро-
57
ге встретился он с ректором. «Глубоковский! Что с вами?» — обратился к нему ректор. Вместо ответа Глубоковский схватил полу ректорской рясы и так дернул, что ректор упал на землю. Глубоковский поспешил убежать и, добравшись до семинарии, улегся спать. Утром на следующий день он вспомнил отвратительную картину происшедшего и отправился к ректору. «Что вам угодно, г. Глубоковский?» — встретил его ректор. «Простите мне. о. ректор! Вчера я был невменяем», — сказал Глубоковский. «И я не вменяю вам. Но будьте благоразумнее на будущее время, — ответил ректор. — Идите с Богом». Этим и кончилось дело. «А ведь увольнение меня из семинарии было бы заслуженным возмездием за учиненное мною безобразие. С того времени я ежедневно утром и вечером молюсь за этого ректора», — сознавался мне Глубоковский. Педагогам, любившим беспощадно карать учеников за каждый их проступок, я несколько раз в назидание приводил эти два случая.
Мои школьные дела улучшались с каждым годом по мере того, как развязывался мой язык. Сначала я стал читать в церкви. Обнадеженный успехом я затем начал давать устные ответы. Сразу изменились мои отметки: вместо надоевших мне троек появились четверки и пятерки. Скоро я попал в число самых лучших учеников и был принят, к величайшей радости моих родителей, на полное казенное содержание. Курс семинарии я окончил шестым — первые шесть учеников, и я в том числе, имели почти одинаковые отметки, почти все пятерки. Первым у нас был И.Г. Автухов, далеко не самый сильный по способностям, но самый достойный по усидчивости и трудолюбию. Семинарское правление отправило на казенный счет Д. Никифоровского в Санкт-Петербургскую, а Д. Вишневского в Киевскую духовную академию. Ректор архимандрит Геннадий и некоторые учителя убеждали меня отправиться в академию волонтером. Отсутствие всяких средств для поездки делало невозможным осуществление ректорского совета. Кроме того, меня потянуло на медицинский факультет Томского университета, тогда доступный для семинаристов. Но для поездки в Томск требовались еще большие деньги. Опять вспомнили, что у меня есть богатый дед — Себежский протоиерей. В нашем классе самыми способными учениками считались Д. Никифоровский и я, самыми трудолюбивыми и аккуратными были Автухов и Блажевич. Я более всего дружил с Никифоровским и с Блажевичем. С последним я в течение семи лет, начиная с 3-го класса духовного училища, сидел на одной скамье: Никифоровский сидел с Автуховым (в семинарии мы сидели по два человека на одной скамье; на каждую скамью выдавалось по одному учебнику по каждому предмету). Такая комбинация была выгодна для обеих сторон: Никифоровский и я не любили зубрить учебники, выучивали уроки быстро, предостав-
58
ляя затем своим соседям сколько угодно пользоваться нашими общими учебниками; Автухов и Блажевич аккуратнейшим образом вели записи всех учительских объяснений в классе и не отказывали нам в пользовании ими. Во 2-м классе мы расселись по-иному: я с Никифоровским, Блажевич с Автуховым. Сразу обнаружились неудобства: Никифоровский и я ленились вести записи зрительских разъяснений; у Автухова с Блажевичем происходили недоразумения из-за пользования учебниками. В следующем классе мы расселись по-прежнему и так оставалось до окончания нами курса. Никифоровский и Блажевич очень сочувствовали моему желанию попасть в Томский университет. Блажевич теперь написал своему близкому родственнику Ивану Федоровичу Словецкому, бывшему надзирателю нашей семинарии, а в описываемое время — священнику Себежского собора, в котором настоятельствовал мой дед. Блажевич просил Словецкого убедить деда помочь мне продолжить образование. Но дед оставался непреклонным. «Тоже надумал... Продолжать образование... доктором захотел стать... Мало ему, дьячковскому сыну, что семинарию, да еще студентом, кончает... пусть за это благодарит Бога! Нет у меня денег на его прихоти», — ответил дед И.Ф. Словецкому. Так и не сподобился я за всю свою жизнь увидеть ни этого своего деда, ни его благодеющей руки. А преставился он, когда я уже был священником.
Кончились экзамены. Для окончивших курс заготовлены аттестаты. Мой аттестат резко отличается от других: в младших классах голые тройки, в старших — одни пятерки. Торжественный акт, на котором окончившие курс по первому разряду объявлены студентами семинарии, второразрядники — просто окончившими курс. Помнится, что нас, студентов, оказалось 12. Володя Эрдман окончил курс последним в классе9. Товарищи шутливо заявляют ему, что он должен угостить весь класс, так как только он один никому не уступал своего места (последнего). Володя ленив и не так уж способен, но не обидчив и благодушен. Он с улыбкой принимает поздравления с «блестящим» окончанием семинарии, но угостить товарищей отказывается.
На следующий день после акта у нас традиционная маевка. Наняв несколько лодок и предварительно запасшись всем «необходимым», мы отправились по р. Западной Двине за город, нашли красивое место и начали свой последний товарищеский пир. Все были весело настроены: еще бы невеселыми быть! — окончили среднеучебный курс, получили права гражданства, выходим на путь самостоятельной жизни. Влага еще более возвеселила нас. Пили все. даже великого трезвенника Юзю Автухова заставили выпить, правда, обманом: налили ему солидный стаканчик английской горькой, а сказали, что это лимонад: как только Юзя раскрыл рот, чтоб проглотить влагу, Околович лов-
59
ким движением руки опрокинул стаканчик, и вся влага попала по назначению. Что сталось с Юзей! Начал задыхаться, зачихал, закашлялся, захрипел! Одни из товарищей смеялись до упаду, другие испугались, третьи отпускали остроты: это тебе не то что по пению пятерки получать, Юзя не имел никакого голоса и никакого слуха — одной ноты не мог ровно протянуть. Однако получал пятерки по пению, так как, не умея петь, всегда отвечал по теории пения, всегда добросовестно вызубривал заданные уроки. Товарищи по этому поводу подшучивали над ним: «Тебя, Юзя, скоро в архиерейских хор в солисты возьмут — ты ж у нас первый по пению, только ты один имеешь годовую пятерку».
Веселились мы до 4 часов ночи: пили и пели, вспоминали о прошлом, загадывали будущее. Вернулись мы в семинарию, когда уже высоко на небе стояло солнышко, не беспокоясь, однако, что наши кровати были пустыми при ночной проверке: мы же стали свободными, независимыми гражданами.
На следующий день начали разъезжаться и студенты, и не-студенты. Грустно было расставаться на неопределенное время, быть может, на всю жизнь. Ведь сжились мы, сроднились, с некоторыми ближе родных братьев стали мы. Шутка ли: шесть целых лет мы прожили под одной крышей, целые дни и вечера проводили в одной классной комнате, питались в одной столовой и одной и той же гречневой кашей (отсюда и происходит слово «однокашники»), впитывали одну и ту же духовную пишу: вместе молились и вместе грешили — проказничали на уроках, изводя чудака Василия Ильича и милого старичка Николая «Фараонтьевича», обманывая надзиравших за нами; вместе упражнялись во взаимопомощи, делясь друг с другом последним кусочком сала, пирога или мяса, полученным из дому, и так далее. Я отправился в родительский дом.
В заключение не могу не сказать несколько слов об отношении наших правящих архиереев к нашей семинарии. В епархии духовная семинария являлась питомником, в котором подготовлялись, выращивались, воспитывались кандидаты для предстоящего пастырского служения. От качества их работы будет зависеть успех или неуспех, подъем или упадок религиозно-нравственной жизни и в известной степени славы или посрамления самого архиерея. Семинария поэтому должна быть самым любимым детищем архиерея, находиться под постоянным его отеческим наблюдением, должна быть окружена постоянными его попечительными заботами. На самом деле наблюдалось обратное, и не только у нас при тогдашних Полоцко-Витебских епископах Маркелле, а затем Антонине, но, как сообщали мне в академии мои товарищи, и почти во всех других семинариях. Архиерей был далек от нас, как и мы далеки от него. Мы видели его и слышали его голос в день семинарского праздника, когда он в
60
нашей церкви совершал богослужение, и изредка на наших экзаменах. Но чтобы он, как отец к детям, зашел к нам и по-отечески побеседовал с нами: осведомился о наших нуждах, поговорил о великих задачах предстоящего нам служения, воодушевил нас, укрепил нас своим авторитетом и опытом — этого не было. Общение епископа с семинарией состояло почти исключительно в его общении с ректором семинарии, представлявшим на владычное утверждение журналы и протоколы семинарского правления. Какими последствиями сопровождалось такое общение — это для нас, учеников, оставалось тайной.
IV. На службе в должности псаломщика
А) В селе Хвошно
Я в родительском доме. Отец гордится, что у него сын — студент семинарии. Всегда горячо любившая меня мать не может насмотреться на меня. Со слезами радости глядит на меня 90-летняя бабушка. А как порадовался бы мой первый учитель — дедушка, если б он дожил до этого дня! Но он умер два месяца тому назад, на Пасхальной неделе, в конце апреля (старого стиля) 1891 г. от рака носа. Дедушка никогда не пил и не курил, но нюхал табак усердно. Не от этого ли нюханья развился у него рак?
На следующий по приезде день я представился местному молодому (всего на шесть лет старше меня), красивому, всегда изящно одетому, довольно способному, но ленивому и малоподвижному священнику о. Игнатию Игнатовичу. В доме его верховодила жена — молоденькая, маленькая, разумная и ловкая, очень миловидная Мария Георгиевна (урожденная Смирнова), дочь соседнего очень богатого священника. Под ее мудрым водительством быстро богатели Игнатовичи. А в один из следующих воскресных дней я отправился с визитом в село Лёхово к давнишнему приятелю моего отца многосемейному священнику о. Петру Троицкому.
Село Лёхово отстояло от нашего села в пяти верстах по большой дороге, а по лесной, немножко наезженной дороге — в трех с половиной верстах. Расположено оно было на горке по левую сторону ведущей в г. Невель дороги. Около самой дороги в роще стояла небольшая каменная церковка, украшением которой служила замечательная огромная старинная запрестольная икона, произведение какого-то итальянского живописца. Шагах в пятидесяти. против церкви, находилось здание начальной церковно-приходской школы и рядом с нею — дом псаломщика, дальше шагах в 100 от дороги — дом священника с разными надворными постройками. Около церкви еще ютилась сторожка. Вот и все село. От церкви дорога спускалась вниз к реке. Там около самой дороги на берегу речки стояла еврейская корчма, в то время обя-
61
зательный придаток каждого села. А по другую сторону дороги в версте от мерки виднелась красивая помещичья усадьба.
Семья о. Петра состояла из десяти человек: о. Петр, его жена Анна Ивановна (священнических жен тогда называли матушками, так и мы будем называть ее), сын Михаил10, четыре дочери — Ольга, Александра, Софья и Варвара, две родные сестры матушки — Марья и Елисавета Ивановны и родной брат матушки Лев Иванович, самый приметный в семье человек — выше среднего роста, не признававший иного костюма, кроме духовного, то есть подрясника, с довольно длинными седыми волосами и крохотной, из нескольких волосков побелевшей бородкой, с огромным лишаем на правой щеке, сильно глухой и не менее глупый, с голосом диким и нравом задорным, иногда в гневе бешеным, старый холостяк. Мать рассказывала мне, что он до ее замужества сватался к ней, но она решительно отвергла его любовь.
Село Лёхово славилось тем, что там еще в то время была осуществлена коммуна, и все должности в семье были распределены между своими: о. Петр — священник и законоучитель, Лев Иванович — псаломщик, старшая дочь о. Петра Ольга — учительница, Елисавета Ивановна — просфорня. Только Лев Иванович ночевал в своем доме, все прочие жили в священническом доме: все (и Лев Иванович тоже) питались за священническим столом: все у них было общее: причтовые земля и доходы не делились — и тем и другим пользовался о. Петр. Последнее после перевода Льва Ивановича в другой приход и назначении на его место другого псаломщика (Ивановского) привело к большим недоразумениям между отвыкшим делиться о. Петром и новым псаломщиком. В разрешении этих недоразумений очень некрасивое участие принимал в то время бывший преподавателем нашей семинарии и мнивший себя влиятельным в епархии Михаил Петрович, сын о. Петра.
Семья о. Петра была на редкость гостеприимной и хлебосольной: когда бы вы ни заехали к ним, всегда у них, бывало, находятся и ласковые слова, и обильное угощение. Я и доселе вспоминаю об изделиях матушки Анны Ивановны: о каким-то чудом от Рождества до Рождества сохранявшихся ароматной копченой колбасе и сочной ветчине, о душистых и вкусных вишневых и смородинных настойках и наливках. Прибыв в Лёхово, можно было гостить и день, и два, и три, не страшась, что этим огорчишь или обеспокоишь милых хозяев.
Отец Петр очень дружил и со священником нашего села о. Василием Еленевским, умершим в 1884 г. Вдова о. Василия Анастасия Семеновна после смерти мужа была просфорней при нашей церкви. Я, как и ее дети Семен, Иван и Михаил, будучи семинаристом, часто появлялся в доме о. Петра, где можно было повеселиться с его молодежью. А у матушки Анны Ивановны и ее сест-
62
риц, как рассказывали тогда, таилась надежда, что Семен Еле- невский женится на Ольге, а когда он женился на другой, что Иван Еленевский женится на Александре. Возлагались надежды и на меня, но Ольга, скромная и добрая девушка, была на год старше меня, Александра же решительно не нравилась мне. потому что считала себя очень умной и любила высокопарно философствовать. Софью и Варвару мы называли подлетышами, то есть подростками, и не обращали на них внимания. Независимо от барышень дом о. Петра притягивал нас к себе своим радушием и истинно русским хлебосольством. Да и самого о. Петра, всегда веселого и ласкового, мы очень любили.
В то время в нашей епархии окончившие курс семинарии, чтобы получить священный сан, должны были пройти продолжительный стаж в должности псаломщика или учителя начальной школы. Иные стажевали по семи и более лет. Только счастливцам удавалось через 1-2 года попасть в священники. Я решил стать псаломщиком и обратился с прошением к епархиальному архиерею о назначении меня на должность псаломщика.
Полоцко-Витебским владыкою был тогда епископ Антонин. Высокого роста, не тучный, но и не тощий, как лунь седой, с длинной белой бородой, владыка Антонин имел чудный высокий голос, тенор, служил очень величественно и красиво. Большим умом владыка Антонин не отличался, но был благостен и доступен. К сожалению, он легко поддавался не всегда добрым влияниям, что вредно отзывалось на его управлении епархией.
В конце августа я получил консисторский указ, извещавший меня, что резолюцией Его Преосвященства от 19 августа сего года я назначен на должность псаломщика Хвошнянской Городокского уезда церкви и законоучителя Хвошнянского народного училища. По целому ряду причин о лучшем месте я и мечтать не мог. Село Хвошно находилось всего в 18 верстах от моего родного села Дубокрая, хвошнянский и дубокрайский приходы были смежными: священником хвошнянской церкви тогда состоял о.Федор Тихомиров, женатый на дочери о. Василия Еленевского Евдокии Васильевне, всего лет на пять старшей меня, женщине очень кроткой и доброй. Сам о. Федор был не очень мудрым, но добрейшим человеком; после смерти своего тестя он с 1884 по 1888 г. служил в нашем селе и очень любил моего отца и меня. Приход хвошнянский был огромный11 и считался богатым, а это улыбалось мне, так как я мечтал помогать отцу в воспитании только что поступившего в Витебское духовное училище моего меньшого брата Василия. Наконец, в селе Хвошно при одном священнике было два псаломщика, и это тоже благоприятствовало мне, так как семинария не усовершенствовала меня для несения псаломщической службы. Ко всему этому надо прибавить, что в с. Хвошно был великолепный храм и славился церковный хор.
63
Раньше я не раз бывал в Хвошно гостем о. Федора. Были, правда, и минусы. Природа села была нерадостная. Оно стояло на высокой горе, и, как Лёхово. оно состояло из нескольких строений: церковь, два псаломщических дома, дом священника, училищное здание и на северном конце села — корчма. Около села не было ни озера, ни речки, пользовались колодезной водой. Отсутствие воды очень удручало меня, привыкшего отдавать свой досуг рыбной ловле. Но другие вышеуказанные преимущества села примиряли меня с этим дефектом.
Получив указ, я поспешил выехать к месту назначения. Провожая меня, мать сказала мне: «Прости меня, деточка, что не могу больше тебе дать. Даю, что имею». И сунула мне в руку медный пятак. Простить себе не могу, что я не сохранил этого пятака.
Прибыл я в с. Хвошно. С радостью, как самого близкого родного встретили меня о. Федор и Евдокия Васильевна. Учителем школы оказался на один год старший меня по семинарии скромный и добродушный Иосиф Васильевич Никифоровский, также обрадовавшийся моему приезду. Холоднее встретили меня псаломщик Степан Данилович Нарбут и его жена Ольга Ивановна, гордая и сварливая женщина. Нарбут давно служил в Хвошно, образовал хор, имел основание считать себя заслуженным псаломщиком, и вдруг прибывший мальчишка, неопытный в псаломщическом деле, еще ничем не проявивший себя на службе, займет первое место и, конечно, будет пользоваться большей любовью настоятеля, а его, заслуженного 50-летнего чтеца и певца, отодвинут на второе место. Я понял настроение Нарбутов и старался особым вниманием сдабривать наши отношения. Благодаря этому за три месяца совместной службы с Нарбутом у меня не произошло ни одного недоразумения с ним.
Нарбуты были бездетны, жили неплохо, могли бы жить еще лучше, если бы Степан Данилович не тратился на выпивку, от которой не могла удерживать его даже строгая Ольга Ивановна.
Поселился я с учителем. В его квартире при училище было общежитие с питанием учеников. Но их блюда были не для наших желудков, и мы решили завести собственную кухню. Тут пригодились мне кулинарные знания, приобретенные в родительском доме, когда я и в кухонных делах помогал своей матери. Знаний моих хватало, чтобы приготовить приличный обед: сварить щи, борщ, пожарить котлеты, испечь блинчиков. А вот с клюквенным киселем у меня не сразу наладилось дело. Как-то принесли нам меду и клюквы, картофельная мука у нас была. Я решил удивить своего сожителя вкусным клюквенным киселем. Приготовил я клюквенный сок, разбавил его водою, вскипятил, положив в кастрюлю столько меду, чтоб действительно сладко было и, когда закипел сок, я всыпал в него картофельной муки. К моему великому огорчению получилось нечто несъедобное — какие-то клец-
64
ки с мукой внутри. Как я ни старался растереть их, это не удалось. Отправился к Евдокии Васильевне. «Ну и чудак же вы! — сказала, рассмеявшись, она. — Кто же так варит кисель? Муку надо сначала в холодной воде развести и потом уже, помешивая, постепенно вливать в кипящий сок». В следующий раз кисель у меня удался. Так и дальше бывало: когда у меня не хватало собственных кулинарных знаний, тогда я обращался к помощи доброй Евдокии Васильевны.
Наступило воскресенье, день моего вступления в службу. С особым благоговением я переступил порог храма. И раньше мне пришлось два-три раза бывать в этом храме, но теперь он показался иным — особенно светлым и торжественным. К литургии церковь, как потом всегда, переполнилась богомольцами, в подсвечниках и лампадах не хватало для свечей места. Собрался прославленный хор. Даже о. Федор по случаю моего вступления в должность облачился в дорогие великопраздничные одежды. С усердием и воодушевлением пел хор. Благоговейно и приятно, без выкриков и фокусов, негромко, но отчетливо и внятно служил о. Федор. Вероятно, чтоб похвастать голосом и удивить меня, проревел апостола Нарбут. Молясь, я не переставал присматриваться к богослужению, чтобы определить, чем я могу послужить еще лучшей постановке богослужения в этом храме.
Отца Федора я знал с 1884 г., когда он священствовал в моем родном Дубокрае. Это был не орел, но скромный, благочестивый, благоговейный, не стяжательный пастырь. Служил он, можно сказать, очень хорошо, но проповеди ему не давались, и он не любил утруждать ими своих духовных чад. Я попросил о. Федора разрешить мне иногда проповедовать за литургией и во все воскресные и праздничные дни в промежутке между всенощными бдениями и литургиями вести внебогослужебные беседы, к ведению которых тогда обязывало, хоть и решительно ничем не содействовало лучшей постановке их епархиальное начальство. О. Федор признал весьма благим мое начинание.
Церковное чтение мне не понравилось: и Нарбут, и его споспешники-добровольцы читали невнятно, не оттеняя смысла, спеша, не соблюдая ударений. Я попросил Нарбута предоставить мне заниматься этим делом, так как он достаточно занят хором. Нарбут согласился.
При выдаче документов я убедился, что наши церковные списки прихожан неточны и нуждаются в проверке. О. Федор разрешил мне проверить их. «Предстоят расходы на поездку, но они возместятся, — сказал о. Федор. — Наши прихожане — народ добрый, и так привыкли они к тому, что члены причта осенью приезжают к ним за сбором зерна, что не приехать к ним кому-либо из нас означает обидеть их. Так просто ты не поехал бы, а теперь поедешь по делу. Они же воспользуются случаем, чтоб всяким
65
зерном наделить тебя. Им это доставит удовольствие, а тебе зерно пригодится — продашь и отцу сможешь помочь». В течение полутора месяцев я объехал весь приход, все девяносто шесть деревень, побывал в каждом доме и проверил каждое семейство, после чего представил о. Федору точный список прихожан. Собранное зерно щедро вознаградило меня за понесенный труд, дав мне возможность уплатить за содержание в духовном училище моего младшего брата Василия.
Прославленный хвошнянский хор не так уж удовлетворял меня. Управлял хором Нарбут. Состоял хор из взрослых, наполовину уже украшенных сединами крестьян. Пели, конечно, без всяких нот, по слуху: пели звучно, сколько сил хватало, не всегда гармонично, иногда неистово. Крестьян он удовлетворял. Человека с развитым слухом и музыкальным вкусом удовлетворить он не мог. Хор пел на хорах, и молящиеся не видели его. А я, стоя на хорах же, мог любоваться им. Незабываемая картина. Полукругом на хорах выстроилось человек двадцать, а иногда и больше, певчих — загорелых, бородатых людей. Задом к алтарю и лицом к певчим стоит регент, он же и главный бас-псаломщик Нарбут. Он неистово машет руками и издает страшные звуки, так раскрывая пасть свою, как будто он собирается проглотить кого-либо из присутствующих. В теноровой партии первая роль принадлежит крестьянину Воронову, мужчине лет 35. среднего роста, плотного сложения, с острым взглядом и крючковатым, как у коршуна, носом, с совсем маленькой бородкой. Воронов знает себе цену: поет смело и все время уносится в высь. Голос у него приятный, сильный, высокий, но ему недостает выучки и вкуса в пении. На левом фланге стоят два небольшого роста с проседью крестьянина — это дисканты хора. Тяжело им выводить высокие ноты, но они изо всех сил стараются вывести их, и пот градом катится с их лиц. Каждый хорист старается, чтоб и его голос был услышан. Многого недоставало прославленному хору, но я тут ничем не мог помочь. Хоть и был у меня недурной голос, в регенты я не годился: мне, как говорили, медведь на ухо наступил.
Трудясь таким образом на церковном поприще, я не забыл и о своей законоучительской должности в школе, к каковой я значительно был подготовлен своими упражнениями в семинарской образцовой школе.
Увлеченный работой, обласканный о. Федором и его женой и, кроме всего этого, имея возможность часто навещать родительский дом, я считал себя счастливым. Прихожане полюбили меня и часто приглашали на свои торжества, что также занимало меня. Вспоминается одно из таких торжеств. Богатый крестьянин соседней деревни пригласил о. Федора, меня, учителя и Нарбута на свадьбу своего сына. Гостей был полон дом. Нас встретили радостно и принялись угощать. Угощали мясным и рыбным студ-
66
нем, жареным поросенком и рыбой, разными пирогами. Водки, пива и какого-то плохого вина было сколько угодно, хоть залейся. Нарбут усиленно приналег на эти продукты. Во время нашей трапезы играл цыганский оркестр с участием одного пожилого еврея. Один цыган работал на барабане, остальные на скрипках, еврей — на цимбалах. Играл, цыгане подпевали, а еврей, наклонив голову так, что его длинные пейсы едва не касались цимбал, покачивал головою и, ногою отбивая такт, энергично двумя молоточками ударял по струнам своего инструмента, издававшего сильные звуки. Видно было, что он всей душой участвовал в игре. Каждому из нас музыканты сыграли тут, ловко выкрикивая подходящие слова. Нарбуту они пели, играя: «Да и не было ж такого молодца-то, как Степана да Даниловича». А наклюкавшийся к тому времени «молодец» бессмысленно смотрел в пространство, уже мало интересуясь происходящим около него.
Однако в то время, когда я увлекался работой и намечал дальнейшие планы, мне готовился неприятный сюрприз. Мое место понадобилось для моего семинарского товарища Васи Шимковича, не отличавшегося в семинарии ни успехами в науках, ни какими-либо иными доблестями. Отец Васи, о, Михаил Шимкович, священствовал тогда в с. Бескатове, что верстах 15 от села Хвошна, и был закадычным другом благочинного — настоятеля Городокского собора протоиерея Дмитрия Фомича Григоровича, пользовавшегося тогда большим благоволением епископа Антонина. В этом состояло немалое преимущество Васи Шимковича по сравнению со мною.
Протоиерея Д.Ф. Григоровича нельзя было вполне отнести к категории тех иереев, о которых в прежнее время говорили: «Спереди блажен муж (Пс, 1, 17), а сзади вскую шаташася12 (Пс. 2, 1)», — потому что явных пороков, позорящих священный сан, за ним не водилось. По наружному виду, по обращению с людьми протоиерей Д. Григорович действительно был «блажен муж» и выглядел патриархом: росту выше среднего, сложения плотного, с длинными, сильно поседевшими волосами, с длинной же седой бородой и приятным лицом, В общении с людьми он был мягок, приветлив, даже вкрадчив, в церковном служении благолепен и благоговеен. Неудивительно, что в городе многие любили и уважали его. Правда, говорилось о нем и другое: что протоиерей неискренен и лукав, мягко стелет да жестко спать, что правда ему нипочем, что он только кажется постником, а «скушать человечка» ему ничего не стоит, что ради родного человечка он не пожалеет ни совести, ни словечка, и так далее. Говорили и другое: что наш протоиерей более уважал тех своих подчиненных, которые ублажали его поросятами, окороками, индейками и гусями, для скоромных дней маслом, а для постных — медком, и вареньем13, и всевозможными иными снедями, и так далее.
67
Когда отец Васи Шимковича обратился к протоиерею Григоровичу устроить назначение сына в Хвошно, протоиерей не задумался исполнить просьбу приятеля, хотя и знал он, что исполнить эту просьбу, значит, незаслуженно и кровно обидеть меня. Но что стоило влиятельному протоирею обидеть дьячковского сына!? Протоиерей Григорович много лет прослужил благочинным и изощрялся в искусстве обижать людей.
Чтобы освободить для Васи Шимковича место, о. Григорович отправился в Витебск к архиерею. Там он узнал, что благочинный 3-го Велижского округа ходатайствует в назначении в его село Усмынь образованного псаломщика, который мог бы вести внебогослужебные беседы и ему — благочинному — помогать в письмоводстве. О. Григорович ухватился за это. Явившись к епископу Антонину, он расхвалил меня как дельного работника, усердного в проповедовании Слова Божия, хорошо знающего церковное письмоводство, заслуживающего назначения в лучший приход, например в с. Усмынь, где требуется именно такой псаломщик. Не подозревавший интриги епископ Антонин 1 декабря перевел меня в Усмынь, а в Хвошно назначил Васю Шимковича. Как будто все устроилось наилучшим образом: я был блестяще аттестован и «повышен», Вася удовлетворен, о. протоиерей получил от отца его «в знак любви, признательности и благодарности» не одну индюшку. Но для меня-то перемещение в Усмынь было большим ударом: оно разлучало меня с селом Хвошно и училищем, с о. Федором и другими сослуживцами, к которым, не исключая и Нарбута, я успел привыкнуть и даже полюбить их. Оно отдаляло меня от родительского дома14, а перемещение было связано с тяжелыми для меня расходами, так как пособий на это не давалось. Оно, наконец, подрывало во мне веру в правду и совесть иерейскую. Но воля начальства — воля Божия. Так я думал тогда.
Скоро о. Федором, к удивлению всех, был получен консисторский указ о моем перемещении. «Это фокусы нашего протоиерея, отец же Шимковича в большой с ним дружбе. Возмутительно! Но что делать? Поезжай-ка ты к архиерею! По пути побывай у протоиерея! Пусть бы лучше Василий Шимкович ехал в Усмынь, а ты оставался бы у нас», — сказал мне о. Федор. Я отправился в Витебск. В г. Городке я зашел к протоиерею Григоровичу. Он принял меня ласково, поздравляя меня с перемещением, которое «является знаком большого внимания ко мне и милости архиерейской», расхваливал с. Усмынь и благочинного о. Павла Щербова, в помощники которому я назначался. Нежные и сладкие песни о. протоиерея, однако, не могли утешить меня.
В Витебске я остановился у Юзи Автухова, надзирателя семинарии, первенца нашего выпуска, очень благочестивого и доброго человека, крепко любившего меня (может быть, больше, чем
68
следует). Узнав о моем решении идти к архиерею, Автухов посоветовал мне; «Не ходи-ка ты к архиерею! Толку от твоего визита не будет, только нервы потреплешь. Протоиерей твой ловко обделал дело: ты расхвален и поощрен, а наш дурень Вася ублаготворен, Поезжай в Усмынь! Там тоже люди. Узнав о перемещении тебя, я собрал кой-какие сведения о новом месте твоей службы; приход хороший, обыкновенно благочинные занимают его; местность красивая: благочинный о. Павел Щербов — недурной человек. Его сын Иван у нас в 4-м классе первым учеником идет. Отличный юноша, способный, кроткий, добрый, благочестивый. Ты же знаешь его. Повидайся с ним. А к архиерею не ходи!» Я поступил по совету Автухова.
В Хвошно по возвращении из Витебска не задерживался: оставалось 5 дней до праздника Рождества Христова, а мне хотелось денек провести в родительском доме и к празднику поспеть в Усмынь.
Уезжал я из с. Хвошно с великой скорбью, с горькой обидой на протоиерея Григоровича, на неправду людскую, на совесть протоиерейскую.
Прошло 25 лет, и г. Городок избрал меня в 1916 г, своим почетным гражданином; царь утвердил избрание. В то время я был протопресвитером военного и морского духовенства, членом Святейшего Синода. Очень высокий орден Александра Невского с февраля 1915 г. украшал мою грудь. Для духовного лица такое избрание было большой наградой. Насколько помню, только еще Ярославский архиепископ Тихон (потом Патриарх Всероссийский) был почетным гражданином своего города Ярославля. Извещенный об избрании и высочайшем утверждении (о чем сам царь сообщил мне) этого избрания, я отправился в г. Городок, чтобы засвидетельствовать свое почтение отцам города. Я посетил городокского предводителя дворянства господина Заболоцкого, а затем протоиерея Д.Ф. Григоровича, состоявшего в тех же, что и в 1891 г., должностях и жившего в том же доме. Теперь он уже принимал меня не как перемещенного по его милости псаломщика, а как весьма знатного и почетного гостя. Чтобы не огорчить старика, я ни единым словом не напомнил ему о своем перемещении из с. Хвошно.
б) В селе Усмынь
Мать и бабушка со слезами провожали меня в далекий путь. «Такая даль! Мне уж больше не увидеть тебя», — говорила бабушка, при прощании крестя меня.
Путь мой зимою сокращался почти на 10 верст: мы ехали напрямик по озеру, за которым рукой подать до большого, с двумя священниками села Узкое, а за Узким совсем близко огромное и древнее местечко Усвяты — княжна Усвятская была женою Але-
69
ксандра Невского. Из Усвят два раза в году — на Илью-пророка, 20 июля, и на Михайлов день, 8 ноября (это были дубокрайские ярмарочные дни), — приезжал в Дубокрай пожилой мещанин Иван с возом пряников и конфет. Он всегда останавливался у нас. Будучи еще малышом, я однажды с бабушкой был в гостях у усвятского дьячка И. Белоусова, не то дальнего родственника, не то хорошего знакомого дедушки и бабушки. С того времени запомнились обнесенный оградой большой храм (бабушка называла его собором), в котором священствовал известный всей епархии очень умный и очень массивный протоиерей Ипполит Короткевич; стоявший на высоком берегу озера большой помещичий замок15, большое Усвятское озеро, а в самом местечке — множество разных пряников и конфет в лавках.
Отдохнув часика два в Усвятах, мы отправились дальше. Сделали небольшую остановку в с. Церковище, где священствовал зять Короткевича, о. Стефан Образский, потом проехали с. Городец, где священствовал старичок о. Иван Симонович Борисович, и к вечеру прибыли в село Бараново. Села Церковище и Городец не понравились мне, Бараново я разглядел на следующий день при свете. «То ли дело наш Дубокрай: озеро что море, лесу — сколько хочешь; а Церковище и Городец что за села — ни воды, ни лесу», — рассуждал я. Бараново мне понравилось: на юго-западном берегу озера за садом большая помещичья усадьба с двухэтажным домом, дальше на север на берегу народное училище, церковь и причтовые — священника и псаломщика — дома. Как приозерный житель я тогда прежде всего по воде и лесу расценивал село.
От Баранова до Усмыни, находившейся на другом конце озера, на юго-западной его стороне, путь шел по озеру; расстояние было незначительное — всего 7-8 верст (в другое время дорога из Баранова в Усмынь шла по левому берегу озера, и считали тогда расстояние между этими двумя селами — 14 верст), но мы заночевали в Барановской корчме, стоявшей на северном берегу озера, считая неудобным ночью прибывать в Усмынь. Часов в девять утра мы отправились в путь. Погода стояла приятная, дорога ровная и легкая. Я присматривался ко всему, как будто попал не в Велижский уезд, а в Америку или Африку. С правой стороны от Баранова до самой Усмыни тянулся густой лес, левая сторона была безлесной, с частыми на берегу деревнями, а на полпути на этой же стороне стояла красивая помещичья усадьба в имении вдовы генерал-лейтенанта Натальи Николаевны Оранской.
Только мы проехали мимо этой деревни, как мой возница — пожилой крестьянин Семен Петрович Медведев — воскликнул:
— Глядь-ка, глядь, Егор Иванович! Не иначе как твоя это церква красуется.
70
Впереди виднелась большая белая церковь, ярко освещенная лунами солнца.
— Я, — продолжал Медведев, — в Баранове все расспросил. Про церковь говорят: не церква, а собор; гляди, что и в столице таких мало, сам царь мог бы ходить в нее. А вот что диво мне: сказывают, что ее сто годов тому назад нехрист, немец Гернгрос, усмыньский помещик, выстроил. Диво мне, что ему, нехристу, разрешили храм Божий строить.
— Почему же ты, Семен Петрович, думаешь, что Гернгрос был нехрист? Он мог быть таким же православным, как мы с тобой, — возразил я.
— Что ты! Что ты! Нешто християнин может прозываться таким именем — Гернгросом? Убили б меня, а я не согласился б прозываться Гернгросом.
— Что ж такого, что он носил немецкую фамилию? Не значит это. что он не был христианином. Вот ты называешься Медведевым. Не значит же это. что ты медвежьей породы.
— Это точно, что у нас случаются животинские фамилии: Медведев, Волков. Зайцев, Белкин. А то есть Коровин, Коньков, Козлов. Все ж это не то, что Гернгрос. Вот наши птичьи фамилии: Петушков, Курочкин, Галкин, Воробьев, Воронов и другие не нравятся — не к лицу человеку птичьим сыном называться. Знаешь ли, почему я Медведевым прозываюсь?
— Откуда ж знать мне?
— Вишь, какое дело! У деда моего силища была беспримерная. Здоровей его во всей волости не было. Рубил это он в лесу дрова. Видит: медведь большущий идет. Дед и огрей его дубиной. Медведь на него. А дед схватил топор да как ахнул обухом медведя по черепу, так медведь и дух выпустил. За это прозвали моего деда Медведевым. По его милости Медведевым прозываюсь и я.
В это время мы проехали островок, и нам во всей красоте представилась усмыньская церковь, стоявшая на большом засаженном липами пригорке, на южном берегу озера. Мы оба сняли шапки и набожно перекрестились. На север от церкви на юго-западном берегу стояли два дома. Мы подъехали к первому, меньшему, решив, что это, должно быть, дом псаломщика. И не ошиблись.
Мой предшественник Василий Никифорович Соколов еще не выехал из Усмыни. Тяжело ему было расставаться с нею. Там он прослужил более 25 лет, там у него родились и возмужали пять дочерей, там у него было разведено хорошее хозяйство, там все ему было знакомо и дорого. Теперь он был перемещен в далекий, неизвестный ему, несравненно более бедный приход Невельского уезда, в 130 верстах от Усмыни. Предстояли ему великие расходы и убытки: при ликвидации наспех всего имущества, при переезде большой семьи разоренье! Дважды переехать семейному
71
человеку то же, что один раз погореть, говорили тогда. За что же постигла Соколова такая жестокая кара? Меня очень занимал этот вопрос. По-разному отвечали на него.
Жена о. благочинного потом объясняла мне, что Соколов перемещен за пьянство. Но и курица пьет, говорили тогда. Священник села Баранова, несчастный алкоголик Илья Серебренников, пил без просыпу, даже утром просыпался пьяным. И, однако, о. благочинный терпел его. Соколов же. как я совершено убедился в этом, выпивал умеренно и очень осторожно.
Другие отзывались о Соколове как о разумном и дельном исполнителе своей должности, хорошем чтеце и певце. Никаких серьезных провинностей у Соколова не было. Его главная вина состояла в том, что у благочинного кончает обучение дочка, нужен. значит, жених. Очень возможно, что это мнение отвечало истине. «Вот, — подумал я, — и еще пример благочиннической правды!»
Мне показалось, что удрученная перемещением семья Соколовых встретила меня недружелюбно, как будто я был виновником их несчастья, хоть я был такой же, как и они, жертвой благочиннической кривды.
Но каково русское радушие! Не успел я раздеться, как жена Соколова обратилась ко мне: «С дороги надо вам подкрепиться. К сожалению, рыбного у меня нет. Скушайте лосины16. Дорожному человеку это не грех. Потом чайком с медком вас угощу. Здесь Василий Никифорович пчел водил... Что-то там будет?» У нее навернулись на глазах слезы. Я с благодарностью принял угощение. Подкрепившись лосиной, которой раньше я ни разу не ел, и переодевшись, я отправился представиться своему новому начальству.
На дворе меня встретил мой возница Семен Петрович.
— К благочинному, Егор Иванович, идешь? — обратился он ко мне.
— К благочинному, — ответил я.
— В Баранове сказывали мне, что дюже непригож благочинный. И на путного человека почти не похож. А, сказывают, спокойный и добрый. Зато благочинниха — бой-баба, баба хоть куды, одно слово — лихая, — Петрович улыбнулся.
— Что это значит — хоть куды? — спросил я.
— Поживешь — сам узнаешь. — продолжая улыбаться, ответил Петрович. — Ты ж, Егор Иванович, не подгадь там у твоего благочинного. Все ж он благочинный. Под благословение подойди, руку поцелуй! Ну и благочиннихе тож.
— И к благочиннихе под благословение подойти? — пошутил я.
— Зачем под благословение? Нешто может благословлять баба? Ей таких нравов не дано. Просто ее руку поцелуй! Тебе за это
72
денег платить не придется, а ей это понравится. Ваши бабы любят, когда им руки лижут, почет, значит, оказывают. А тебе это может пригодиться. Маслом каши не испортишь, ты это помни, Егор Иванович! Иди ж! Благочинный знает, что ты приехал. Сказывали, в окно глядел, когда мы во двор въезжали. Не обиделся бы, что ты медлишь.
До священнического дома не более 30 шагов. Взойдя на переднее крыльцо, я позвонил. Вышла прислуга.
— Вы, значит, новый псаломщик будете? — обратилась она ко мне.
— Да. Можно видеть благочинного? — спросил я.
— Пожалуйте! Они вас поджидают, — ласково ответила она.
«Молодец, благочинниха! Хорошо она вышколила свою прислугу!» — подумал я. Прислугой этой оказалась жена церковного сторожа Михаила, смиреннейшего человека. Меня ввели в столовую. просторную и светлую комнату. Там меня встретили благочинный и его жена. Я подошел под благословение и поцеловал руку благочинного, а он расцеловался со мной. Затем я поклонился благочиннихе. Та протянула мне руку, которую я также поцеловал: «Мой Ваня уже познакомил меня с вами — он же хорошо знает и любит вас, очень рад, что вы назначены к нам. Хорошо сделали, что поспешили приехать к празднику». Дальше шли расспросы о моем родном селе, о моей родне, о с. Хвошно, о моей поездке и прочем. Благочинный, заложив за спину руки, ходил взад и вперед по комнате. Я стоял. Благочинниха, усевшись на диване, несколько раз проницательным взглядом с ног до головы окинула меня. Заметив, что ее взгляд не ускользнул от меня, она обратилась ко мне: «Что же вы, Георгий Иванович— кажется, правильно я называю вас, — не присядете? Садитесь! На мужа не обращайте внимания. Он не любит сидеть. Да не обращайтесь вы с ним так формально: ваше высокопреподобие, о. благочинный! Он для вас прежде всего ваш священник, о. Павел. Сегодня вы пообедаете у нас. Обед, конечно, будет постный, но так же и надо. А меня, кстати, зовите Александрой Георгиевной, а не матушкой. Довольно вам вашей родной матушки!» Александра Георгиевна после этого ушла в кухню, а о. Павел продолжал то расспрашивать меня о всякой всячине, то знакомить с моими обязанностями на новом месте.
Идучи к о. Павлу, я мысленно после беседы с Медведевым представлял его себе. Но действительность еще более оказалась не в пользу о. Павла. Росту немного выше среднего, довольно полный, с большой гривой черных как уголь грубых волос на большой голове, сидевшей на коротенькой шее, с узким лбом, раскосыми, как у монгола, маленькими черными глазами, пухлыми с постоянным румянцем щеками, между которыми едва заметен был маленький, как кнопка, нос, с толстыми губами и
73
редкой черной недлинной бородой, сквозь которую просвечивал розоватый подбородок, с опущенными плечами — таков был о. Павел. Незнающий его затруднился бы, к какой расе отнести его.
О. Павла ни в коем случае нельзя было отнести к разряду глупых людей. Он очень хорошо разбирался в богословии, сильно сведущ был в истории, хорошо знал и понимал пастырское дело, умел на бумаге изложить свои мысли. По настроению о. Павел был церковно благочестив, в службе усерден, до педантичности аккуратен, к серебру и злату любви не проявлял, так как всей материальной частью его бытия управляла Александра Георгиевна. Посторонние считали его добрым и отзывчивым. Иными качествами о. Павла были часто проявлявшаяся почти детская наивность, в припадке которой он мог изрекать глупейшие вещи и принимать самые нелепые решения, и страх перед своей драгоценной, несравненно более его умной половиной. Стоило только Александре Георгиевне сказать: «Дурак вы, Павел Васильевич» или даже строго взглянуть на мужа, как у того пропадало все благочинническое величие. Тогда он или смолкал, или убегал в другую комнату. О. Павлу было за 50 лет.
Александра Георгиевна представляла полную противоположность своему мужу. Росту среднего, полная, с высокой прической, круглым лицом, острым и энергичным взглядом, всегда веселая, общительная, остроумная, распорядительная, отличная хозяйка в доме — внешним своим видом она очень напоминала Екатерину II, как ее изображают на портретах. Фактически Александра Георгиевна управляла не только своим домом, но и самим о. Павлом, и его приходом, и благочинием. В описываемое время ей было под 50 лет. В молодости Александра Георгиевна, несомненно, была весьма красивой и интересной. Меня очень занимало, как она могла выйти замуж за такого некрасивого и неинтересного кавалера, каким был теперешний о. Павел, безобразие которого теперь в значительной степени маскировал духовный костюм. Я несколько раз хотел задать этот вопрос самой Александре Георгиевне, но меня останавливала мысль, что тут скрывается какая-то тайна, которую постесняется обнаружить Александра Георгиевна.
У о. Павла было трое детей: Иван, первый ученик 4-го класса семинарии, прекрасный, скромный, добродетельный, талантливый юноша, остававшийся искренним моим другом до самого моего отъезда из России17, несомненный сын о. Павла; Анна, кончавшая курс женского духовного епархиального училища в г. Витебске, умная, недурненькая, но гордая девушка, и Федор, красивый резвый мальчик лет 5-6. Настойчиво тогда утверждали, что трое этих детей произошли от разных отцов, причем называли имена действительных виновников рождения их. При
74
наличии такого красавца — законного мужа — легко было поверить такому утверждению.
К обеду явился учитель Усмыньского народного училища Павел Иванович Суханов. Из множества наблюдавшихся мною в жизни персонажей этот представляется мне наиболее оригинальным. Маленького роста, на очень высоких каблуках, с маленькой русой бородкой и длинными усами, одетый с явной претензией на франтовство, заметно любующийся собою, Суханов производил впечатление петушка, увлеченного самим собою. За столом он держал себя развязно, обо всем говорил с апломбом, гордо выкладывал свои знания, засыпая нас учеными именами и их сочинениями. Потом я убедился, что «знания» Суханова были фальшивые, дутые: у него был энциклопедический словарик, из которого он выбирал трескучие имена, открытия, изобретения, крупные сочинения и затем в обществе щеголял выбранным. Я замечал, что маленькие ростом люди очень часто бывают завистливы, горды, надменны и злы. Злятся они и на Бога, что Он их создал такими, и на себя, что им не удалось родиться иными, а злобу свою вымещают на людях. Напускной тон и фальшь Суханова очень не понравились мне. Во время обеда я несколько раз возразил ему. Суханову я тоже не пришелся по вкусу. До этого времени, как я потом узнал, он играл роль первого любовника в усмыньском обществе. Теперь же он почувствовал, что симпатии этого общества могут перейти на мою сторону: уже во время обеда и Александра Георгиевна, и о. Павел явно оказывали мне больше, чем ему, внимания. Была и другая причина: доселе он помогал о. Павлу в благочинническом письмоводстве; за это его угощали обедами и ужинами, а он мог хвастаться близостью к благочинному, теперь же эта роль и соединенные с нею преимущества отпадали. Наша встреча не предвещала дружбы между нами.
Во время обеда Александра Георгиевна обратилась сначала ко мне, а потом к Суханову: «Как же вы, Георгий Иванович, будете жить в своем доме? Такие теперь морозы, а дом большой, холодный... Павел Иванович! У вас же две комнаты. Предоставьте одну Георгию Ивановичу! И вам будет веселее». Приученный беспрекословно исполнять веления Александры Георгиевны Суханов согласился. Я поблагодарил обоих и в тот же день поселился в учительской квартире.
Материально это меня очень устраивало: мне не надо было тратиться ни на отопление, ни на освещение; училищная прислуга за незначительное вознаграждение прислуживала. Но морально нелегко было мне. Разные мы были люди. Кроме того, недоброжелательство Суханова ко мне все возрастало. Он не мог примириться с тем, что меня считают более, чем он, ученым и образованным и больше мне, чем ему, оказывают внимания, что
75
даже училищная прислуга, в обращении с которой он был высокомерен и груб, гораздо больше любит меня, чем его. Его злило и то, что я материально значительно лучше него был обеспечен18, и его не переставало раздражать и то, что я гораздо выше ростом и виднее его. А главное. Суханов переносил все это чрезвычайно болезненно, так что его переживания начали заметно отражаться на его здоровье. Я со своей стороны принимал всевозможные меры, чтобы сделать наши отношения более сердечными, но из этого не выходило толку. Так продолжалось до конца июня 1892 г., когда Суханов уехал на каникулы и уже не вернулся в Усмынь. Он выхлопотал себе другое учительское место. Управляющий имением Усмынь Михаил Григорьевич Нестеров по этому поводу выразился: «Проиграв в битве, Суханов позорно бежал с поля сражения». В этом была бы полная правда, если б я действительно сражался с Сухановым, но я и не помышлял о сражении.
На место Суханова был назначен молоденький учитель Семен Игнатьевич Шанько, скромный и застенчивый19, как девица, честный и добрый, толковый и трудолюбивый. Я продолжал жить в училище до лета 1893 г. Мои отношения с Шанько были идеальными: мы жили как родные братья.
Следующий после моего приезда в Усмынь день был Рождественский сочельник. Утром о. Павел говорит мне: «Сегодня вечерком поедем с вами в имение генеральши Оранской Дымово. Она несколько раз в году приглашает наш причт совершать богослужения в ее доме. Набожная и незлая, но странная особа: из дому никуда не выходит и у нее никто не бывает: у ней две дочери, которых держит взаперти. В прошлом году старшая и неглупая барышня влюбилась в нашего исправника Дмитрия Евменовича Лавровского. Что и говорить, видный он мужчина, женщины красавцем его считают, но он же в деды ей годится — ей 19, а ему 50, он неуч из 3-го класса духовного училища, дьячковский, а она дочь важного генерала, богатая помещица. А ведь настояла на том, что ее выдали за Лавровского замуж. Не видя никого, кроме эксцентричных матери с бабушкой, мамок да нянек, младшая дочь Софья растет нелюдимкой, как тепличное растение. Сегодня будем служить всенощную. Чтоб не спотыкаться, вы просмотрите службу. Теперь же дайте пропоем «Рождество Твое» и «Дева днесь!»
У о. Павла был приятный тенорок, у меня — неплохой баритон. Нехудо вышло. О. Павел остался очень доволен. К 5 часам вечера мы прибыли в Дымово. Нас ввели в огромную гостиную, где было все приготовлено для совершения богослужения. Скоро вышли генеральша, ее мать и дочь. Генеральша важная и чопорная, мать — дряхлая и скромная, дочь — запуганная, боязливая. — и все, как покойники, бледные. Богослужение прошло нехудо, а чтение — отлично. По окончании богослужения о. Павла пригла-
76
сили в столовую, а меня отправили в господскую кухню. Это меня смутило, но вспомнил я польскую поговорку: «Пляши, враже, як пан каже» («Танцуй, враг, как пан приказывает тебе»). Оказалось, что моего предшественника Соколова тут всегда принимали в кухне. Заметив, что меня отправили в кухню, о. Павел разъяснил генеральше, что нельзя принимать меня, как принимала она прежнего псаломщика: я с большим отличием окончивший курс семинарии, завтра могу стать таким же, как и он, священником. Генеральша велела пригласить меня в столовую к столу. После того я ни разу не попадал в генеральскую кухню. А генеральша часто обращалась ко мне за разъяснениями по богословским вопросам. Отужинав и получив мзду за свой труд (о. Павел — 3 рубля, я — 1 рубль), мы вернулись в Усмынь.
Село Усмынь мне сразу приглянулось: справа, если смотреть на север, длинное (7-8 верст) озеро, слева — огромный, тянувшийся почти на 50 верст лес. Лес около с. Усмыни принадлежал барановскому имению помещика Клейнберга: на западе он сходился с лесом имения Усвяты. В первом имении было 18 тысяч, во втором — 65 тысяч десятин земли. Перед революцией оба эти имения принадлежали Павлу Владимировичу Родзянко. Озеро богато редкой в Витебской губернии рыбой — судиками: в лесу множество всех родов птиц и зверей (волков, лисиц, медведей, лосей), ягод и грибов. Приход усмыньский по количеству населения был почти в два раза меньше хвошнянского, но более разбросан: были деревни в 18 верстах от церкви. Население Велижского уезда значительно отличалось от городского: оно было темнее и серее. И по говору и костюмам оно отличалось: в говоре цоканье — цаша, цай, отце и так далее, в костюмах преобладал серый цвет, шубы были с большими, широкими воротниками, из обуви в большом употреблении были лапти из лыка (однажды я видел жениха и невесту, под венцом стоявших в лаптях). Материальное положение усмынских прихожан было не хуже, чем хвошнянских. Были и очень богатые деревни, как, например, Миняхово. Набожность усмынских прихожан не давала оснований жаловаться на нее: они любили своей величественный храм20, усердно посещали его, охотно жертвовали на него. По материальному обеспечению причта усмыньский приход не уступал хвошнянскому.
Наступил праздник Рождества Христова. С раннего утра народ повалил в церковь. Как и в Хвошно, скоро храм наполнился народом, запылали лампады сотнями свечей. Недурно пел организованный Сухановым хор. Между утреней и обедней я провел внебогослужебное чтение, за литургией о. Павел говорил проповедь. Он не блистал ораторским искусством, но был усерден в проповедании Слова Божия, проповедовал не мудрствуя лукаво, но ясно и поучительно. Я вышел из храма окрыленным,
77
почувствовав, что храм этот и эти люди становятся близкими и родными.
Дальнейшая моя жизнь в с. Усмынь совершенно отличалась от хвошнянской. В с. Хвошно и о. Федор, и все мы жили отшельниками: за три месяца службы в этом селе я всего один раз был гостем в доме о. Федора и в доме священника соседнего с. Вышедки о. Льва Лызлова21. Сам о. Федор ни разу не выезжал в гости. Затрудняюсь сказать, чем объяснялось это: скупостью или нелюдимством? Пожалуй, тем и другим вместе. В Усмыни был совсем иной темп жизни. Александра Георгиевна любила бывать в гостях, любила и у себя принимать гостей. Принимала она всех с радостью, будучи очень искусной хозяйкой, угощала гостей обильно и всегда вкусно. О. Павел тоже не прочь был посидеть в гостях и встречал у себя гостей радушно. Кто только не бывал у Щербовых! Приезжали к ним по делам и без всяких дел священники, то одни, то со своими женами: приезжали разные чиновники: училищные, инспектора, акцизные, исправники, становые приставы и разные иные люди. Кто бы ни заехал в дом о. Павла, не уезжал он оттуда голодным. Разные маринады и соленья Александры Георгиевны, ее борщи, жаркое и особенно саговые пудинги с ромом славились во всем уезде. Пудингами, впрочем, она угощала только особо избранных, почетных гостей.
О. Павел был избалован кухней своей супруги, малейшая неудача какого-либо блюда замечалась им. Тогда он позволял себе возвысить голос, если, конечно, за столом не сидело чужих людей: «Что-то у тебя, матушка, с этим блюдом не вышло». На это следовал ответ Александры Георгиевны: «У вас, Павел Васильевич. свинячий вкус. Куп1айте, что дано вам!» О. Павел смолкал и продолжал кушать.
В течение праздников семья о. Павла несколько раз выезжала в гости в соседние села и всякий раз брала меня с собою. Меня очень занимало это, тем более что везде меня принимали как желанного гостя. К Щербовым также не раз приезжали гости. А я уже успел стать у них совсем своим человеком.
Сейчас же после Крещенья началась сдача причтами благочиния годовых отчетов и книг. К благочинию о. Павла тогда принадлежали церкви: Барановская, Пухновская, Прихабская, Велищенская, Крестовская. Глазомичская, Агрызковская, Ильинская, Усмыньская, Маклоковская и Лесохинская. О. Павел поручил мне проверять все привозимые книги и отчеты и о результатах проверки докладывать ему. Церковное письмоводство я не худо знал: будучи семинаристом, я постоянно помогал отцу вести метрические книги, а в конце года помогал священникам составлять приходно-расходные отчеты. Теперь к порученному мне о. Павлом делу я отнесся со всем вниманием: проверял решительно всякую запись, исправлял неточности и ошибки, знаю-
78
щим давал советы, незнающих учил. Помню, что самой неисправной оказалась тогда отчетность Барановской церкви. Метрические записи там были полны пропусков и разных ошибок: в брачном обыске лета женихов и невест были либо уменьшены, либо увеличены: в приходно-расходных и годовой отчетности — сплошное сочинительство. Объяснялось это просто: священник этой церкви И.С. был совершенно спившимся алкоголиком, а псаломщик К. и по внешнему виду, и по духовным дарованиям — убогим человеком. Много мне стоило труда, чтобы убедить его, что жениху, родившемуся в январе 1869 г., 22 года, невесте, родившейся в январе 1873 г., 18 лет, а не 25 и 16, как записано псаломщиком в обыске. Псаломщик К. высчитывал года, только пальцам своим доверяя, часто сбивался, и мне стоило большого терпения, чтобы довести его до сознания и заставить исправить ошибку.
За время сдачи отчетности я познакомился со всеми священниками и псаломщиками благочиния и даже присмотрелся к каждому из них. Скоро во время ревизионной поездки о. Павла по благочинию, в которой я сопровождал его, я смог еще лучше присмотреться к ним. Не скажу, чтобы я был очарован виденным. Начну с внешней стороны их быта.
Бедным — и то относительно — в благочинии считался только Барановский приход; все остальные хорошо обеспечивали свое духовенство, в особенности священников. В домах священников замечались достаток, довольство, культурная обстановка. Исключение составляли священнические дома в Баранове, Ильине и в с. Велище. В первых двух царили убожество и нищета, причиной которых было пьяное беспутство духовных отцов: в с. Велище священнический дом был превращен в квартиру Плюшкина в духовной рясе.
В морально-служебном отношении уровень духовенства благочиния трудно было признать высоким. Всего с благочинным 11 священников. А среди них Ильинский (Ф.Ж.) и Барановский (И.С.), алкоголики последней степени, вечно пьяные, даже священнодействовавшие в пьяном виде, несчастнейшие люди. К состоянию алкоголика быстро приближался и молодой священник (семинарского выпуска 1889 г.) с. Прихабы (С.С.).
Священник с. Велище (А.О.) представлял собою исключительно отрицательный среди духовенства тип. Лет 40 от роду, росту и телосложения богатырских, лысый, с грубым лицом и громовым голосом. Его надо было бы назвать гениальным, если бы его достижения в моральном и культурном отношении хоть сколько-нибудь заслуживали уважения. В образовательном отношении он как будто нигде и ничему не учился. Его крохотные рапорты благочинному поражали своей безграмотностью в грамматическом, синтаксическом и логическом отношении. Все полученное им в духовной
79
семинарии и духовном училище было забыто. По окончании семинарского курса он не прочитал ни одной книги. Для своего прихода он был не духовным отцом, а грабителем, обиравшим своих духовных чад. Про него говорили, что он очень богат, но жил он как нищий: зимою (с о. Павлом мы были у него зимою) в одной маленькой (остальные комнаты не отапливались и были заперты), почти немеблированной комнате, питался чем попало, одевался бедно — это был двойник Плюшкина, только в духовном одеянии. Пил он умеренно, но был гораздо отвратительнее первых двух алкоголиков: те были безвольные, несчастные люди, по душе оба очень добрые, сердечные, отзывчивые, а это был волевой, физически могучий, но морально потерянный человек, грубый и бессердечный стяжатель, ради собственного обогащения обиравший своих прихожан. Может быть, раннее вдовство сделало его таким. Но едва ли у кого-либо он мог вызвать сострадание.
В с. Глазомичах священствовал уже приближавшийся к старческому возрасту Александр Черпесский, ворчливый и вздорный, все время судившийся со своим псаломщиком. Богослужебный журнал глазомической церкви был испещрен записями, которым не место в богослужебном журнале, свидетельствовавшими о баталиях, происходивших между священником и псаломщиком. Вот одна из них. Под 2 февраля (праздник Сретения Господня) рукою псаломщика написано: «Богослужения не было, потому что священник был в отлучке в г. Велиже». Сбоку же рукою священника добавлено: «А псаломщик Забелин в это время сидел в корчме у Хаима и поучал народ воздержанию». 35 лет уже священствовал о. Александр в одном и том же селе, а еще не имел первой награды — набедренника, которую другие получали за 2-3 года службы. Случай беспримерный! Но не награждать же было о. Александра за его небрежное отношение к службе и нрав вздорный.
Священник с. Кресты Владимир, или, как все его у нас называли, Володя С., всегда чистенький и нарядный, с женским, на котором всегда играл яркий румянец, личиком и совсем не мужским умом, не отличался особо отрицательными качествами, если не считать отрицательным качеством большую глупость, проглядывавшую в каждом его слове и в каждом движении. Володя был на 13 лет старше меня, а курс семинарии закончил только в 1885 г. (на 6 лет раньше меня), так как во многих классах он просиживал по два года. Однако он оказался догадливым сыном века сего (Лк. 16, 8): свои слабые успехи в науках и скудость ума он компенсировал женитьбой на родственнице правящего епископа Маркелла. Сейчас Володя занимал самое лучшее в благочинии место, хоть и не переставал быть мишенью для постоянных острот и насмешек, что смущало гораздо более умную, чем он, его драгоценную половину Евгению Михайловну.
80
Итак, шесть из одиннадцати священников скорее подходили к отрицательным, чем к положительным типам русского духовенства, хоть и были все они окончившими полный курс семинарии. Вообще в то время священники из неокончивших курс семинарии были редкостью, а вскоре после того получилось обратное явление.
Остальные пять священников были таковы. О. Павел и его старший брат Иван (в с. Пухнове) были благочестивыми пастырями. О. Леонид К. (в с. Агрызкове) выделялся своим умом и интеллигентностью. Он хорошо украсил свою церковь, организовал хороший хор, свободен был от корыстолюбия, внимателен к своим прихожанам и любим ими. Немножко портили ему важничанье и манерничанье, но с этими недостатками можно было мириться. О. Михаил В. (в с. Лесохине) был серьезным, очень скромным и благочестивым пастырем, нервным и самолюбивым, но всегда честным и благочестивым.
Остается сказать о маклаковском священнике Семене Ш. После во многом обвиняли его. Но тогда он был кротким, приличным, хоть и не блиставшим никакими особенными дарованиями и добродетелями пастырем.
И тогда, служа в с. Усмынь, и после не раз я задавал себе вопрос: вот в Усмыньском благочинии все 11 священников были из окончивших полный курс семинарии и в целой епархии было то же, но почему же так низок был моральный и служебный уровень наших пастырей? Почему сильных пастырей было меньше, чем слабых? Почему так редко встречались у нас идейные, самоотверженные, действительно отвечающие идее своего служения пастыри? И тогда, и после мне казалось и теперь кажется, что две главные причины лежали в основе этого печального явления. Во-первых, виновна была наша семинария, не подготовлявшая должным образом своих питомцев к пастырскому служению: не развивавшая в них пастырского духа, пастырского огня, пастырской любви к предстоящему служению. Во-вторых, не менее повинно было в этом духовное начальство — благочинный, консистория, архиерей.
В епархии я служил под началом четырех благочинных. По умственным и моральным качествам это были люди разные. У начальства же — у архиерея и консистории — все они считались хорошими благочинными: аккуратными, исполнительными, точными.
Благочинные... Они не понимали своего наименования, которое указывало им. что они должны быть не добрыми (благими) чиновниками, а творцами, блюстителями (чинителями) блага во всех его смыслах и отношениях, и прежде всего в отношении жизни и деятельности подчиненного им духовенства. Они же были почти исключительно архиерейско-консисторскими чинов-
81
никами, проверявшими церковную отчетность, собиравшими и передававшими в консисторию разные отчисления и пожертвования. Одни из них обвиняли пред начальством и невинных, не умевших или не пожелавших угодить им; другие покрывали явно виновных, даже преступных: и те и другие не считали своим долгом предупреждать преступления. Вот хотя бы тот же о. Павел. Священник с. Прихабы С.С., явно злоупотребляя выпивкой, катился в пропасть: о. Павел видел и понимал это, мог своими внушениями, угрозами, наконец, мерами наказания заставить его опомниться, остановиться. А он только подтрунивал над этим несчастным молодым иереем. И барановский о. Илья, и ильинский о. Федор не превратились бы в погибающих алкоголиков, если бы в свое время начальническая рука сначала наставила, а потом поддержала их. И велищенский о. Арсений не спустился бы ниже мужицкого уровня, если бы мудрый начальник взял его в руки. И так далее.
Архиереи призваны быть отцами для пастырей. Но многие из этих «детей» старались не попадаться на архиерейские глаза, а архиереи не горели желанием увидеть всех этих чад. О. Александр Черпесский за все 35 лет своего священнослужения ни разу не переступил архиерейского порога, а ни один из архиереев — за 35 лет их сменилось четыре — не поинтересовался взглянуть на с. Глазомичи и его пастыря о. Александра. Архиерей тоже был поглощен чиновническими делами.
Усмыньскою жизнью я становился все более доволен. Работы у меня было довольно много. В летнее время я отдавал свои досуги рыбной ловле, собиранию грибов и ягод, в зимнее — посещал и близких, и дальних соседей. Щербовы хорошо относились ко мне, а их Ваня во время своих каникул изо всех сил старался угодить мне. В селе кроме дома Щербовых было еще два семейных дома: волостного писаря Абрамовича, лицом татарина, малокультурного человека. Все считали его большим взяточником. И о. Павел, и я бывали у него не более двух раз в год.
Вторым был дом Михаила Григорьевича Нестерова, управлявшего тогда имением Усмынь. Нестеров, уроженец г. Смоленска, был человек простой, не получивший образования, но разумный и добрый. Слабее была его жена, болезненная, капризная и неумная Евдокия Васильевна. Нестеров очень любил меня и предрекал мне большое будущее. Однажды, когда у Нестеровых был прием гостей, он начал очень пристально смотреть на меня: «Что вы так смотрите на меня?» — спросил я. «Смотрю и думаю: будете вы великим человеком», — ответил Нестеров. «Еще бы! Женюсь. Потом добуду священническое место в каком-либо захолустье. К старости, может быть, в благочинные вылезу», — смеясь, сказал я. «Вы не смейтесь! Будете вы великим человеком», — повторил Нестеров. Я тогда вспомнил, что и рань-
82
ше подобное предсказывали мне. Когда мне было лет 8-9, бабушка (ей тогда было под 80) 25 июля, в день Святой Анны, взяла меня с собою на богомолье в с. Стайки, что в 12 верстах от Дубокрая. Шли пешком. Подходя к селу, уставшая бабушка присела отдохнуть, а я, босой, продолжал бегать около нее. В это время подошла к нам цыганка. «Старушка, дай погадаю тебе! Одну правду скажу», — обратилась она к бабушке. «Нашла кому гадать! — засмеялась бабушка. — Что ты мне выгадаешь? Я и без тебя знаю, что скоро умру. Вот, если хочешь, погадай моему внуку». Цыганка взяла мою руку, долго рассматривала мою ладонь и затем сказала бабушке: «Большим духовным лицом будет, старушка, этот твой внук. Вспомнишь, старушка, мои слова». Цыганку эту мы видели в первый и последний раз, и она не знала, откуда и кто мы. А еще ректор архимандрит Геннадий предсказал мне, еще холостому, что у меня умрет жена и я поеду в академию. Об этом говорилось раньше.
А вот с Анной Павловной у меня никак не налаживались отношения. Она была очень способной, здоровой и довольно красивой девушкой. Но мне она казалась гордой и надменной. А гордость людская более всего возмущала меня. В моем присутствии она часто выражалась: «Чтоб я за семинариста замуж вышла... Никогда! Фу!.. Семинаристы...» А мать вторила ей: «Моя Анюта только за академика выйдет замуж». Я. конечно, не возражал, но потом в беседе со своим сожильцом Шанько высказывался: «Анна Павловна-то наша... только за академика согласится замуж выйти. Пусть ждет, что петербургские и московские академики бросятся в Усмынь невесту искать». А не будь таких выпадов, я мог бы жениться на Анне Павловне, и тогда вся моя последующая жизнь потекла бы совсем по иному руслу.
Должен тут упомянуть, что, прибыв в Усмынь, я начал готовиться к поступлению в Санкт-Петербургскую духовную академию. Не с целью, конечно, явиться законным претендентом на руку Анны Павловны, а под влиянием частных писем моего друга Д.Т. Никифоровского, тогда студента Санкт-Петербургской духовной академии, настаивавшего на моем поступлении в академию. Я уже начал было готовиться к академическим экзаменам и собрал нужную для поездки в академию сумму денег. Но в июле 1892 г. прибыл ко мне в гости только что окончивший курс семинарии Л.Н. Астахов. С его прибытием не оказывалось у меня времени для подготовки к экзаменам, а собранные денежки быстро растаяли. Мысль об академии была мною оставлена.
В 1892 г. к нашему храмовому празднику Преображения Господня (6 августа) ко мне приехала мать, безгранично любимая мною. На радостях я попросил крестьянина деревни Холмы Фому. зажиточного хозяина и отличного рыбака, не оставить мою дорогую гостью в праздник без рыбы. Рано утром 6 августа Фома
83
принес только что пойманного 13-фунтового судака, за которого я заплатил ему 65 коп., по 5 коп. за фунт. Половина судака пошла на праздничный обед и ужин, а другая половина была матерью замаринована в подарок отцу. Не думал я тогда, что через 3.5 года не станет моей замечательной матери.
Наступил 1893 год. Жизнь моя текла установившимся темпом. Службы в церкви, требы в домах, письмоводство церковное и благочинническая канцелярия, проверка и прием причтовых отчетностей, внебогослужебные беседы и занятия с училищным хором, поездки с благочинным по ревизии, без благочинного — по соседям. В Великом посту на первой. Крестопоклонной и Страстной неделях ежедневные службы, на остальных — по средам, пятницам и воскресеньям. В Великом посту о. Павел готов был не выходить из церкви. Даже в пустой церкви, при двух-трех богомолицах, мы с о. Павлом тогда по 4-5 часов, не прерывая службы, своими чтениями и пениями прославляли Господа. Признаюсь, часто после таких служб не умиленным, а раздраженным выходил я из церкви.
Со второго дня Пасхи, кончая субботой, мы с о. Павлом странствовали по приходу, служа пасхальные молебны. Без молебна не оставили ни одного дома в приходе. Везде нас встречали радостно и радушно. При обходе деревни нас сопровождала толпа, впереди нас несли крест, хоругви, иконы. По обходе деревни нам предлагалось угощение. Вознаграждали нас по 10 копеек за молебен. Труд был очень нелегким: приходилось с утра до вечера странствовать по грязным, иногда топким улицам, питаться всякой всячиной, пользоваться, когда мы к ночи не возвращались домой, кое-каким ночлегом. Зарабатывали мы за святую неделю до 60 рублей, три четверти которых доставалось о. Павлу, а четверть — мне.
Сроки моей псаломщической службы приближались к концу. Мой сверстник Иван Еленевский (выпуск 1890 г.), мой однокурсник М. Блажевич, младший меня, и не выделявшийся в семинарии успехами в науках Николай Савицкий (выпуск 1892 г.) уже священствовали. Я имел полное право рассчитывать на скорое предоставление мне священнического места, поэтому приходилось подумать о женитьбе.
В день Святой Троицы на литургии в нашей церкви присутствовали жена управлявшего имением Бараново Елена Александровна Попова с гостьей, своей двоюродной сестрой Ираидой Мефодиевной Забелиной. Миловидная, скромная, кроткая и безгранично добрая Ираида Мефодиевна была круглой сиротой, бесприданницей и жила в семье своего двоюродного брата, священника витебской Иоанно-Богословской церкви Семена Александровича Гнедовского. Она сразу приглянулась мне. Я начал бывать в семье Поповых, скоро сделал предложение, а 30 июля
84
мы в Витебске повенчались. Я и теперь краснею, вспоминая, как легкомысленно обидел я тогда своих родителей: они лишь post factum узнали о моем вступлении в брак. Мать к этому моему греху отнеслась с поразительным всепрощением, но отец страшно разгневался и не хотел отвечать на мои извинительные письма, что чрезвычайно огорчало нас обоих. 30 августа этого года монахи Ордынского монастыря Смоленской епархии принесли в наше село монастырскую чудотворную икону Божией Матери. Я пригласил их в свой дом. Горячо молились мы с женой пред святой иконой. Я со слезами просил Божию Матерь утишить справедливый гнев отца и вернуть мне его любовь. Каковы же были наши удивление и радость, когда через несколько дней было получено отцовское письмо от 30 августа, в котором он благословлял наш брачный союз и просил забыть о недоразумении между им и нами.
После моей женитьбы отношение Щербовых ко мне заметно изменилось, стало сухим, официальным. Я не подавfk виду, что замечаю это, и продолжал исполнять все обязанности.
Зиму в невероятно холодном доме нелегко провели мы. Летом 1894 г. М.Г. Нестеров однажды обратился к о. Павлу: «Пора бы Георгию Ивановичу получить священническое место: три года уже псаломщиком служит, способный, образованный, хороший работник; из него хороший священник выйдет. Почему бы вам как благочинному не попросить архиерея?» «Нет! Я не могу сделать этого; архиерей может подумать, что я хочу сплавить Георгия Ивановича, чтобы его место занял холостой жених для моей дочери», — ответил о. Павел. Поняв, что на заступничество о. Павла рассчитывать нельзя, я решил самостоятельно поискать счастья. Мы с женою отправились в Витебск.
Витебским архиереем был в то время Александр (Заккис, родом латыш), человек неглупый и незлой, но болезненный, замкнутый и нервный. К моему несчастью, он тогда сильно гневался за что-то на брата моей жены священника С.А. Гнедовского. Узнав, что я родственник Гнедовского, он перенес свой гнев и на меня.
20 октября 1894 г., в день кончины императора Александра ΙΙΙ, я предстал пред светлые архиерейские очи. «Вам что угодно?» — строго спросил меня владыка. «Решаюсь просить милости Вашего Преосвященства предоставить мне священническое место»? — смиренно ответил я. «Чем же вы заслужили священническое место?» — недружелюбно глядя на меня, спросил архиерей. «В 1891 г. я на круглых пятерках окончил курс семинарии, 4-й год служу псаломщиком, стараюсь добросовестно нести службу: веду внебогослужебные беседы, произношу проповеди, управляю хором, помогаю благочинному в письмоводстве»? — еще смиреннее ответил я. «А школу вы открыли?» — перебил меня архиерей.
85
«Мне, Ваше Преосвященство, не дано право открывать школы. Это дело моего настоятеля, который к тому же и благочинный», — уже волнуясь сказал я. «А какое же место хотели бы получить вы?» — продолжал истязать меня архиерей. Я назвал три бывших тогда свободными и считавшихся самыми бедными в епархии места; последним я назвал место 3-го священника при бесприходном витебеком Успенском соборе. «Может быть, вы хотите занять место настоятеля моего кафедрального собора?» — уже ядовитый вопрос задал мне архиерей. Я нервно ответил: «Этого места я у вас не прошу!» «А для Успенского собора у меня есть более достойный кандидат. Давайте ваше прошение! Ответ на него сообщит вам консистория», — сказал архиерей. Я передал прошение, принял благословение и расстался с издевавшимся надо мною архиереем. Невероятно взволнованным вышел я из архиерейского дома. Жена поджидала меня. «Что с тобой?» — испуганно спросила она, увидев меня. «Он обидел меня... Пойду опять к нему и выскажу ему всю правду, какую он заслужил своим обращением со мной», — ответил я. «Не делай этого! Бог с ним! Не пропадем!» — успокаивала она меня, еще не зная, чем же я был обижен. Мы ни с чем вернулись в Усмынь.
Недели через две после переписки мною нескольких благочиннических бумаг о. Павел обратился ко мне: «А теперь прочитайте-ка вот этот консисторский указ». Консистория сообщала архиерейскую резолюцию: «Проситель еще молод и на службе решительно ничем не заявил себя. Есть более достойные. Отказать ему в предоставлении священнического места». «Это архиерейская благодарность за мои трехлетние труды и по приходу, и по благочинию. Вы, о. Павел, лучше других должны видеть, насколько прав тут владыка», — сказал я. О. Павел ничего не ответил мне и только, заложив руки за спину, начал взад и вперед, молча, ходить по комнате...
«Более достойным» кандидатом для Успенского собора оказался скромный, но без всякого образования пожилой иподиакон кафедрального собора Антипа Жигалов.
Счастье пришло ко мне с другой стороны. В конце 1894 г. личным секретарем епископа Александра был назначен Иосиф Григорьевич Автухов, мой товарищ по семинарии, возмущавшийся отношением этого архиерея ко мне. В самое короткое время он успел переложить архиерейский гнев на милость. В первых числах марта о. Павел молча вручил мне консисторский указ, извещавший, что резолюцией Его Преосвященства я назначен на место священника церкви с. Бедрица Лепельского уезда. На место псаломщика усмыньской церкви был назначен Виктор Жданов (выпуска 1892 г.), добрый и неглупый парень, но в семинарии не выделявшийся — ни дарованиями, ни успехами. Скоро Анна Павловна, забыв академиков, выйдет за него замуж. Мы с женою
86
поспешили выехать в Витебск, тем более что в самом скором времени она должна была разрешиться от бремени. Наше прощанье со Щербовыми не отличалось большой сердечностью.
После нашего отъезда на семью Щербовых посыпались несчастья: скоропостижно скончалась Александра Георгиевна: о. Павел, вбивая гвоздь в стену, упал со стула и сломал ногу, которую не сумели выправить, и он, ставши хромым, ушел за штат, передав место своему зятю Виктору Жданову. Последние годы своей жизни о. Павел жил в Петербурге у своего Вани, преподавателя Санкт-Петербургской духовной семинарии. Скончался он в 1912 г., когда я уже был протопресвитером военного и морского духовенства. Я отпевал его в семинарской церкви и затем провожал тело его до Волкова кладбища.
Анну Павловну я видел в марте 1916 г., когда, объезжая войска на фронте, я проезжал через г. Двинск, где тогда священствовал В. Жданов, ее муж, и посетил их дом. Анна Павловна, ей тогда было 40 лет, раздобрела, стала более разговорчивой, развязной, намекала, что ей хотелось бы жить в лучшем городе. Из мужа ее вышел неплохой священник.
Идея более или менее продолжительного прохождения кандидатами священства псаломщической службы — очень хорошая идея. Семинария не давала всего необходимого для успешного пастырского служения, не давала прежде всего того, что могли дать жизнь и служба. Псаломщическая служба будущего священника могла практически усовершенствовать его, ознакомить его с духовными нуждами прихожан и лучшими способами удовлетворения их, посвятить его в секрет плодотворного пастырского служения. Но для этого прежде всего требовалось: а) чтобы кандидат священства попадал под руководство идейного, благоговейного и мудрого настоятеля церкви: б) чтобы этот настоятель считал своею священною обязанностью пастырски воспитывать порученного ему кандидата. По моим долгим наблюдениям, витебское епархиальное начальство, назначая окончивших курс семинарии на псаломщические места, совсем не заботилось о том, чтобы эти кандидаты священства попадали под руководство достойнейших пастырей, а настоятели церквей совсем забывали об обязанности собственным примером и опытом подготовлять своих псаломщиков-семинаристов к достойному пастырскому служению.
Мне, в общем, повезло, что моими настоятелями были отцы Федор и Павел, отличавшиеся аккуратностью, исполнительностью, благоговейностью, нестяжательностью. Несравненно лучше было бы. если бы я попал к такому идейному, просвещенному и вдохновенному настоятелю, каким был о. Митрофан Блажевич. Но я мог попасть «в науку» и к о. Илье С. (с. Бараново), о. Ф.Ж. (Ильино), о. Сергию С. (Прихабы), о. Арсению О. (Велище)
87
и к иным еще худшим пастырям и от них научиться не высокому пастырскому служению, а пьянствию, приучить себя к бессердечному обиранию своих прихожан и дрзт'им проделкам недостойных пастырей, волков для своих стад (Ин. 10, 12). Такие случаи нередко бывали.
Итак, моя псаломщическая служба кончилась, оставив за собою длинный ряд и приятных, и тягостных воспоминаний. Последние бывают неприятны в момент переживания их, а потом время сглаживает их горечь, и они вспоминаются без гнева и озлобления.
От Усмыни до Витебска было 115 верст, на лошадях путь неблизкий и для моей беременной жены нелегкий. Доехали благополучно. Остановились у брата жены. На следующий день я представился епископу Александру. Несловоохотлив был владыка, хоть и принял меня приветливо, а не как 20 октября. Только и услышал я от него: «12 марта посвящу вас в дьякона, а 19-го — в священника. В консистории вам укажут, что вы должны предварительно выполнить». В следующие дни я выполнял предшествовавшие посвящению формальности.
V. На службе в сане священника
а) В селе Бедрица
12 марта было четвертое воскресенье Великого поста. В большом беспокойстве шел я накануне этого дня ко всенощной в кафедральный собор: за два часа до всенощной у жены начались роды, не обещавшие быть легкими; разные мрачные мысли лезли мне в голову. За ночь родильница не разрешилась, ее страдания были ужасными. Доктор С.В. Виноградский не отходил от нее, родные советовали мне отложить посвящение, но я отдался на волю Божию: будь, что Бог даст.
Ни пред посвящением, ни после него архиерей не сказал мне ни одного слова: возложил на мою голову свои руки, прочитал молитвы, и конец делу. После литургии ключарь собора объявил мне, что в течение всей недели я должен участвовать в утренних и вечерних соборных богослужениях. Между тем слабевшая от страданий жена не разрешалась. Возвращаясь из собора, я каждый раз со страхом входил в дом. Так продолжалось до 5 часов вечера понедельника. Возвращаясь в этот час из собора, я увидел бегущую по мосту около архиерейского дома тетку жены Марию Николаевну Рыжкову. Она радостно улыбалась и издали кричала: «Поздравляю! Поздравляю! С дочкой!» Как гора свалилась с моих плеч. Не помня себя от радости, я поспешил домой.
Первые пять дней я служил в соборе. Меня хвалили за смелое и без ошибок служение. В пятницу вечером и в субботу утром по
88
распоряжению архиерея служил в домовой архиерейской церкви. Автухов потом сообщил мне, что архиерею очень понравилось мое служение.
19 марта я был посвящен в сан священника. И опять я не услышал от архиерея ни единого слова. Вечером этого дня крестили мою дочь, нарекли ее Марией. Восприемниками были о. Семен Александрович Гнедовский и Марья Николаевна Рыжкова.
Вечерню в воскресенье, утром и вечером в понедельник и утром во вторник я служил в соборе. После службы во вторник ключарь собора говорит мне: «Сейчас же идите к владыке! Он ждет вас». Я действительно тотчас же был принят владыкой.
«Вот что! — обратился он ко мне после того, как я принял у него благословение. — Следующее воскресенье — Вербное, и в субботу на этой неделе Благовещение Пресвятой Богородицы. Ваш же приход давно без священника. Если не можете сегодня, то завтра обязательно отправляйтесь к месту вашего служения! Господь да благословит вас!» Благословив меня, архиерей удалился. Мне на всю жизнь запомнились эти напутственные начинающему служение иерею слова владыки. Я исполнил повеление: на другой день отбыл в Бедрицу.
Село Бедрица находилось за г. Полоцком, в 35 верстах от него и 13 верстах от г. Дисны Виленской губернии. Приход бедрицкий считался беднейшим в епархии, особенно для священника: дом священнический был запущен, священническая часть земли была истощена и бесплодна, даже огород священнический не был толком огорожен. Всем этим бедрицкая церковь была обязана моему предшественнику, совершенно опустившемуся, ленивому и беспечному, пристрастному к винопитию священнику Петру П., в течение многих лет настоятельствовавшему в Бедрице. И в других отношениях бедрицкий приход не мог радовать своего священника. В приходе числилось менее 1000 прихожан обоего пола. Прихожане по сравнению с хвошненскими и усмыньскими были бедными и менее набожными. Польское влияние отражалось на всем: на одежде, на жалком франтовстве и чванстве, на самой речи, засоренной множеством польских слов, и так далее. Доход причтовый был ничтожен — не более 40 рублей в год на причт. Доход натурой также был ничтожен. Для священника он составлялся из приношений при крещении детей и венчании браков: при крещении ребенка приносились бутылка водки и булка хлеба, при венчании брака — бутылка водки и гусь, словом, выпивка и закуска. Каждое такое приношение напоминало мне о моем «храбром пить вино» (Ис. 5, 22) предшественнике. В селе, если не считать находившейся рядом с ним за ручейком деревни, было всего четыре дома: при въезде в село корчма, затем небольшое здание церковно-приходской школы и напротив него неболь-
89
шая церковка, дальше складная, с хорошим фруктовым садиком усадьба псаломщика и еще дальше обидно неупорядоченная усадьба священника.
В четверг к обеду я прибыл от г. Полоцка на лошадях в Бедрицу в дом псаломщика. Псаломщик Осип Иванович Клепацкий и его жена были людьми простыми (она, кажется, и писать не умела, он недалеко ушел от нее), но бережливыми, опытными и запасливыми, всегда имевшими чем угостить дорогого гостя. Меня они приняли чрезвычайно радушно, угощали по-великопостному грибным супом и борщом, разными моченьями и соленьями, но вкусно и щедро. Кроме них двоих в семье были еще две взрослые дочери.
Осип Иванович оказался словоохотливейшим господином, в течение двух-трех часов он посвятил меня во все мелочи бедрицкой жизни: «Прихожане, по совести сказать, дрянь: и мало их, и бедны22 они, и ленивы, и не очень набожны. По правде сказать, нам от них что от козла — ни шерсти, ни молока. Доходу причтового дай Бог чтоб набралось рублей на 40 в год. Земелька... Моя, что Бога гневить, хорошая, сей на ней что хочешь, родит отлично, потому что я люблю и берегу ее; а вот ваша... У о. Петра она совсем не родила, потому что он не сдабривал ее навозом и не обрабатывал как следует. Худо, что своих дров у нас ни полена. Доселе сосед помещик, престарелый ксендз Обронпальский, ежегодно по 3 кубические сажени нам отпускал. Вы с ним спознайтесь — будет и вам давать. Есть тут еще две помещицы — православная Левикова и католичка Трещинская, познакомитесь с ними». И так далее. Жена Осипа Ивановича сидела молча, сложив на животе руки и наслаждаясь красноречием своего мужа. Оба они предложили поселиться у них на время, пока не приедет моя жена.
В пятницу, 24 марта, мы выезжали за три версты в деревню хоронить женщину. Тут я впервые увидел и услышал Осипа Ивановича в роли певца. Такого певца я никогда раньше не слыхивал: голос Осипа Ивановича был необыкновенно высокий, писклявый, со старческим дрожанием альт, хотя Осип Иванович еще далеко не был стар, слуху никакого. Подладиться к Осипу Ивановичу не было возможности: как только другой попадал в его тон, Осип Иванович убегал дальше, переходя на другую ноту. Осип Иванович годился только для solo. За время отпевания я искусал себе губы, сдерживаясь, чтоб не расхохотаться. «Ну, — подумал я. — наберемся горя с таким соловьем».
Следующий день — Благовещенье. Слух о моем приезде распространился в приходе быстро. В церкви собралось народу много: одни пришли помолиться в великий праздник, другие — увидеть нового священника. Были тут и обе помещицы — Левикова и Трещинская, по окончании литургии познакомившиеся со мною.
90
Осип Иванович удивлял меня уже не столько своим пением, сколько чтением; читал он, пожалуй, еще хуже, чем пел, — без соблюдения ударений, перевирая слова (вместо «нечревоболевшую» — «нечревоблевавшую»), не выражая никакого смысла. Признаюсь, и я служил не без ошибок — это же была первая моя литургия. Но мне удалось взять верный тон: служил я не спеша, но и не затягивая службу, каждое слово выговаривал отчетливо, стараясь придать ему нужный смысл, следил за каждым своим движением, избегая всякой фальши и в голосе, и в действиях. Помещицам моя служба очень понравилась, а моих ошибок они не заметили. В Вербное воскресенье опять литургия, которую я провел уже более смело и почти совсем без ошибок. Прихожане мои тоже остались довольны: после о. Петра, небрежного во всем и в службе, я показался им необыкновенным.
Месяца через три Осип Иванович удивил меня еще новым фокусом. Однажды принес он мне для подписи — писака он был почти такой же, как чтец и певец, — метрические книги. Я подписал. Я ожидал, что он сейчас же уйдет. Но он не уходил. Ерзая, сидел на стуле, глаза его бегали со стороны в сторону: видно было, что он хочет, но не решается что-то сказать.
— У вас, Осип Иванович, есть еще какое-либо ко мне дело? — спросил я.
— Нет, никакого, — смущенно ответил он. — Вот доходишки наши слабы. И раньше были неважны, теперь после града гляди что и совсем их не будет.
— На нет суда нет, говорит пословица. Мы будем делать свое дело, а доходы... Что Бог даст, — ответил я.
— Так-то так. Но как Бог. а сам не будь плох. Вон в Борковичах икона чудотворная... Какие там доходы! Священник и псаломщик богачами живут.
— Откуда же нам-то взять чудотворную икону? Чудотворные иконы на заказ не делаются.
— Это верно... А можно было и нам получить такую икону. Только бы вы согласились, — лукаво улыбаясь, сказал Осип Иванович.
— Не понимаю вас, скажите прямее! Подарит нам кто-либо такую икону, что ли?
— Кто ж подарит? Самим надо найти. Вот как можно устроить дело; в большой праздник, скажем, Преображения Господня, вы объявите в церкви, что видели знаменательный сон: Божия Матерь велела найти Ее икону чудотворную, находящуюся на нашем поле. Тогда от этой иконы будут изливаться разные чудеса. Сразу могут не поверить. Вы в другой праздник. Успение, уже прямей объявите; второй сон видел. Божия Матерь гневается, что мы не ищем Ее икону: теперь Она объявила, что икона Ее стоит в кусту, около дороги, что идет в имение Княжево, на ниве
91
псаломщика. После обедни пойдем искать икону. А я заблаговременно устрою икону в кустике. Есть у меня старенькая икона. И пойдут же у нас тогда молебны. Народ валом повалит в церковь.
— Это надо было вам с о. Петром устроить, если б только он согласился. А я не мастер на такие штуки, — ответил я.
Осип Иванович сконфуженным ушел от меня. В общем же удивительный это человек: отличный хозяин и никуда негодный служака: приветливость, услужливость, гостеприимство ангельские, а коварство бесовское. Как псаломщик он удручал меня, а как человека я любил его. С таким псаломщиком трудно было достигнуть благолепия в службе. Чтобы привлекать людей в церковь, я усиленно проповедовал, не оставляя ни одной службы без соответствующего назидания. Народ начинал привыкать к церкви.
В понедельник Страстной я отправился в село Ветрино (в 12 верстах), чтобы представиться благочинному — протоиерею Иакову Конецкому. Его младший сын Семен был моим товарищем по семинарскому курсу и очень любил меня. От того же Осипа Ивановича и от других я получил самые обстоятельные сведения о моем новом начальнике. И раньше я многое слышал о нем. Ему уже было под 70. Первым он окончил курс семинарии, должен был отправиться в академию, но женился и стал священником. Он уже около 50 лет священствовал в одном и том же селе Ветрино, в приходе скорее бедном, чем богатом. 43-й год он был благочинным, давно уже с протоиереем, что для сельского священника тогда было большой редкостью. Владыки не раз предлагали ему отличные места настоятельские в соборах, но он упорно отказывался, оставаясь в бедном Ветрине, где были известны ему каждый кустик и каждый ребенок. Но я еще ни разу не видел о. Иакова, которого знало духовенство всей епархии и которого считали очень умным, дельным и строгим благочинным. Я горел желанием увидеть его.
Как только я переступил порог благочиннического дома, меня удивило множество латинских изречений, развешенных на стенах и дверях дома. Оказалось, что о. Иаков в совершенстве владел латинским языком, со своим старшим сыном Василием, бывшим учителем латинского языка в Полоцком духовном училище, переписывался на латыни, очень любил читать латинских классиков и читал их без словаря. Меня встретили две пожилые девушки, дочери о. Иакова. Жена его давно умерла. Встретили меня чрезвычайно приветливо, как близкого родного, и провели меня в гостиную. Тотчас ко мне вышел благочинный, старик росту выше среднего, худощавый, с маленькой бородкой и проницательными глазами. «Очень, очень рад вас видеть. Я уж вас знаю от Семена своего». — ласково заговорил он, обнимая и целуя меня. Начались потом расспросы: когда рукоположен, где
92
жена, кто еще в семье, как доехал до Бедрицы, понравилось ли село и так далее. Потом о. Иаков начал ориентировать меня.
«Приход-то ваш слабенький: населения мало и бедное, земельный надел тоже слабоват, к тому ж ваш предшественник о. Петруха здорово его запустил. Вот был священник! Он и служил-то только в большие праздники. Ничем не занимался, кроме вина. Доходов денежных там у вас будет мало, потому что за требы водкой платят, это Петруха завел такой порядок. Да что я вас величаю на «вы»? Вы же во внуки годитесь мне и товарищ моего сына. Буду называть на «ты», так теплее будет. А вы не обижайтесь на меня, старика! Так вот какие дела. Нежирно будет тебе житься, но ты еще молод и семья у тебя небольшая. Немножко поживешь там, а потом устроим тебя на лучшее место. Непременно, не медля, сделай визиты тамошним помещицам: Александре Антоновне Левиковой и Казимире Антоновне Трещинской. Они небогатые, но очень добрые, особенно последняя, хоть она полька и католичка, даже беспутному Петрухе помогала. Еще старику ксендзу Обронпальскому визит сделай, три кубика хороших березовых дров будет давать тебе. Соседи твои духовные, и их избегать тебе нельзя... Мое, брат, благочиние ссыльное: больше молодых, а еще чаще таких, как Петруха, присылают. Кого только под моим началом не бывало! Кажется, все пьяницы и скандалисты со всей епархии у меня перебывали. Каких только номеров я не видел. После об этом расскажу, а теперь познакомлю с твоими ближайшими соседями.
В с. Дубровки о. Георгий Смирнов, ты должен знать его, потому что по семинарии он только на два года старше тебя. Отличный священник, дельный, скромный, трудолюбивый. И жена его — хорошая барынька. От Дубровок до Бедрицы 10 верст. Ты с ними знайся. В местечке Ореховно священником Михаил Высоцкий, разумный, с хорошим голосом и добрым сердцем, но у него два несчастья: первое — он вдовец, с женою не более двух лет жил, второе — его батька, отставной становой пристав, пьяница. Вместо того чтоб сдерживать несчастного сына, он поощряет его: «Выпей, Миша, легче станет». Горе, а не батька. Жаль мне Мишки. Он тоже немного старше тебя, лет на пять. А вот в пяти верстах от тебя в с. Нача сидит фрукт, какого не найдешь во всей епархии, потому что холмской он породы, епископ Маркелл привез с собой из Холмской епархии, это сокровище, женив его на своей родственнице и сделал его иподиаконом в кафедральном соборе, а затем дал ему это лучшее в моем благочинии место. Ты должен знать его. Это не священник, а черт знает что такое: не душами, а птицами занимается. Птицу него до 500: куры, гуси, индюки, даже выученный им журавль имеется. Куда у него ни пойдешь — везде куры: и на кухне, и в спальне, и в гостиной. Сам кормит и поит их, убирает их помещения, сам каж-
93
дый день щупает всех. Я его зову «курощупом». Больше же всего занимается журавлем. Несколько раз в день выходит на двор и начинает наигрывать на языке и притопывать ногами. Немедленно появляется тогда журавль и начинает танцевать около него. Иерейское занятие... Зовут этого молодца Юзя (Иосиф) Вишневский. И жена у него не как наши: ни барыня, ни попадья. Кажись, грызутся здорово. А по душе Юзя неплохой человек. Но обидно. Приедешь к нему; «Где батюшка?» Отвечает прислуга: «На кухне». Идешь на кухню, а там только ноги из-под печки торчат: кур. значит, щупает. «Вылезай, — кричу. — курощуп, да руки мой. Пока не вымоешь, не поздороваюсь с тобой». С псаломщиком все время судится: тот не перестает жаловаться на его кур, объедающих псаломщические нивы. И сейчас дело их в консистории. Недавно был у него забавный случай. Ты. конечно, знал секретаря консистории Спасского — честняга человек, и настоятеля кафедрального собора протоиерея Василия Волкова — этот, брат, с кого хочешь возьмет. У Юзи в консистории дело, судится с этим злосчастным псаломщиком из-за птиц же. Чтобы задобрить секретаря. Юзя принес ему парочку откормленных индюков. Секретарь, как ты знаешь, живет в консисторском здании внизу, консистория над ним вверху. Секретаря не оказалось, и Юзя передал индюков прислуге: «Скажи господину секретарю, что это от священника, который скоро зайдет к нему». Пришел секретарь и застал индюков, разгуливающих по кухне. «Это что такое?» — строго спросил секретарь прислугу. — «Какой-то священник принес их. Скоро зайдет к вам», — ответила прислуга. «Вон их!» — приказал секретарь. Прислуга выпустила индюков на лестницу. Скоро явился Юзя, чтобы лицезреть секретаря, и к великому удивлению увидел своих индюков, странствующих по консисторской лестнице от дверей секретарской квартиры до входа в зал консистории, значит, снизу вверх и обратно. В это время входит с улицы протоиерей Волков: «А. отец Иосиф! Как живешь? Кого ты тут поджидаешь?» — «Да вот. отец протоиерей. большая неприятность: принес я господину секретарю из уважения к нему пару индючков, мне ж они ничего не стоют, а ему в городе таких не достать. А он выбросил их». — «И чудак же наш секретарь, от таких индюков отказывается. Вот что. отец Иосиф, отнеси-ка ты их мне! Мне они пригодятся, я не люблю обижать людей». Юзя, конечно, исполнил поручение протоиерея».
Много и иных историй рассказал мне словоохотливый, много видевший на своем веку старик. Потом радушно угощали меня обедом. Только к вечеру выбрался я из этого милого дома. «Ты-то не забывай меня, старика. Всегда рад буду видеть тебя. А к Юзе не учащивай, от него добру не научишься». — были последние слова моего нового благочинного.
94
На обратном пути двоились у меня мысли. С одной стороны, старик очаровал меня своим радушием, простотою, приветливостью. С другой, какой-то голос спрашивал меня; а почему же этот умный и многоопытный старик не говорил с тобой о деле, почему он не проэкзаменовал тебя, как ты понимаешь задачи служения твоего в этом окатоличенном и запущенном приходе, как ты будешь служить, о чем и часто ли проповедовать будешь и тому подобное? Неужели у нас все благочинные таковы, что не любят они говорить о деле?
Со вторника я ежедневно служил. Прошла Страстная неделя, провели Пасхальную ночь не так, как это бывало в Усмыни, где церковь переполнялась народом и пел приличный хор, а все же для не привыкшей к благолепию Бедрицы сносно. На все лады солировал мой Осип Иваныч, канон пасхальный пел я и во всем старался придать нашему богослужению возможную торжественность. Разговлялся у Осипа Иваныча. Милая хозяйка вместо великопостных грибов и огурчиков маринованных угощала меня чудной, собственного засола и копченья, ветчиной и колбасой, жареными поросенком и индейкой, вкусными наливками, ароматной пасхой и прочим. Осип Иванович не переставал понуждать меня: «Скушайте, батюшка, ветчинки, поросеночка; попробуйте индейки, собственной готовли». И тому подобное.
На второй день Пасхи, отслужив литургию, я выехал в Полоцк, чтоб оттуда проследовать в Витебск. По пути заехал поздравить благочинного. Радость, гостеприимство... Едва вырвался оттуда.
Жену и дочку я застал в хорошем состоянии. Жена уверяла меня, что дочка уже улыбается. Это очень смешило меня. В четверг на пароходе с билетом от Витебска до г. Дисны мы выехали по Западной Двине. В пятницу к обеду мы прибыли в Бедрицу. Началась новая для нас жизнь.
Нас несколько беспокоил материальный вопрос. Деньги, вы- рЗ'ченные при ликвидации наших усмыньских пожитков, были израсходованы на переезд из Усмыни, на новые духовные облачения для меня, на разные другие нужды. Отправляясь в Бедрицу, я одолжил у дяди жены В.В. Рыжкова 100 рублей, с этим капиталом мы и отправились в путь. А нам предстояло много расходов: надо было приобрести семена для посева, 1-2 коровы, поросенка, кое-какую мебель и многое другое, необходимое в сельской жизни. Но оба мы были молоды, скромны и жизнерадостны, материальные недостатки не могли смутить нас. На будущее мы смотрели с надеждой. А тут соседи выручили нас. При первом же визите к ним и А.А. Левикова и К.А. Трещинская23 спросили меня, есть ли у меня семена для посева. Прошло несколько дней, и к нашему дому подъехали одна за другой две телеги с разными семенами для посева. И после они не переста-
95
вали снабжать нас разными продуктами. У Трещинской был огромный чудный фруктовый сад. Когда стали созревать фрукты, ее лакей в каждый четверг приносил нам огромную корзину с яблоками, грушами, сливами. Я храню самые светлые воспоминания об этих двух женщинах. Трещинская особенно удивляла меня. Она полька, католичка, а так относилась ко мне, православному священнику. Не проходило недели, чтоб она два-три раза не побывала у нас, всякое воскресенье и всякий праздник она обязательно посещала нашу церковь. У этой женщины не было и тени фанатизма, столь обычного у поляков и католиков. Вдова врача, священнического сына, А.А. Левикова также всегда относилась к нам с любовью и вниманием. Эти две женщины во многом скрашивали нашу бедрицкую жизнь.
Побывали мы у соседей священников. Юзю я застал в кухне под печкой —только ноги торчали — щупавшим кур. Со Смирновым близко сошлись, как и наши жены. Высоцкий, которого как знаменитого баса-шестиклассника я хорошо помнил, начал очень часто бывать у нас. Мы всегда с радостью принимали его. А он, бывало, сидя у нас, заплачет и скажет: «Грешно завидовать людям, а я завидую вам. Как у вас уютно, хорошо, тепло, как вы счастливы. А я... бездомный, бесприютный... как сирота...» У меня сердце раздиралось, когда я видел плачущим этого могучего, полного сил, умного и жизнерадостного мужчину. Чрез несколько лет, совсем молодым, он скончался.
В церковно-приходской бедрицкой школе учительницей была дочь Осипа Ивановича Мария, очень скромная, добрая и приветливая девушка и очень слабая учительница. Пока шли занятия в школе, я весь свой досуг отдавал ей, стараясь восполнить недочеты милой Марьи Осиповны. Кое в чем мне удалось это. В школе училось несколько еврейских детей, родители их попросили меня разрешить их детям посещать и мои уроки по Закону Божию. Я, конечно, разрешил, и еврейская детвора после того не пропускала ни одного моего урока. Вскоре мне была отпущена сумма на постройку нового здания для школы. Я уже начал постройку, как пришел указ о моем переводе, чрезвычайно обрадовавшем меня, так как я был переведен в родной уезд в село Азарково24.
Моим благодетелем в этот раз, как и раньше, оказался тот же И.Г. Автухов. Вот как произошло это. В Полоцко-Витебской епархии был единственный зараженный штундизмом приход — это Азарковский. Секта еще не успела пустить там глубоких корней, но все же было там пять очень фанатичных сектантов. Раньше они находились в ссылке, а теперь вернулись в родные края и начали свою работу. Священник села Азаркова переместился в м. Камень Лепельского уезда. На его место потребовался энергичный священник. Автухов указал епископу Александру на меня, и тот меня назначил. Указ был получен пред самым Рождеством.
96
Мы поспешили выехать в длинный путь. 100 верст, на лошадях. Как ни радостно было для меня это перемещение, все же и добрых соседей оставлять было грустно. С некоторыми из них я не переставал переписываться.
Вскоре после моего перемещения был перемещен и Юзя Вишневский в с. Лосвидо Городокского уезда, в 30 верстах от Азаркова. О. Яков писал мне: «Юзины куры уже выехали в Лосвидо, а сам Юзя пока пребывает в Наче», — ив другом письме: «Соизволил выехать и Юзя. На одной из станций между Полоцком и Витебском была у него история: кто-то открыл дверцы вагона с его курами. Куры повылезли и разбежались по всему вокзалу. Юзя бросился ловить их. И было ж хохоту у публики!» Однажды удалось мне посетить Юзю в Лосвиде. Там он. как и в Наче, занимался птицами, а не душами человеческими.
За пять дней до Рождества мы после невероятно утомительного для жены и дочери пути прибыли в с. Азарково.
б) В селе Азарково
Не красно Азарково углами, красно пирогами, можно было сказать об Азаркове словами русской пословицы. Небольшое сельцо приютилось за деревней того же названия около дороги, ведущей чрез с. Казьяны в г. Полоцк. Сельцо маленькое: около самой дороги по правую сторону — деревянная церковь: по левую сторону напротив церкви — здание народного училища: дальше от дороги и вправо от училища — дом псаломщика, а влево на возвышенном месте — усадьба священника. Даже еврейской корчмы в Азаркове не было.
Природа азарковская не отличалась красотою: ни реки, ни озера, ни лесу. Значительная река Оболь в трех верстах от него, лес в полутора верстах. В полуверсте, правда, протекал ручеек, в котором летом можно было выкупаться, но в жаркое лето он пересыхал. Зато усадьба священника... Хозяину ее завидовали многие: домик небольшой — три комнаты с кухней и хорошим под домом погребом: к нему пристроена крестьянская просторная изба для споловщиков25. Двор как ящичек, все постройки в порядке — видно, что долго тут жили заботливые, домовитые хозяева. Главным же украшением усадьбы был большой фруктовый сад. Со всех сторон он был окружен как стеною: с востока — домом, с юга — аллеей столетних лип26, с запада — ясеневой аллеей. а с севера — густым высоким орешником: огорожен высоким частоколом. Сад состоял из старых и новейшей посадки деревьев: яблонь, груш, слив редчайших сортов: всего в саду было более ста фруктовых деревьев. Кроме деревьев в саду росли кусты малины, крыжовника, черной смородины.
По количеству населения азарковский приход считался средним: в нем числилось немногим более 3 тысяч человек обоего по-
97
ла. Зажиточность прихожан была средняя, религиозно-нравственное состояние их доброе. Об азарковцах не говорили худо, а напротив, соседи отзывались об азарковских прихожанах как о народе благочестивом, любящем свой храм, добросовестном и трудолюбивом. Таковыми они и были: кражи и буйства тут были большой редкостью, во всем приходе я знал только одного пьяницу — крестьянина деревни Азарково Ивана Пуцыка. Таким своим состоянием азарковский приход был обязан двум моим предшественникам. долго священствовавшим в с. Азаркове, — отцам Василию Покровскому и Николаю Шелютто, пастырям добрым, учительным, весьма влиятельным в приходе.
В материальном отношении азарковский приход считался выше среднего, а в хозяйственном отношении совсем хорошим. Причтовой земли там не особенно много было: на священника и псаломщика всего 52 десятины, но зато вся земля была удобной, ни одной пяди неудобной земли не было; священническая часть (три четверти всей земли) была хорошо возделана, не оставалась без удобрения и потому давала недурные урожаи: причтовые покосы давали массу сена.
Прибыли мы в Азарково в пору самых жестоких морозов. А в Белоруссии церковь с отоплением тогда была редкостью. Через день по прибытии я должен был служить заказную литургию. Не забыть мне этой службы; на дворе страшный мороз, в церкви не теплее, чем на дворе, я дрожу от холода. После Херувимской на Великом входе несу я в одной руке чашу, в другой дискос и чувствую что-то неладное. Вошел я в алтарь, ставлю чашу и дискос на престол, а рука моя не отстает от чаши — примерзла. Я рванул ее. кожа осталась на чаше, вся моя ладонь засочилась кровью. На следующий день поехал я в с. Вировль (в 13 верстах от Азаркова) представиться благочинному. Благочинный, 40-летний мужчина, высокий, с длинной бородой, строгим лицом и чрезвычайно, как я после узнал, добрым сердцем, родной дядька моего друга Митрофана Блажевича, священник Владимир Васильевич Блажевич встретил меня как родного:
«Приятно, приятно познакомиться. — воскликнул он, целуясь со мной. — Еще ни разу не виделись, а хорошо тебя знаю: племянник много рассказывал о тебе. Хорошо, что к празднику поспешил приехать, а то пришлось бы мне о. Игнатия, моего сослуживца. командировать в твое село. Нельзя же было бы оставить такой приход без службы». Затем пошли расспросы; как ехали, как доехали, понравилось ли Азарково и тому подобное. Жена благочинного оказалась такой же ласковой и гостеприимной, как и ее муж. Угощали меня по постному, но обильно и приятно. Потом они стали самыми близкими моими друзьями.
В этом благочинии было три села двуклирных — по два священника и два псаломщика в каждом: Рудня, Меховое и Вировль.
98
Наставления, данные о. благочинным, мне, молодому пастырю, не были многосложными; «Приход твой хороший, лучше моего: прихожане — люди добрые, земля хорошая, а сенокосы совсем отличные, сад же еще лучше: постройки в полной исправности. Признаться, я подумывал переселиться туда, да пакости этой — штунды, появившейся там. испугался. Как-то ты с ней управишься». Вот и все, чему научил меня о. благочинный. Расставаясь. благочинный и его жена Матрена Дмитриевна просили меня поскорее показать им мою жену и считать их дом как бы своим домом.
Возвращаясь домой, я рассуждал: странно, что наше духовное начальство не любит рассуждать о деле, как будто оно совсем безразлично для них. Меня ведь послали в Азарково с очень ответственной миссией; там штунда, могущая распространиться во всей епархии, как распространилась она в Екатеринославской, Херсонской, Киевской и других епархиях: я совсем молодой и малоопытный священник, которого надо было бы ориентировать. научить, пособиями снабдить и так далее. Но архиерей положил резолюцию о назначении меня, консистория послала мне указ, и сочли они свой долг исполненным. Епархиальный миссионер. по всей вероятности, даже не поинтересовался, кто же назначен в это ставшее опасным для всей епархии село. От благочинного я узнал об азарковской штунде только то, что он испугался ее и потому не переместился в Азарково, в экономическом отношении привлекавшее его. После я еще более удивлялся, что за все время моего пребывания в Азаркове ни архиерей, ни консистория, ни епархиальный миссионер ни разу не осведомились, как же я управляюсь со штундой. Впрочем, может быть, это и лучше было, что они не вмешивались в мою работу. Об этом скажу ниже.
Праздничные дни со своими богослужениями переполнили радостью мою душу. Храм хороший, довольно просторный, переполнен народом. Лампады и подсвечники, как в Хвошно и Усмыни, перегружены свечами. Под управлением учителя Павла Ивановича Лаппо стройно поет хор. При входе в церковь и выходе из церкви меня радостно приветствуют крестьяне, ласковые, почтительные. и вид у них совсем иной по сравнению с бедрицкими — белорусский, а не польский. По окончании богослужения милый старичок, крестьянин соседней деревни Лаврентий Давьдович, уже 21-й год исполняющий должность церковного старосты в Азаркове. провожает меня до дому. Вслед за ним приходят поздравить меня с праздником и представиться мне учитель П.И. Лаппо и волостной писарь Василий Андреевич Вожик, милейший человек. Жена моя угощает всех их троих. У меня сразу завязываются с прихожанами и ближайшими соседями сердечные отношения. Я чувствую, что это мои близкие, родные, и мне
99
хочется послужить им. сколько хватит у меня сил и уменья. Скоро мои добрые прихожане оправдали составившееся у меня мнение о них. Их отзывчивость, их желание при всяком случае услужить мне проявлялись многократно. Припомню несколько трогательных случаев.
Кроме священнического сада, на причтовой земле не было ни одного деревца. Приходилось причту покупать дрова в лесу, находившемся в 10 верстах от Азаркова. Цена на дрова была ничтожная — 1 рубль за кубическую сажень крупных березовых дров на пню, но доставка их была затруднительна. В 1896 г. мой ленивый и небрежный споловщик не вывез дров до самой весны. Наступила весна, слякоть, бездорожье. Нам угрожала опасность остаться без дров. Однако мой споловщик не унывал, утешая меня, что стоит только обратиться к прихожанам, и они в один день переправят все дрова, а их было 10 кубических саженей. Я разрешил ему обратиться к прихожанам. Он объехал несколько деревень, и на другой день выехало 136 подвод, действительно сразу перевезших все мои дрова. Трогательно было то. что они не только не потребовали никакой платы, но еще благодарили меня, что я пригласил их.
Второй случай. В азарковском приходе, как и во всех других белорусских приходах, был тогда обычай, что члены причта осенью объезжали все деревни, собирая зерно. Мне стыдно было пускаться в такое странствование; я, думалось мне, получаю жалованье. доходы, у меня земли 39 десятин, и я поеду, чтобы получать зерно от малоимущих, располагающих 5-7-10 десятинами земли на семью... Я воздержался от поездки. Вдруг приезжает ко мне один добрый и разумный пожилой крестьянин. «Ты почему же. батюшка, не едешь к нам за зерном?» — спрашивает меня. Я чистосердечно объяснил ему причину. «Ты оставь эти выдумки! — сказал он мне. — Никто не разорится, отсыпав тебе зерна по силе своей. А порядок надо соблюсти, от дедов и прадедов идет такой ряд. Приезжай ко мне. Чайком с медком угощу тебя. И мужики будут рады». Приехал я к нему. Хозяйка начала хлопотать об угощении, а хозяин приказал сыну известить мужиков, что батюшка приехал. Не прошло и двадцати минут, как из всех домов понесли мне зерно, которое ссыпали в мешки, лежавшие на моей телеге, а потом приходили благодарить меня, что приехал к ним. А сколько других услуг всегда бесплатно делали они — не перечесть их.
Впереди же всех в этом отношении шел мой милый церковный староста Лаврентий Давыдович. Бывало, скажешь ему: «Надо бы к благочинному съездить, да у кого теперь лошадь наймешь, пора же рабочая». «Чего ж там нанимать. — отвечает он. — Запрягу пару своих гнедых и съездим». «Как же стану я отвлекать тебя от работы, да еще и пару коней твоих?» — «Сыновья и без ме-
100
ня управятся с работой, а на одной лошади как это можно чтоб я повез вас». Много раз он отвозил меня к благочинному, которому я всякий раз бывал благодарен за то, что он угощал не только меня, но и Лаврентия Давыдовыча за своим столом, и его коней овсом.
Я с своей стороны старался всячески служить моим добрым прихожанам. Очень скоро я заслужил такое доверие у них, что они делились со мной самыми сокровенными своими тайнами. Было несколько случаев, что тяжущиеся шли за правдой ко мне, а не в волостной суд.
Скоро установились у меня приятельские отношения и с азарковскими штундистами. Как я сказал выше, епархиальное начальство в отношении их предоставило меня самому себе. Теперь я думаю, что это и лучше было, потому что, если бы они взялись руководить мною, они заставили бы меня пойти по избитому пути. Путь же этот, почти никогда не приводивший к добру, состоял в следующем. Обращение раскольников и сектантов к Православной Церкви поручалось специалистам, какими считались противораскольничьи и противосектантские миссионеры. Они же «обращали» таким образом: приезжал миссионер в село, зараженное сектой или расколом, собирал при содействии полиции своих противников на собеседование и всенародно производил прение о вере. «Собеседуя», миссионер стремился не к тому, чтобы расположить своих собеседников к Православной Церкви, деликатно разъяснить им ошибочность их взглядов, а к тому, чтоб показать себя, своих же противников поставить в смешное положение, унизить, оскандалить их. Превосходя своих собеседников образованностью, ловкостью, миссионер достигал своей цели, но это не примиряло его противников с Православною Церковью и не убеждало их в своей неправоте, а только раздражало, оскорбляло, ожесточало их. Миссионер уезжал, а расплачиваться за его успех приходилось приходскому священнику, на котором вымещали свою злобу побежденные миссионером. Я же избрал иной путь. Раз-два в неделю я приглашал своих сектантов на чашку чаю и, сидя с ними у себя за столом, на котором кипел самовар и стояли разные снадобья, приготовленные женой, вел простую задушевную с ними беседу — по-дружески, без всякого задора и желания оскорбить иль унизить их. Мои беседы не остались бесплодными. Один из них, мой сосед Андрей, скоро отошел от штунды и заявил мне: «Я, батюшка, стал православным — я уже пью и курю». Я, конечно, разъяснил ему, что православие не в табаке и водке, а в правильном исповедании веры. Другой, Прохор, сын Лаврентия Давыдовича, стал моим другом, но просил не принуждать его немедленно вернуться в православие. Я понял, что ложный стыд мешает ему объявить себя православным, и выжидал его обращение. Трое прочих оставались непреклонны-
101
ми и даже начали пропагандировать свои противоправославные и политически вредные убеждения. Полиция отдала их под суд, и они были снова куда-то сосланы. Никого в приходе они не склонили на свою сторону. В общем, эти три проповедника произвели на меня тягостное впечатление: полуграмотные, малоразвитые, но фанатичные и упрямые, они не поддавались никаким ни доводам, ни убеждениям, ни ласке, ни гневу и бесстрашно шли навстречу грозившей им опасности.
Жизнь наша в Азаркове потекла мирным и приятным образом. Прихожане меня радовали, в лице учителя П.И. Лаппо и волостного писаря В.А. Вожика и его жены, высоконравственной и добрейшей женщины Марьи Игнатьевны, мы нашли искренних и сердечных друзей. Огорчал меня полученный «по наследству» от предшественника споловщик, но я скоро заменил его прекрасным хозяином и человеком, крестьянином Павлом Алексеевичем. Семья его — жена Ксения и три сына: Тимофей (женатый), Борис и Иван (холостые) — отличалась необыкновенным трудолюбием и полной честностью. Павел Алексеевич стал моим самым верным другом.
Благочиние наше было из удачных. В нем числилось 13 церквей, из них три двуклирных. Из 16 священников только мой предшественник по Бедрице похрамывал. Из остальных ни один не заслуживал больших упреков. С некоторыми из них. с ближайшими, у меня быстро установились самые добрые отношения.
Но скоро начались для меня испытания. Чрез две недели после моего приезда в Азарково я получил от отца телеграмму, извещавшую о тяжкой болезни матери. Я бросился перевезти ее к себе, но уже было поздно. Не пробыла она у меня и трех недель, как 30 января 1896 г. на моих руках скончалась от рака желудка. Для меня и моей жены это был тяжкий удар. Похоронили мы мать в Азаркове около церкви. Во всю последующую жизнь я не встречал такой кроткой, отзывчивой, сердечной и миролюбивой женщины, какою была моя мать. Я не могу назвать ни одного недостатка ее. Умерла она совсем нестарой, всего 45 лет от роду.
14 мая 1896 г. мы ждали телеграмму о происшедшем короновании императора Николая II и его супруги. К двум часам около церкви собралось множество народа. Пришли живущие в Азаркове евреи, пришли и мои сектанты. Около трех часов дня и я отправился в церковь. Увидев сектантов, я обратился к ним: «Как приятно, что вы пришли сюда. Перешли бы вы совсем к нам, довольно вам упорствовать». Я не думал никого обижать этими словами, но один из сектантов увидел в них оскорбление и резко сказал мне: «Лучше обращали бы вы внимание не на нас, а на своих. А то в наших глазах вы видите сучки, а в глазах своих прихожан не замечаете бревен». Я не понял намека и спросил его: «Кого с
102
бревном в глазу ты разумеешь?» — «Да хоть бы такого-то из такой-то деревни. Нечто не знаете, что он с родной дочерью живет? Нас упрекаете, что мы не так, как вы, слово Божие понимаем. А что он творит такое страшное преступление, вам это нипочем». Некоторые из стоявших тут подтвердили, что сектант говорит правду. На другой день я выехал в указанную деревню, и там соседи подтвердили указанный факт. Жаль мне было этого безумца, посягнувшего на честь своей родной 22-летней дочери, красивой и дельной девушки, но факт получил такую огласку и честь священника была так затронута, что я оказался вынужденным сообщить полиции. Преступник был арестован, отдан под суд и сослан на каторгу. Долго после того совесть мучила меня, упрекая за мое обращение к полиции. Позднее сообщали мне, что несчастная девушка от связи с отцом родила глухонемого ребенка, а потом вышла замуж.
Жизнь и работа в Азаркове радовали меня. Мне удалось выстроить хорошую каменную ограду вокруг церкви, покрасить внутри и снаружи церковь, приобрести несколько ценных вещей для церкви. Я сильно полюбил своих прихожан, они попривыкли ко мне. Я благодарил Бога и не мечтал о лучшей жизни. Как вдруг произошло событие, сразу разбившее мою счастливую жизнь.
В понедельник на Страстной неделе 1897 г. у моей жены начались роды, как и первые, оказавшиеся очень трудными. Привезенный из Городка доктор Миклашевский признал необходимым перевезти ее в Городокскую больницу. Была распутица и холодный ветер. Больная простудилась за длинный, в течение 8 часов, путь. Доктора, кроме того, признали, что у больной родильная горячка. В Великий четверг оперативным путем удалили ребенка. Положение больной стало безнадежным. Я не отходил от нее. В Великую субботу благочинный протоиерей Д. Григорович предложил мне совершить пасхальную службу в Городокской тюрьме. Оставив все ослабевавшую жену, я отправился в это печальное место. Каково же стало мое душевное состояние, когда, совершая богослужение, я увидел среди несчастных богомольцев азарковского кровосмесника. Первая явившаяся у меня мысль была, не является ли тяжкая болезнь жены наказанием мне, что при моем участии этот темный, несчастный человек попал в сие скорбное место.
В течение всей моей жизни не было у меня такой скорбной Пасхи, как эта Пасха 13 апреля 1897 г. Там, в Азаркове, оставалась на руках крестьянки, жены моего споловщика, моя малютка — двухлетняя дочка. Здесь, в городской больнице, среди чужих людей умирала моя подруга жизни. В Светлые понедельник и вторник я не отходил от ее постели, ночью со вторника на среду я ни на минуту не сомкнул глаз. Какие только мысли ни приходили мне, какие только ни рисовались мне картины. Вспоминался мне
103
о. Михаил Высоцкий, не раз в Бедрице в нашем доме проливавший горькие над своим вдовством слезы; вспоминался вдовец о. Арсений, превратившийся в грязного мужика, кулака Плюшкина в рясе: вспоминались другие вдовцы-священники, не вынесшие бремени своего вдовства, опустившиеся, спившиеся, развратившиеся...
В среду в 4 часа 35 минут утра моя жена тихо, почти незаметно отошла в лучший мир. В больничной палате никого, кроме меня, не было. Я закрыл глаза покойной, перекрестившись, сделал земной поклон и вышел на крыльцо больницы, стоявшей у самого шоссе. Ярко всходило солнышко, обещая светлый и теплый весенний день, по шоссе тянулись возы, за больницей в кустах пел соловей, в лужах по сторонам дороги квакали лягушки, а у меня изнывало сердце. «Совершилось, — думал я, сидя на каменном крыльце, — я вдовец! Ужель и я разделю участь несчастных вдовцов, которые в эти дни вспоминались мне? Нет! Этого не будет! С горем надо уметь обращаться. Поддашься ему, оно насядет и задушит тебя. А ты борись, одолевай его, выбивайся из его цепких рук! Дальнейший путь мой ясен: я должен поступать в академию...» Решив похоронить жену рядом с матерью, я уехал в Азарково, а здесь все предварительные хлопоты похоронные принял на себя о. протоиерей Д. Григорович, не забывший своей вины предо мною. Спасибо ему!
Прибыло в Азарково тело покойницы. На другой день, 18 апреля, хоронили ее. Собрались соседи-священники, поспешили отдать последний долг любимой матушке крестьяне, церковь не вмещала собравшихся. Похоронили рядом с матерью, в церковной ограде. После похорон, как полагалось, поминальный обед. Потом разошлись и разъехались гости. Остался я один со своей сироткой. У меня кошки скребут по сердцу, а она не перестает допытываться: «Где мама? Почему нет ее? Почему у тебя слезы?» От ее вопросов еще тяжелее становится мне.
На следующей неделе я отвез свою крошку к брату жены, С.А. Гнедовскому, а сам вернулся в свой опустевший дом. Потянулись тоскливые, мрачные дни. Одиночество угнетало меня. В Азаркове не с кем было разделить его. Единственным культурным человеком в селе был учитель Лаппо, но ему было не до меня: в это время он ухаживал за дочерью Вожика Варварой, а по окончании экзаменов уехал к матери. Псаломщик Иван Николаевич Никонович был довольно высокого для псаломщика образования: вышел из 4-го класса духовной семинарии, обладал сильным басом, когда-то пел в архиерейском хоре, но потом начал выпивать, был разбит параличом, отразившимся более всего на его мозговом аппарате, и теперь ни в собеседники, ни в утешители не годился. В.А. Вожик жил в Селещенском волостном правлении, в двух с половиной верстах от Азаркова. А дальше все негра-
104
мотные крестьяне — добрые, сердечные, разделявшие мое горе. Но они не могли дать то, что мне нужно было. Особенно тягостны были воскресные и праздничные дни. Бывало, при жизни жены приходишь из церкви, и тебя встречают жена, дочка, на столе кипит самовар, лежит пирожок... А теперь безлюдный, неприветливый стал дом. Бывало, приду после службы, вспомнится недавнее. такое красивое и приятное, и я упаду на диван, залившись слезами...
Поступать в академию я решил в следующем году: надо было опомниться, собраться с силами, подготовиться к экзаменам. Зная, что в Санкт-Петербургскую академию поступают самые сильные студенты и мне после семилетнего перерыва трудно будет состязаться с ними, я решил отправиться в провинциальную Казанскую академию. Но случай изменил мой план.
В день апостола Иоанна Богослова, 26 сентября, в церкви брата моей покойной жены совершал богослужение и затем обедал у брата ректор Витебской духовной семинарии архимандрит Константин, которому я был представлен. «Почему же хотите вы ехать в Казанскую академию, когда Петербург ближе?» — спросил он меня. Я чистосердечно изложил ему свои соображения. «Поезжайте в Петербург! Инспектор академии профессор Н.В. Покровский — мой приятель, я напишу ему о вас». — решительно сказал о. ректор. Брат жены, питомец Санкт-Петербургской академии, поддержал его. «Без всяких разговоров! Оставьте мысль о Казани и поезжайте в Петербург!» — повторил ректор. На семейном совете потом решили, что я должен ехать в Санкт-Петербургскую академию. Я подчинился.
Предметы предстоявших мне в академии экзаменов еще не были известны. Несомненно лишь было, что придется мне экзаменоваться по греческому языку, так как латинский язык был назначен в этом, 1897 г. Я начал возобновлять свои за шесть лет померкшие греческие познания.
Летом ко мне приехали два моих брата: Василий, ученик 2-го класса духовной семинарии, и Семен, 11-летний ученик духовного училища. Удивительный мальчик! Он сразу стал нашим поваром, готовил вкусные борщи, супы, окрошку, а варенье из ягод такое варил, что соседки-матушки расспрашивали его, как он готовит его27. На июль и половину августа приехал из Витебска брат моей жены со своей женой и моей дочерью. Это сильно облегчило мое горе: говорят же, что на миру и смерть красна. С отъездом 15 августа моих гостей опять осиротел мой дом. Чтобы скрасить свою жизнь, я еще ревностнее отдался пастырской работе.
Скоро стали известны предметы академических вступительных экзаменов в 1898 г.: четыре устных — по Священному Писанию Ветхого Завета, догматическому богословию, русской цер-
105
ковной истории и греческому языку — и три письменных. Я немедленно добыл нужные семинарские учебники. И.Г. Автухов снабдил меня записками А.Г. Любимова (по церковной истории), и я принялся за подготовку. Мне надо было так подготовиться, чтобы в числе первых 33 выдержать экзамены, тогда я получил бы полную стипендию, на четыре года всем обеспечивавшую студента.
Не отказываясь на случай возможного провала от места и не распродав своих азарковских пожитков, я 11 августа выехал из Витебска в Петербург, напутствуемый самыми благими пожеланиями своих родных и знакомых. На следующий день я прибыл в Северную столицу, своим величием и красотой сразу очаровавшую меня. В особенности очаровало меня богослужение в Александро-Невской лавре, всенощная накануне Успения Божией Матери. Престарелый, еле передвигавший ноги, но приукрашенный знаками своего высокого сана митрополит Палладий, масса окружающих его как на подбор великанов-монахов, божественное пение митрополичьего и монастырского хоров28 с могучим голосом дьякона, все убранство огромного собора буквально потрясли меня. На следующий день в том же соборе ставили во епископа викария Волынской епархии, ректора Тифлисской семинарии архимандрита Серафима (Мещерякова), получившего потом известность как автора магистерской диссертации о Валаамовой ослице (Чис. 22, 21-31). Я вернулся из собора, когда студенты уже отобедали. Опоздавшие питались в отдельной, около столовой комнате. Там я застал несколько человек студентов-волынцев, как и я присутствовавших на хиротонии. Делились впечатлениями. В это время вошел в нашу комнату студент-волынец IV курса Лотоцкий. Студент II курса Александр Немоловский (ныне архиепископ Берлинский), также волынец, обратился к нему: «Был ты на хиротонии?» «А что мне там на хиротонии?» — ответил Лотоцкий. «Как что? Получил бы благословение от нового епископа», — сказал Немоловский. «Очень нужно мне его благословение», — небрежно буркнул Лотоцкий. «Напрасно думаешь так. Разве не знаешь, что и на ослицу может сходить благословение?» — нашелся Немоловский.
К 15 августа съехались все желающие держать вступительные экзамены. Знакомство с ними запутало меня: большая половина их — первенцы разных семинарий, рекомендованные семинарскими правлениями, со свежими семинарскими знаниями явившиеся в академию. Как мне состязаться с ними? Но не спасаться же мне бегством...
18, 19 и 20 августа были у нас письменные экзамены, а с 22-го начались устные. Первым был поставлен экзамен по русской церковной истории. Экзаменационная комиссия состояла из трех профессоров: инспектора академии Н.В. Покровского (председате-
106
ля), протоиерея Павла Федоровича Николаевского (профессора по этому предмету) и Платона Николаевича Жуковича. Отвечали по билетам, в каждом из которых стояло три вопроса из начальной, средней и новой русской церковной истории. К этому экзамену я подготовился добросовестно, но никак не ожидал того успеха, какой получился. Взглянув на взятый мною билет, я не хотел верить своим глазам. Там стояли три вопроса: 1) кто был первый русский митрополит и где находилась русская митрополия; 2) князь Константин Острожский и издание им Библии: 3) штунда. Если бы пред экзаменом спросили меня, какие вопросы желательны вам, я указал бы именно эти вопросы. Еще в семинарии меня очень заинтересовал первый вопрос, потому что наш учитель А.Г. Любимов рассматривал его очень обстоятельно, пользуясь историями митрополита Макария и профессора Голубинского. Теперь я подготовился к этому вопросу по запискам Любимова. Второй вопрос трактовался пространно, не только по этому предмету, но и по Священному Писанию, и был проштудирован мною обстоятельно. Третий вопрос... Я же работал в зараженном штундой приходе и всесторонне изучил штунду.
Надо сказать, что от экзаменующихся требовали знания семинарских учебников. все излишнее считалось сверхдолжной заслугой. Я начал докладывать первый вопрос пространно, пользуясь не только семинарским учебником, но и записками Любимова. Протоиерей П.Ф. Николаевский, убеленный сединами старый профессор, слыл за очень строгого экзаменатора. Внимательно выслушав мой ответ, он спросил меня; «Откуда вы все это знаете?» Я ответил, что готовился не только по учебнику, но и по запискам, составленным по историям митрополита Макария и профессора Голубинского. «Тогда, может быть, вы ответите мне и на другие вопросы, связанные с этим? В вашем учебнике нет на них ответа». Профессор задал мне несколько вопросов, на которые я дал исчерпывающие ответы. «Отлично! — сказал профессор. — Теперь пойдем дальше. Следующий вопрос у вас о князе Константине Острожском. Вы. конечно, знаете этот вопрос?» «Знаю», — ответил я. «Тогда ответьте на третий вопрос, о штунде», — предложил профессор, тут я развернул свои знания. «Откуда вы все это знаете?» — спросил удивленный профессор. Я назвал до десятка сочинений по штундистскому вопросу. «А в вашей, Полоцкой, епархии есть штунда?» — спросил он меня. «Есть, — ответил я. — В азарковском приходе Городокского уезда». — «Кто же занес ее туда?» — «Солдат, служивший в г. Екатеринославе и заразившийся там штундой», — ответил я, назвав по имени и фамилии этого сектанта. «Много там сектантов, в Азаркове?» — спросил профессор. «Было пять, теперь остается три, потому что один вернулся в Церковь, а другой еще не вернулся, но совсем близок к этому», — и я назвал имена и фамилии всех пятерых. «Странно!
107
я не слыхал об этом. В литературе есть что-либо о вашей штунде?» — спросил профессор. «Есть несколько статей в полоцких епархиальных ведомостях». — ответил я. «Чьи же это статьи?» — поинтересовался он. «Мои», — сказал я. «Великолепно! — воскликнул профессор. — Желаю и на следующих экзаменах такого же вам успеха».
Потом мне сообщали, что экзаменовавшие меня профессоры говорили, что им никогда раньше не приходилось слышать такой блестящий, как мой, ответ. Когда я вышел из аудитории, меня догнал профессор Н.В. Покровский и пожал мою руку: «Поздравляю вас, о. Георгий. Ваше поступление в академию совершенно обеспечено». Следующие экзамены прошли у меня весьма благополучно: по греческому языку я получил высшую отметку — 5, по Ветхому Завету и догматике — по 4,5. В академию я поступил 19-м, значит, на полную стипендию. Счастливый и радостный, я отправился в Витебск, чтоб оформить свой отказ от епархиальной службы и ликвидировать свои азарковские дела.
В Витебске родные встретили меня радостно, в Азаркове и мои соседи, и мои прихожане были очень огорчены. И мне нелегко было расставаться с родными могилами, с добрыми соседями и со ставшими дорогими моему сердцу прихожанами. Поплакал я на дорогих могилах, на последней службе в азарковской церкви трогательно простился с прихожанами, со слезами расстался со своим милым соседом-благочинным и покинул Азарково, где так много видел я радостей и так много перенес горя.
На мое место по протекции начальницы Витебского женского духовного училища Марьи Васильевны Самочерновой был назначен вялый, бездеятельный, никогда не чувствовавший себя здоровым и всегда важничавший Николай Кнышевский, окончивший курс семинарии в 1892 г. и женатый на любимице Самочерновой М.Н. С-кой.
В июле 1900 г. я посетил с. Азарково. Как будто все оставалось прежним: так же стояли церковь и против нее, по другую сторону дороги, училищное здание: слева около церкви высились два холмика — мои дорогие могилы: красиво зеленел священнический сад со множеством фруктов. И люди оставались те же: В.А. Вожик, учитель Лаппо, псаломщик Никонович, староста Лаврентий Давыдович, споловщик Павел Алексеевич и прочие. Не стало лишь прежних отношений между азарковским священником и его прихожанами. О. Николай не понял секрета пастырского служения. не понял того, что отношение между пастырем и пасомыми должны быть прежде всего простыми, сердечными, дружескими. Будучи таким же, как и я. дьячковским сыном, о. Николай важничал пред прихожанами, высокомерно относился к ним.
Услышав о моем приезде, ко мне пошли со всех сторон. Первым пришел староста Лаврентий Давыдович. «Ладишь ли с о. Ни-
108
колаем, Лаврентий Давыдович?» — спросил я. «Лажу, — грустно ответил он. — Не то, что было с вами. Когда вы, едучи со мной, сажали меня на козлы? Всегда я сидел рядом с вами. А тут попробовал я сесть рядом с ним, а он мне: «Садись-ка ты на козлы. Этак лучше будет». Так и ездим теперь на моих конях: он паном, а я, старик, на козлах. Обидно, я ж ему не ямщик, денег с него не беру. Да Бог с ним!» Пришел мой бывший споловщик Павел Алексеевич. «Как живешь?» — спрашиваю. У того навернулись слезы: «Какая жизнь? Ничем ему, о. Николаю, не потрафить. И все подозревает, что мы обижаем его. Собираюсь уходить. Бог с ним!» И так все отзывались. Поздно вечером выезжал я из Азаркова. Остановился около церкви, чтоб еще раз поклониться могилам. Возвращаясь от могил, вижу какой-то человек стоит около моей повозки, стоит, сняв шапку. Оказалось, это Прохор Лаврентьев, сектант. Подошел под благословение, крепко поцеловал мою руку, я расцеловался с ним. Слабый свет луны падал на нас. Я заметил на глазах Прохора слезы. Спросил его о жене, о детях, о хозяйстве. Об его штундистских увлечениях не стал расспрашивать его. чтоб не бередить раны. Сердечно мы расстались.
Пред окончательным отъездом в академию я зашел к епископу Александру, чтобы откланяться ему. Если забыть о 20 октября 1894 г., то надо признать, что он хорошо относился ко мне: в декабре 1895 г. он назначил меня на хороший приход, в июне 1897 г., всего через два года, он наградил меня набедренником — такое скорое награждение было тогда редкостью. Теперь мое поступление в академию было для Полоцкой епархии крупным фактом: до того времени не было случая, чтобы священник этой епархии поступал в академию. Я знал, что владыка порадует меня добрыми словами. Но не речист был этот владыка. «Значит, в академию едете. Поезжайте! Бог да благословит вас!» — только и сказал мне мой бывший архипастырь.
Моя епархиальная служба кончилась, начиналась новая жизнь.
VI. Опять в школе.
В Санкт-Петербургской духовной академии
На первом курсе (1898-1899 гг.)
С гордостью, что я уже принадлежу к академической семье, и с благоговейным чувством к этому храму богословской науки я переступил порог академии. Меня ласково встретил старожил академии швейцар Лаврентий: «Имею честь поздравить с возвращением. Чемоданчик можете у меня оставить, а господин инспектор укажет вам, где поселиться». Я отправился к инспектору. Тот принял меня чрезвычайно приветливо, высказав надежду в
109
моем лице видеть примерного студента. От него я узнал, что мне с тремя другими своими товарищами, священниками Георгием Гапоном. Михаилом Степановичем Поповым и Виктором Васильевичем Плотниковым29, отведены три комнаты в больничном помещении, в маленьком домике в саду. Там мы разместились таким образом: Гапон захватил себе отдельную, правда, маленькую комнату, имевшую отдельный вход и дощатой перегородкой отделявшуюся от другой комнаты, в которой поместились я и Плотников. В третьей комнате поселился Попов. Через несколько дней в эту комнату поместили еще пожилого сирийца Малек Давида. После присоединения в 1898 г. к Православной Церкви массы сирийцев во главе с епископом Ионой, четверо из присоединенных — архимандрит, два священника и бывший учитель Малек Давид — были приняты в академию. Только Малек Давид обладал более или менее сносными познаниями. Зачисление остальных троих в студенты академии было редким недоразумением. Мой Азарковский споловщик Павел Алексеевич, безграмотный крестьянин, обладал несравненно большими богословскими познаниями и большей способностью разбираться в богословских вопросах, чем эти три священнослужителя — академических студента. Инспектор Н.В. Покровский скоро понял, что эти три студента не то что для академии, а и для 3-го класса духовного училища не годились, и поручил мне заниматься с ними. «Ваши духовные сирийцы, кажется, ничего не знают, — сказал он мне. — Вы уж, о. Георгий, призаймитесь с ними». «Чем же мне заняться с ними?» — спросил я. «Возьмите катехизис митрополита Филарета и почитайте с ними. А дальше сами увидите, чем надо занять их», — ответил инспектор. Я начал заниматься. 40 лет прошло после того, а мне и доселе грезятся эти занятия. Мои ученики кроме полного невежества оказались, как все восточные люди, невероятно говорливыми, причем старались говорить все разом по-русски, но с большим акцентом. Я потребовал, чтобы они говорили поодиночке и чтобы желающий сказать что-либо предварительно поднимал руку. Руки их после этого не опускались. На первом же уроке я убедился, что бесплодными окажутся мои усилия просветить их. Помню, на второй странице катехизиса стоит вопрос: что такое вера? «Знаете вы, что такое вера?» —спросил я. Они все закричали: «Знаем, знаем!» И подняли руки. «Ты, о. Илья, скажи, что же такое вера?» — обратился я к священнику. «Вэра, вэра — это вот когда корова ыдот куда, потому что знает, что там есть трава, — это и будет вэра». Малек Давид улыбался, покачивая головой, а по окончании урока сказал мне: «Э! Отец Георгий! Напрасно ты тратыш время. Разве нэ видыш, что научыть их нельзя. И зачэм они ходят на лекции? Слушают философыю, а спроси ых, что такое философыя, оны нэ знают: жэнщина это илы корова, и илы что другое. Нравытся им
110
профессор Аквилонов, потому что он большой и голос у нэго силный, и смотрыт на студентов строго, а нэ понимают у нэго ни одного слова. И нычэго оны нэ знают». Помучившись с ними некоторое время, я попросил инспектора освободить меня от занятий с ними. Тот поручил М.С. Попову продолжить занятия. Маленького роста, с крохотной бородкой, Попов оказался совсем не внушительным для них. Не прошло и 20 минут на первом его уроке, как один из учеников заявил: «Мнэ надоэло слушат, я пойду». «Мне еще больше надоело учить вас, а вот учу. Сиди и слушай!» — приказал Попов. Скоро и он отказался от бесплодной работы. Сирийцы, однако, продолжали посещать лекции и, когда мы, выдержав экзамены первого курса, перешли на второй курс, вместе с нами посещали лекции второго курса. Потом все сразу выбыли в страну свою.
После сельского одиночества и однообразия жизнь в столице, в академии очаровала, увлекла меня. Величественные храмы с торжественнейшими богослужениями, с чудными хорами, библиотеки и музеи, разные собрания с докладами и лекциями, сама академия с ее укладом жизни, с ее знаменитыми профессорами и съехавшимися со всех концов необъятной Руси студентами — все это было для меня ново, интересно, удивительно.
Почти все студенты жили в академии. Обстановка их жизни не оставляла желать лучшего: они жили в просторных, светлых, гигиеничных помещениях, питались обильной и вкусной пищей: академия снабжала студентов-стипендиатов в превышающем действительные нужды количестве всем необходимым — одеждой. бельем из ярославского льняного полотна, обувью и всем прочим, необходимым для студента. Каждую неделю студенты мылись в академической бане, стриглись и брились у академического парикмахера. Студент академии жил как у Бога за пазухой, пользуясь всем готовым, не заботясь о том, что есть и что пить или во что одеться. Немногим по выходе из академии выпадала такая беспечальная и беззаботная жизнь. Начальствующие в академии лица и профессора смотрели на студентов как на взрослых людей и обращались с ними деликатно, благородно. Студентам академии предоставлялась свобода, пожалуй, большая, чем требовала цель академического образования и воспитания. Я почувствовал себя в академии как в гостях у самых близких, богатых и исключительно заботливых обо мне родственников.
Уклад студенческой жизни был таков. Студенты спали в спальнях, занимались в занятных комнатах, лекции слушали в аудиториях, обедали, ужинали и утром чай пили в столовой, молились в академической церкви. Утром и вечером в этой церкви студенты выслуживали утренние и вечерние молитвы, прочитывавшиеся студентами-священниками; по воскресным и праздничным дням совершались торжественные соборные бого-
111
служения, за которыми пел академический хор. И молитвы, и богослужения были обязательными для студентов. Но студенты часто, злоупотребляя предоставленной им свободой, небрежно относились к этой своей обязанности. Вскоре после окончания мною академического курса дело в этом отношении дошло до того, что ректор академии епископ Сергий должен был искать старосту для академической церкви, богатого купца, который платил бы студентам за пение в их церкви. Когда ректор однажды сказал мне об этом, я выразил удивление: «Дорогой владыка! Слыханное ли это дело, что купец-толстосум платит студентам академии за то, что они, решительно всем пользующиеся от академии, поют в своей церкви?!» Ректор ответил мне: «А что же делать, когда они не хотят даром петь?» «Выгнать из академии», — сказал я.
Учебными и учеными занятиями студенты не были перегружены. Ежедневно, кроме, конечно, воскресных и праздничных дней, для каждого курса читались четыре часовые лекции. Чтение лекций кончалось в час дня. Все остальное время предоставлялось студентам для чтения книг и писанья семестровых сочинений. Присутствие студентов на лекциях считалось обязательным, но на старших курсах даже самые лучшие студенты небрежно относились к посещению лекций. Дело доходило до того, что лекцию посещали только два дежурных, которые при невозможности им присутствовать могли замещать себя другими. Совершенным исключением в этом отношении являлись лекции знаменитейшего профессора В.В. Болотова: самая большая, 3-я, аудитория, в которой он читал свои знаменитые лекции, всегда бывала переполнена студентами всех курсов.
Кроме ученых и учебных занятий студенты Санкт-Петербургской академии еще упражнялись в проповедании Слова Божия на разных санкт-петербургских фабриках и заводах. Возглавлявшееся талантливым, энергичным священником о. Философом Николаевичем Орнатским Общество распространения религиозно-научного просвещения в духе Православной Церкви привлекало их к такой весьма полезной и для практики, и для дела работе. О своем участии в этом деле скажу после.
Надо еще сказать, что очень многие студенты академии одновременно состояли студентами Санкт-Петербургского археологического института. Лучшие студенты, однако, уклонялись от такого совмещения.
Ректором академии в год моего поступления в нее был епископ Иоанн (Кратиров), вологжанин, магистр богословия, не чуждый академической жизни, так как он раньше служил секретарем совета и правления Московской духовной академии, но небольшой жрец богословской науки. Читал он студентам старшего курса одну лекцию в неделю о пастырских посланиях апо-
112
стола Павла. Студенты критически относились к его учености. Профессора невысоко ставили его как ученого-богослова, рассказывали забавный случай. Шел экзамен по Священному Писанию Нового Завета. Экзаменовал земляк епископа Иоанна профессор Н.Н. Глубоковский, уже в то время, несмотря на сравнительную свою молодость30, славившийся большою ученостью и не меньшею резкостью в обращении с людьми. Председательствовал ректор. Студенты толковали текст одного из посланий апостола Павла. Епископ Иоанн, захотев показать, что и он не чужд этому предмету, поправил студента: «Я думаю, что это место можно объяснить иначе». Ему ответил профессор Н.Н. Глубоковский: «Вы думаете, что можно объяснять иначе, а я знаю, что надо объяснять так, как доложил студент». И ректор смолк. Надо, однако, сказать, что епископ Иоанн был добрый, толковый, хозяйственный старик. В следующем году он был назначен Саратовским епископом.
Инспекторствовал в академии профессор археологии и литургики, уже известный нам Николай Васильевич Покровский, профессорствовавший в академии с 1874 г. и приобретший славу видного ученого-археолога того времени, одновременно состоявший директором Санкт-Петербургского археологического института. Всегда нарядный и важный, он в обращении со студентами был в высшей степени корректен, внимателен, даже любезен: лекции читал ясно и даже в сомнительных вопросах авторитетно. Студенты любили и уважали его, хоть иногда в своей компании подтрунивали над его безапелляционностью. В пору его инспекторства студенты пользовались большой свободой, что вызвало неудовольствие митрополита Антония, любившего нашу академию, в которой он с 1885 по 1887 г. инспекторствовал и с 1887 по 1892 г. ректорствовал. Вход в академию с Невского проспекта шел чрез Александро-Невскую Лавру, двери которой запирались, кажется, с 11 часов вечера. Запоздавшие студенты должны были тревожить звонками лаврских привратников входных и выходных из Лавры дверей. «Николай Васильевич! — обратился митрополит однажды (в 1899 г.) к Н.В. Покровскому. — Ваши студенты очень поздно возвращаются из города в академию и беспокоят моих монахов. Примите меры, чтоб этого не было дальше!» — «Слушаю, Ваше Высокопреосвященство! Этого больше не будет». — «Вы прикажите швейцарам в 11 часов ночи замыкать входные академические двери. Я так делал, когда был инспектором», — посоветовал митрополит. В тот же день вечером, после вечерней молитвы, Николай Васильевич объявил нам о неудовольствии митрополита, как и том, что с этого дня к 11 часам ночи будет закрываться вход в академию. Швейцары получили соответствующее приказание. Но им выгоднее было впускать, чем не впускать студентов в академию. И академические
113
входные двери оставались по-прежнему незамкнутыми. На следующий день Николай Васильевич, засидевшись в гостях в городе, в час ночи возвращается в свою академическую квартиру. Он знает, что покровитель студентов швейцар Лаврентий и после приказания не замкнул дверей, но, чтобы не подводить ни швейцара, ни студентов, он настойчиво звонит швейцару. Опытный в укрывательстве студентов Лаврентий выбегает из своей квартирки и начинает вертеть во все стороны воткнутым в дверь ключом, делая вид, что он отмыкает запертую дверь. Повертев ключом, раскрывает пред инспектором вход. «Ты когда же замкнул дверь?» — спрашивает инспектор. «Как вы, Ваше Превосходительство, изволили приказать, в 11 часов вечера», — отвечает Лаврентий. «Молодец. Благодарю» — «Рад стараться, Ваше Превосходительство!» — отвечает по-военному Лаврентий. Вскоре митрополит Антоний снова напоминает Николаю Васильевичу о странствующих по ночам студентах: «Ваши, Николай Васильевич, студенты продолжают шататься по ночам. Очевидно, входные академические двери по-прежнему не замыкаются». «Никак нет, Ваше Высокопреосвященство! В 11 часов вечера у нас все входные двери замыкаются, сам проверил это». — успокаивает митрополита Николай Васильевич. Студенты уважали Николая Васильевича, считая его крупным ученым, и любили его как человека, который понимает их душу, снисходительно относится к грехам их юности и в известном отношении сам остается студентом. Но начальство считало его либеральным, распускающим студентов. А в то время уже торжествовала монашеская тенденция, что на высших постах духовно-учебных заведений, в том числе и академий, должны стоять обязательно монахи. На ней надо остановиться.
Тогда в духовных немонашеских сферах часто вспоминали, что совсем недавно во всех академиях, кроме одной Киевской, ректорами были прославленные протоиереи: в Московской — знаменитый А.В. Горский, а после него Смирнов, в Санкт-Петербургской — И.Л. Янышев, также пользовавшийся большой ученой славой, в Казанской —А.П. Владимирский, которого студенты глубоко чтили и за его ученость, и за его истинно отеческую доброту: инспекторами этих академий тогда были заслуженные профессора, опытные и серьезные педагоги. По общему убеждению, тогда наши академии выпускали действительно просвещенных, серьезных и религиозных работников на церковной ниве. С 80-х годов на место этих гигантов богословской мысли и церковного опыта начали назначать монахов-юнцов, иногда еще не устоявшихся и еще чаще не приобретших мудрости, необходимой для их ответственного делания. Достаточно тут указать на один поучительный пример: в 1890 г. ректором Московской духовной академии был назначен талантливый, но легкомыслен-
114
ный, поддававшийся всяким влияниям 27-летний архимандрит Антоний (Храповицкий) и в бытность свою ректором сначала Московской, а потом Казанской академии и после, когда он стал влиятельным членом Святейшего Синода, во многом помогший разложению нашей духовной школы. Счастливым исключением в длинном ряду начальствовавших в академиях монахов был митрополит Антоний (Вадковский), с 1883 по 1887 г. инспекторствовавший сначала в Казанской, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии, а с 1887 по 1892 г. ректорствовавший в Санкт-Петербургской духовной академии. Но это был человек большого ума и высокой морали, исключительного такта, вдумчивый и любвеобильный. Кроме того, он занял инспекторскую должность после 13-летнего профессорского стажа в Казанской духовной академии (с 1870 г.).
Монашеская тенденция коснулась и Николая Васильевича: в 1899 г. он был освобожден от должности инспектора академии, а на его место был назначен архимандрит Сергий (Страгородский, род. 11 января 1867 г.), прославившийся потом в сане Московского и всея Руси Патриарха (15 мая 1944 г.). Талантливый и глубокий богослов, строгий монах, сердечнейший и всегда добродушный. для всех доступный человек, архимандрит Сергий, 26 января 1901 г. ставший ректором Санкт-Петербургской духовной академии, а 22 ноября того же года возведенный в сан епископа Ямбургского, в годы своего начальствования в академии отличался некоторыми неблагоприятными для его начальствования качествами: он был слишком мягок и снисходителен даже к таким студенческим проступкам, которые были нетерпимы в стенах академии. В мае 1903 г. я зашел к епископу Сергию. Как всегда, он принял меня ласково, сердечно и начал рассказывать об академических делах: «А Алешка-то Рубинов как начал пить в августе прошлого года, так еще не кончил. Допился до белой горячки. Все ему кажется, что на печке его комнаты сидит Бог Саваоф в красных сафьяновых сапогах. Глядит на Него Алешка и начинает кричать: «Слезай, а то я Тебя за ноги стащу!» Не знаю, что с ним делать. Хоть бы какое ни на есть кандидатское сочинение написал». «Вы, дорогой владыка, совершаете преступление, что держите в академии этого неисправимого алкоголика. Он же спился и кончит тем, что погибнет пьяным где-либо под забором. Пусть бы погибал без академического диплома», — говорю я. «Как же можно уволить из академии, когда он уже подошел к концу академического курса?» — возражает владыка-ректор. «Очень просто, — отвечаю я, — чтобы спасти честь академии, для которой будет позор, если она увенчает ученой степенью беспутнейшего алкоголика». Мое возражение оказалось бесплодным. Священник Алексей Рубинов, новгородец, был неглупый и незлой человек, но опустился он в академии до пос-
115
ледней степени, до беспробудного пьянства и соединенных с таким состоянием всевозможных пакостей. Рубинову все же дали степень кандидата богословия за какое-то жалкое сочинение, а через полгода он погиб под забором в пьяном виде.
А вот другой пример, пример отношения епископа Сергия к академической науке. Вернувшись с родины после проведенных там двух месяцев, я поспешил навестить любимого своего бывшего ректора. Владыка Сергий ласково, как родного, встретил меня. Начались расспросы: где был, чем занимался, как дочка и прочее. «А что там ваш Серафим?31 — спросил он меня. — Виделись вы, будучи в Витебске, с ним?» «Странный он человек, — ответил я. — Говоришь с ним, он кажется умным, образованным, много знающим, особенно по части истории и философии. А в управлении полный неудачник: первыми людьми у него разные сплетники, взяточники, проходимцы, а лучшие священники епархии не в чести у него». «Да, он оригинальный субъект, талантливый, но глупый. Вот Пермский епископ Иоанн — неталантливый, но умный, а этот талантливый, но глупый. Был он у меня тут летом. Не успел переступить порог моей квартиры, как начал поучать меня, как надо поставить в академии апологетику... А мне-то наплевать: как хочешь, так и ставь», — выпалил ректор академии. Я так и ахнул: ректору академии наплевать, как ни поставят апологетику — один из важнейших предметов академического курса. Таков в молодости был владыка Сергий. Своего собеседника он мог удивлять парадоксами.
Еще одна особенность владыки Сергия. Он чудесно владел пером, и мысль у него была точная, глубокая, богатая. Но дара слова у него решительно никакого не было. Не подготовившись предварительно, он не мог связать двух слов, когда выступал в роли проповедника или лектора. Некоторые его выступления на церковной кафедре были прямо скандальны. Но в частной дружеской беседе он бывал интереснейшим собеседником.
В феврале 1901г. инспекторское место в академии занял архимандрит Феофан Быстров, исполнявший должность доцента этой академии, 29 лет от роду, окончивший курс академии в 1896 г. первым студентом. Большой аскет, доводивший свой аскетизм до самоистязания, монах до мозга костей, архимандрит Феофан потом, в феврале 1909 г., занял пост ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Маленького роста, худенький и невзрачный, сторонившийся людей, разговаривавший со студентами не иначе, как закрывши рукавом рясы свое лицо, проповедовавший, что для студентов важно благочестие, а не богословская наука, архимандрит, с 22 февраля 1909 г. епископ Феофан был недоразумением на начальственных академических постах. Он боялся студентов, а студенты делали что хотели. В его продолжительное инспекторствование академия дошла до того, что стала
116
похожа на богадельный дом, на приют для безработных или на что-то другое, но не на храм высшей богословской науки. Студенты перестали посещать лекции и церковные богослужения, не желали петь в своей академической церкви, семестровые сочинения начали подаваться с большими опозданиями, когда раньше просрочка одного дня сопровождалась неприятнейшим возмездием, что приучало студентов к аккуратности и точности. А штатский студент моего курса Илларион Туркевич перестал стричь волосы, обрезывать ногти, а затем и говорить и только издавал нечленораздельные звуки. Летом и зимою в одной форменной студенческой тужурке, без шапки он расхаживал по городу, привлекая к себе внимание всех встречных. Во время академического праздника в 1901 г. митрополит Антоний обратил внимание на этого первобытного человека и приказал инспектору Феофану привести его в надлежащий вид. По уходе митрополита Феофан вызвал к себе Туркевича. «Господин студент, у вас длинные волосы», — обратился он к Туркевичу, закрыв рукавом рясы свое лицо, «У вас же тоже длинные», — развязался язык у Туркевича. На этом разговор закончился. Туркевич продолжал дикобразом странствовать по городу, удивляя честной народ. Вскоре его послали миссионером в Китай. Туркевич-миссионер! Только в России могли совершаться такие чудеса. В Китае он скоро погиб от чахотки.
В промежуток между ректорством епископов Иоанна и Сергия, с осени 1899 до 1901 г., пост ректора Санкт-Петербургской духовной академии занимал епископ Борис (Плотников), принявший монашество в бытность его профессором Казанской духовной академии. Ученый, честный и добрый, он был очень болезненным и, кроме того, как говорили, страдал пристрастием к морфию. Жил он замкнуто, мало общаясь со студентами и мало вмешиваясь в академические дела. Влияние его не чувствовалось в академии, хотя он, подобно своему бывшему учителю, потом сослуживцу и другу Санкт-Петербургскому митрополиту Антонию, был сторонником строгих порядков и соответствующей дисциплины в академии. Скоро он скончался (в 1901 г,) в должности председателя Училищного совета при Святейшем Синоде.
Теперь скажу несколько слов о профессорском персонале Санкт-Петербургской духовной академии. Блестящим, несравненным украшением академии в то время был профессор общей церковной истории Василий Васильевич Болотов, уже прославленный ученый, к которому в затруднительных случаях все профессора обращались с разрешением вопросов по их же дисциплинам, О нем рассказывали чудеса: он знал 24 языка, в том числе все восточные языки, так же хорошо, как церковную историю, знал и математику, и астрономию, первой из которых его
117
кое-как учили в семинарии, а вторую он не проходил ни в Тверской семинарии, ни в Санкт-Петербургской академии, где он учился. Его лекции были верхом совершенства и по содержанию, и по художественному изложению. Производившиеся им экзамены поражали краткостью и точностью вопросов, немногих, но очень метких, сразу устанавливавших уровень знаний студента. Он без всякой предварительной подготовки мог прочитать лекцию по любому предмету. Неудивительно, что его аудитория всегда была переполнена слушателями, когда у других профессоров на лекциях сидело по два-три человека. К несчастью, этот знаменитый профессор тяжко заболел на второй неделе Великого поста 1900 г. На последнюю свою лекцию он пришел с повязкой на голове, исхудавший и как полотно бледный. Удивительная случайность! Митрополит Антоний, чрезвычайно редко посещавший лекции, пришел на эту лекцию и, усевшись на студенческую скамью, от начала до конца прослушал лекцию профессора, последними словами которой были: Ex oriente lux! («С востока свет!»). 5 апреля, во вторник Страстной недели, В.В. Болотов скончался в Крестовоздвиженской общине сестер милосердия. Получив это известие, я как академический благочинный пошел доложить инспектору академии архимандриту Сергию, чтобы получить от него указания относительно переноса тела и погребения. Инспектора я застал сидящим за письменным столом. Услышав от меня весть о смерти Василия Васильевича, он заплакал и, утирая слезы, сказал: «Да, о. Георгий! Ушел от нас наш великий учитель, академия осталась, остались студенты, а профессоров не осталось». При переносе тела в академию, идучи за гробом, я слышал, как профессор Н.Н. Глубоковский сказал своим спутникам: «По отдельным научным дисциплинам найдутся более знающие, чем покойный, но такого всезнающего энциклопедиста решительно по всем дисциплинам, каким был Василий Васильевич, нет в мире. После Оригена († 254 г.) христианская Церковь не имела такого ученого, каким был наш незабвенный покойник». Умер профессор Болотов совсем молодым, едва достигши 46-летнего возраста.
Другой академической знаменитостью тогда считали профессора по кафедре истории и разбору западных исповеданий Ивана Егоровича Троицкого, кончавшего свою академическую службу. Он уже редко посещал лекции. Скоро он ушел в отставку, унесши с собой и славу свою.
Восходящим светилом считался профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета Н.Н. Глубоковский, еще молодой (род. 06.12.1863), но успевший прославиться своим магистерским сочинением о Феодорите Киррском и другими серьезнейшими исследованиями по истории и толкованию Новозаветного священного текста.
118
Именно двумя капитальнейшими сочинениями прогремел уже тогда профессор Н.Н. Глубоковский: 1) «Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность» (в 2 томах, 349 и 510 стр.). Это сочинение было написано им еще на студенческой скамье. 2) Огромный трехтомный труд: «Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу». Приблизительно за десятую часть этого сочинения он 21 января 1897 г. был удостоен степени доктора богословия, а через 7 дней утвержден в звании ординарного профессора — это менее чем через 6 лет после избрания его (в октябре 1891 г.) доцентом.
Своей специальностью профессор Глубоковский избрал толкование трудов апостола Павла. В этой области никто в мире не превзошел его. Другой прославленный в Западной Европе авторитет в этой области, профессор и ректор Берлинского университета Дейсман, не устыдился, будучи в г, Софии в конце 30-х годов, сознаться, что он «только ученик профессора Глубоковского». Профессором Глубоковским истолкован почти весь апостол Павел и Апокалипсис. Огромная часть его драгоценных трудов осталась после его смерти в рукописях, ненапечатанной.
Ученый огромного масштаба, имевший полную возможность удивлять слушателей своей ученостью, Н.Н. Глубоковский, к сожалению, был слабым лектором. Бывало, войдет в аудиторию, не глядя на студентов, вытащит из бокового кармана тетрадку своих лекций, которые он уже не раз читал, и, уставившись в нее, начинает монотонным голосом читать по ней. У студентов имеются эти лекции, и им остается только следить, не пропустил ли какого слова профессор. Неудивительно, что лекции его слабо посещались студентами. И он не обижался на это. Зато на экзаменах он был самым строгим из всех академических профессоров. В особенности же строг он был к священникам-студентам, не без оснований сомневаясь в их любви к науке и серьезности их знаний. Вообще, для студентов, и в особенности для священников, он считался грозою. С 1923 г. до самой своей смерти он профессорствовал в Софийском университете на той же кафедре. Тут он был неузнаваем: более благостного, более снисходительного к студенческим немощам профессора нельзя было и представить. Он умер, окруженный великой ученой славой и всеобщей почтительной любовью.
Из других профессоров большим ученым студенты считали Николая Константиновича Никольского, гомилета, и большие надежды возлагали на молодого, в 1900 г. занявшего кафедру русской церковной истории Антона Владимировича Карташова. Вообще же надо сказать, что наши духовные академии не сажали на профессорские кафедры людей, чужих для богословской науки, а занявшие профессорские кафедры всецело отдавались науке, избегая посторонних занятий. Ни об одном профессоре
119
нельзя было сказать, что он не был хозяином своего предмета. Но были профессора, не пользовавшиеся симпатиями студентов. Первым тут шел о. Евгений Петрович Аквилонов, профессор по введению в крут богословских наук, о котором студенты говорили, что он преподает обведение вокруг богословских наук. Его манерность, важничанье при туманности мысли и излишней любви к трес1сучей фразе вызывали постоянные насмешки студентов. Были случаи, что лекции его после экзамена торжественно сжигались. Его не считали студенты ни ученым, ни умным. И я, будучи студентом, относился к нему с насмешкой. Не пользовался уважением студентов и профессор нравственного богословия Александр Александрович Бронзов, трудолюбивейший и плодовитейший, но неглубокий и односторонний мыслитель.
Не могу не упомянуть еще о двух профессорах; Александре Павловиче Высокоостровском и протоиерее Сергии Александровиче Соллертинском. Высокоостровский в 1885 г. первым окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии и в октябре 1886 г. занял кафедру логики и метафизики. Достойно удивления, что этот способнейший человек так и застыл в статусе исполняющего должность доцента, за тридцать лет своего профессорствования не удосужившись написать магистерского сочинения. Читал он лекции не худо. А снисходительность его была безгранична, и ею очень пользовались ленивые студенты. Лучшие студенты отзывались о нем; «Наш Александр Павлович — прибежище зайцам» (Псал. 103, 18). В то время как профессору Глубоковскому кандидатское сочинение, страшась его критики, решался писать один и самое большее два студента на курсе, Александру Павловичу представляли сочинения ежегодно от 25 до 30 студентов, и он никому не отказывал в положительном отзыве. На экзамене у него студент иногда ограничивался тем, что дважды слово в слово перечитывал пространнейшую программу. Меньше четырех баллов Александр Павлович не ставил.
Профессор Соллертинский с 1881 г. читал пастырское богословие и педагогику. Это был тип весьма одаренного, но очень и внешне, и внутренне опустившегося человека. Его лекции по остроте и оригинальности бывали очень интересны, хоть, по-видимому, он всегда импровизировал. Студенты интересовались его лекциями. По внешнему же виду и в жизни это был совершенный циник. Говорили, что он принял духовный сан поневоле, чтоб избежать тяжкой кары, ожидавшей его за участие в революционной деятельности. Священник из него не вышел. Это очень странно: профессор пастырства был никуда негодным пастырем...
Остальные профессора: церковного права — Тимофей Васильевич Барсов, ворчливый старик (профессор с 1863 г.), более занимавшийся синодальными (обер-секретарскими), чем про-
120
фессорскими делами: новой общей гражданской истории — Николай Александрович Скабалланович (профессор с 1873 г.), которого студенты считали способным, но ленивым профессором; теории словесности и истории иностранной литературы — Александр Иванович Пономарев (с 1874 г.); истории слав, церквей — Иван Саввич Пальмов, соединявший огромную любовь к своему предмету с таким же благочестием, ко всем ласковый, но особенно пекшийся о братьях-славянах — студентах: древней гражданской истории — Александр Павлович Лопухин (с 1882 г.), небрежно преподававший, но зато обогативший богословскую литературу многими переводами с английского языка, которым он владел в совершенстве, и другими научными изданиями: русской гражданской истории — Платон Николаевич Жукович, усердный труженик, написавший много ценнейших произведений по истории Западной России: психологии — Виталий Степанович Серебренников, не считавшийся с новыми методами преподавания психологии: патрологии — священник Тимофей Александрович Налимов, трудолюбивый и знающий, но скучный профессор, в жизни строгий аскет: Священного Писания Ветхого Завета — священник Александр Петрович Рождественский, профессор дельный, но в искусстве преподавания очень уступавший моему семинарскому учителю Ф.И. Покровскому: истории и обличения русского раскола — Петр Семенович Смирнов, усердный и аккуратный, но неблестящий профессор; истории философии — Дмитрий Павлович Миртов, скромный, трудолюбивый, обещавший стать дельным профессором: греческого языка — священник Михаил Иванович Орлов, фанатик своего предмета, но занимавшийся с нами не греческим, а санскритским языком; догматики — Петр Иванович Лепорский, совсем молодой, с конца 1896 г. преподававший этот предмет, способный человек, ловкий переводчик с немецкого языка: библейской истории — еще более молодой доцент, уже известный нам иеромонах Феофан (Быстров).
Помощниками инспектора во все время моего пребывания в академии были Иван Иванович Бриллиантов и Иван Павлович Соколов (оба выпуска Санкт-Петербургской академии 1895 г.), кроткие и деликатные юноши, по-товарищески относившиеся к студентам.
«Очень памятны мне впечатления, совершенно ошеломившие нас, болгар-студентов, поступивших в Санкт-Петербургскую духовную академию, — рассказывал мне несколько лет тому назад мой товарищ по академическому курсу Поп-Пандов, в момент рассказа бывший членом Болгарского народного собрания. — Приехали мы в Петербург левыми, с передовыми взглядами, что религия пригодна только для простого народа, что церковная обрядность — предрассудок, что разум, а не вера, должен управ-
121
лять жизнью. Первые лекции академических профессоров. особенно Болотова, Глубоковского, поразили нас своей ученостью, заставили сразу преклониться пред этими жрецами науки. Но вот настала суббота. Мы пошли в академическую церковь. Стройно, разумно, проникновенно поющий студенческий хор, образцовый во всем порядок — у себя мы этого не видывали. Но вот мы видим: Болотов, Глубоковский, наш попечитель Пальмов и другие профессора пришли в церковь, ставят свечи, отбивают поклоны, крестятся и молятся... Как обухом ударило нас: значит, и самые ученые люди могут веровать в Бога. Значит, и им нужна вера. Как же нас уверяли и мы думали, что религия нужна только для простых людей? Тогда разбились все наши предубеждения против религиозной веры». Действительно, наши академические профессора своей церковностью производили на студентов большое впечатление. Между ними не было ни одного вольномыслящего невера, если не считать С.А. Соллертинского, но и его свободомыслие стушевывалось его рясой.
В научном отношении академические профессора могли бы давать студентам гораздо больше, если бы была иной система академического преподавания. Тогда профессор обязан был читать лекции, давать темы для студенческих семестровых и кандидатских сочинений и оценивать эти сочинения. Мы уже говорили, что лекции очень немногих профессоров увлекали студентов. Лекции даже такого большого профессора, каким был Н.Н. Глубоковский, не посещались, с ними знакомились, их учили пред экзаменом. И надо правду сказать: какой смысл был поджидать, сидя в аудитории, профессора, выслушивать его чтение по тетрадке, когда в это время с большей пользой можно заняться изучением языка, чтением какой-либо другой ученой книги, а лекции потом прочитать самому? Неудивительно, что даже самые лучшие студенты предпочитали заниматься вторым, а не первым, благо и профессор не обижался за это. После были введены упражнения. Это нельзя было не приветствовать. На упражнениях профессор входил в живое общение со студентами, мог узнать и их интересы, и их научные нужды, сам мог раскрыться пред ними в своих научных знаниях и своей научной мудрости, в дружеской беседе передать им часть своей души. Тот же профессор Н.Н. Глубоковский, скучный как лектор, был неподражаемо интересен и поучителен на упражнениях. Упражнения могут давать в десятки раз больше, чем лекции: лекции можно найти и прочитать, а живое общение профессора, живую его беседу не заменишь никаким чтением.
В академическом образовании студенческие семестровые (на первых трех курсах по три сочинения в год) и кандидатские сочинения имели огромное образовательное значение. Они требовали от студента серьезной богословской подготовки.
122
большого знакомства с литературой вопроса, умения богословски мыслить и умело излагать свои мысли. Лучшие семестровые сочинения наших студентов были бы на чванливом Западе с избытком достаточны для получения докторских степеней. О кандидатских сочинениях что уже сказать! Тот же Н.Н. Глубоковский в апреле 1889 г. представил кандидатское сочинение: «Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность». Сочинение состояло из двух частей исследования и третьей части — приложения и заключало в себе две тысячи с лишком страниц текста и шестьсот страниц приложений. Отметив высокие научные качества сочинения, известный церковный историк профессор-рецензент А.П. Лебедев закончил свой отзыв: «Сочинение г. Глубоковского по своей обширной эрудиции достаточно, как мне кажется, для какой угодно из существующих ученых богословских степеней, а потому оно, конечно, достаточно и для степени кандидата. Так как по нашему вычислению одно сочинение г. Глубоковского заключает в себе от четырех до пяти кандидатских сочинений отличного достоинства, то могу позволить себе отметить это сочинение баллом пять плюс (5+), которого до сих пор я не имел случая ни разу применить на практике»32.
Правда, профессора, одни более, другие менее, руководили студентами при писании ими сочинений. Но о достоинствах и недостатках своего сочинения студент мог заключать только по баллу, которым оценено его сочинение. Между же профессорами случались и такие, которые оценивали сочинение прежде всего по весу, а не по внутреннему его достоинству. Профессор Бронзов, встретив выдающегося студента нашего курса, уже заслужившего за первое сочинение блестящий отзыв самого строгого критика — профессора Глубоковского, обратился к нему: «Я, господин Думский, ожидал от вас, от вашего сочинения гораздо большего». Язвительный Ф.И. Думский ответил: «В каком отношении, Александр Александрович? В количественном или в качественном?» Разбора студенческих сочинений профессора не делали и их недостатков не указывали.
Главную работу наши профессора полагали в своих кабинетных трудах. Лучшие из них действительно обогащали богословскую науку произведениями своего пера. Если наши профессора недостаточно считались с требованиями и настоятельными современными нуждами Церкви и верующих, а иногда занимались отжившими вопросами, то в этом более были виновны церковные кормчие, не пользовавшиеся их знаниями и их ученостью для разрешения злободневных вопросов. Церковная власть привлекала наших профессоров только в крайних случаях, при разрешении таких вопросов, которые оказывались для нее непосильными.
123
Теперь коснемся воспитательной стороны академической жизни. Я поступил в академию в то время, когда еще поддерживались в ней и порядок, и известная дисциплина, хоть и свобода студентов ничем не стеснялась. Тогда студенты считали себя обязанными исполнять должности своего звания: достаточно аккуратно посещать богослужения в академической церкви, как и вечерние и утренние молитвы, более или менее посещать лекции, с астрономической точностью подавать семестровые сочинения (опоздание на один час каралось уменьшением на единицу балла за сочинение) и не допускали никаких безобразий в стенах академии. Церковный студенческий хор тогда мог удивлять богомольцев художественностью, а главное, разумностью пения. И это неудивительно, потому что каждый певец пел разумно, вкладывая в звуки часть своей души и своего разумения. Такого разумного пения я после нигде не слышал, хоть приходилось мне служить при пении всех самых знаменитых российских хоров: Придворной капеллы. Синодального Московского. Санкт-Петербургского, Исаакиевского и Казанского Санкт-Петербургских соборов — и других хоров. Потом дисциплина начала падать, и дело дошло, как замечено выше, до того, что купец-толстосум должен был платить студентам, не желавшим даром петь в своей церкви. К услугам студентов были богатая книгами и рукописями академическая и еще более богатая Публичная библиотеки, которыми студенты усердно пользовались. Очень многие студенты в воскресные и праздничные дни с успехом проповедовали на санкт-петербургских фабриках и заводах. Надо ли говорить о посещении студентами разных собраний, лекции, музеев, имевших образовательное значение? При том довольстве, какое предоставляла своим питомцам академия, студенты могли жить беспечально и успешно заниматься своим учебным делом.
Надо сказать, несколько слов о внешней стороне академической жизни. Ее тоже нельзя игнорировать: внешнее часто влияет на внутреннее, отражает его. Недаром «по одежке встречают, а по уму провожают». Инспектор Н.В. Покровский сам строго следил за своей внешностью и от студентов требовал того же. Форма одежды — домашней, служебной, форменной и парадной — строго соблюдалась. Профессора являлись на лекции не иначе, как во фраках с серебряными пуговицами, а Н.В. Покровский — и со звездой на груди. В торжественных случаях они облекались в парадные, шитые серебром мундиры. Студенты в занятных комнатах могли быть в домашних костюмах, на лекции же они приходили обязательно в студенческой форме (из черного сукна тужурке с синими кантами и серебряными пуговицами и из такого же сукна брюках): в этой же форме они являлись и на молитвы, и в столовую на обед и ужин. На экзаменах, на воскресных и
124
праздничных богослужениях и на академических торжествах они выступали в парадных, черного сукна костюмах — сюртуке с бархатным околышем, синими кантами и серебряными пуговицами и брюках. Пальто студенческое делалось из черного же драпа. с синими на воротнике и рукавах кантами и серебряными пуговицами. Костромичу Геннадию Воскресенскому очень понравилось, что у генералов не только кант на воротнике и рукавах, но и лацкан сзади обшит кантом, и он попросил портного и его пальто сделать с генеральским лацканом, что портной, конечно, за некую мзду и исполнил. Милый, но несколько наивный Геннаша после этого стал «нашим генералом».
Профессора и студенты, носившие духовный сан. не только в церковь, но и на лекции являлись обязательно в рясах и с крестами на груди. Однажды, придя на лекцию, митрополит Антоний увидел священника-студента в рясе, но без креста. «Вы дьякон?» — обратился к нему митрополит. «Священник, Ваше Высокопреосвященство», — ответил студент. «Тогда почему же вы без креста? Вы же не у себя в занятной комнате, а в аудитории на лекции. Надо оказывать почтение и профессору, читающему лекции, и этому официальному месту. Впредь будьте внимательнее», — пожурил митрополит студента. Пятнадцать лет я проработал на богословском факультете Софийского университета и никак не мог примириться с тем, что профессора-протоиереи, только участвуя в совершении торжественных митрополичьих литургий, надевают кресты, на лекции же и на торжественные собрания приходят без крестов, а студенты-священники и на лекции, и на экзамены являются в подрясниках. Это всякий раз коробило меня. В этом последнем я видел неуважение и к профессорам, и к науке.
Надо сказать еще несколько слов об академических богослужениях. В инспекторство архимандрита Сергия было введено ежедневное совершение литургий в академической церкви. Присутствие студентов на них было необязательным. И обыкновенно посещались они, главным образом, студентами-монахами и реже студентами-священниками. Сам инспектор всегда стоял, молясь в алтаре. Пели любители-студенты. Проповедей ни профессора, ни инспектор, ни студенты в академической церкви не произносили. Лишь ректор выступал изредка, и в академический праздник, 17 февраля, иногда выступали проповедниками профессора. Считалось, что студенты достаточно поучаются в аудиториях, а посторонних посетителей бывало так мало, что для них не стоило заниматься проповеданием. По воскресным и праздничным дням богослужения совершались соборно во главе с ректором или инспектором. Для наблюдения за хранением церковной ризницы и за порядком участия священников-студентов в совершении богослужений в академии была установлена должность академического благочинного, избиравшегося из своей
125
среды академическим духовенством (студентами) и утверждавшегося ректором.
По прибытии в академию я, как уже сказано выше, поместился в больничном домике вместе со своими однокурсниками священниками Поповым, Плотниковым, Талоном и штатским человеком, азиатом, как мы его называли, и он за это не обижался, сирийцем Малек Давидом. Попов-вологодец и Плотников-олончанин были, как почти все северяне, добродушными и кроткими людьми, отличными товарищами: приятным человеком был и Малек Давид, сразу сроднившийся с нами. Но полтавец Талон был истинным ангелом сатаны, ниспосланным, чтоб пакости нам делать (2 Кор. 12, 7). Очень даже может быть чрезвычайно способный, он, однако, не любил науку, его тянуло к нескончаемым спорам, к политике, к демагогии. В общежитии он был нетерпим: груб, нахален, своекорыстен. Он признавал только свои интересы и никогда не считался с чужими. Моя и Плотникова комната была отделена от его комнаты только тонкой перегородкой: каждое слово, сказанное в его комнате, было слышно у нас, и наоборот. Мы старались не нарушать его покоя, а в его комнате часов с пяти вечера, когда мы обыкновенно занимались, и до двенадцати часов вечера, иногда и позже, раздавались неистовые голоса — это Гапон спорил со своими посетителями. Наши просьбы в занятные часы соблюдать тишину оставлялись без внимания. Сидя на кровати и упершись затылком в перегородку нашей и его комнаты, Гапон продолжал, как лев, рыкать, лишая нас возможности заняться чем-либо серьезным. Когда наши многократные просьбы не привели ни к чему, мы решили заставить Гапона силой, чтобы он считался и с нашими интересами. Как только Гапон прислонялся головой к перегородке и его зычный голос начинал оглушать нас, я или Плотников со всего размаху ударяли сапогом по тому месту перегородки, где была прислонена голова Гапона. Оглушенный ударом, Гапон как сумасшедший прибегал к нам, начинал кричать, угрожать и прочее. Но мы решительно заявили ему, что так и дальше будет, пока он не станет соблюдать нужную тишину. Гапон после этого стал сдержаннее. Это был человек, подчинявшийся только силе.
Священнику-студенту в Санкт-Петербурге легко было увлечься нестуденческим делом. На свободных от иерейской службы священников в столице всегда бывал большой спрос: их приглашали в разные церкви, особенно в кладбищенские, для совершения литургий и разных треб. Вознаграждали их за службы по тому времени очень прилично: за совершение литургии, например, платили от 3 до 5 рублей. На Пасху же, когда пасхальная служба совершалась не только в церквах, но и в фабричных залах, на вокзалах и в других местах, священникам платили за со-
126
вершение одной пасхальной утрени и освящение пасх по 50-75 рублей, а на Николаевском вокзале — 100 рублей. «Усердный» пастырь-студент мог зарабатывать по 100 и более рублей в месяц, конечно, жертвуя своими студенческими обязанностями и успехами. Это приводило к тому, что между священниками почти не было отличных студентов.
Я и Плотников воздержались от увлечения халтурой. Я в будни лишь изредка соглашался помогать санкт-петербургским священникам, а в воскресные и праздничные дни уходил служить лишь в тех случаях, когда я бывал свободен от служения в академической церкви. И то и другое не мешало моим студенческим занятиям. Зарабатываемых же таким образом 25-30 рублей в месяц хватало и на мои личные нужды, и на помощь младшим братьям. Гапон где-то промышлял, но скрывал от нас все свои действия. Попов же почти ежедневно служил где-нибудь, ему нужны были деньги на содержание трех сыновей, старшему из которых. Пантелеймону, было 11 лет. Главным местом его пастырских трудов стало Смоленское кладбище: там он служил три-четыре раза в неделю и за каждую службу получал 5 рублей. Из-за Смоленского кладбища с Поповым произошел забавный случай. В конце первого года мы держим экзамены. Рано утром нашего Мишу, или, как мы называли его за маленький рост. Маленького, зовут на Смоленское кладбище. Не хочется ему лишаться 5 рублей, но и уйти от экзамена по русской гражданской истории нельзя. Скрепя сердце он отказывается от службы, но мысль о потерянной пятерице не выходит из его головы. Начинается экзамен. Председательствует инспектор Н.В. Покровский, ассистентом — профессор В.С. Серебренников, экзаменует профессор П.Н. Жукович. Мише по билету выпадает Смоленское княжество. История — любимый его предмет. Он отвечает бойко, толково. Но... «Что это он все время Смоленское княжество называет Смоленским кладбищем?» — спрашивает Н.В. Покровского профессор Серебренников. Хорошо знающий все студенческие и труды, и похождения Николай Васильевич отвечает; «Он почти каждый день служит на Смоленском кладбище и получает за это мзду. Вероятно, и сегодня должен был служить там, а экзамен не позволил. Вот и не сходит у него с языка Смоленское кладбище».
Мои студенческие дела шли успешно. Я довольно аккуратно посещал лекции, внимательно относился к составлению семестровых сочинений, добросовестно готовился к экзаменам. Мой ответ по русской церковной истории на приемном экзамене продолжал оказывать влияние на отношение ко мне профессоров. На все экзамены я шел смело, не опасаясь провала. Только экзамен профессора Глубоковского смущал меня. Когда я шел на этот экзамен, студенты старших курсов говорили мне; «Желаем вам получить тройку». «Почему же тройку? Какой же это балл!» — воз-
127
мущался я, будучи избалован высокими баллами на предыдущих экзаменах. «А вы рассчитываете больше получить? Чудак же вы. Глубоковский священникам больше трех не ставит, а двойками часто их угощает», — отвечали мне. Начался экзамен. Председательствовал ректор, ассистентом был А.П. Рождественский. Дошла очередь до меня. Вынутый билет я знал хорошо, отвечал обстоятельно. Профессору Глубоковскому оставалось только поддакивать. Когда я доложил все положенное, Глубоковский начал гонять меня по всему курсу. На все его вопросы я давал отличные ответы. Последний его вопрос касался маленького примечания в его лекциях. «А это знаете вы?» — спросил он меня. У меня вырвалось; «Конечно, знаю». Глубоковский отпустил меня. Товарищи потом говорили: «Ну и нахал же вы. Выпалить Глубоковскому: конечно, знаю! Едва ли кто другой осмелился бы сделать это». А я-то совсем не осмеливался, само собою это вышло.
Кроме студенческих занятий я в первый же год пребывания в академии втянулся и в иного рода работу, дополнявшую, так сказать, мои учебные занятия. Общество распространения религиозно-нравственного просвещения привлекло меня к проповеданию Слова Божия на фабриках Штиглица, Торнтон, за Нарвской заставой, а священник церкви этого общества на Обводном канале высокопорядочный и идейный Александр Васильевич Рождественский изредка приглашал меня к служению и проповеданию в его церкви. Мое знакомство с Петербургом, с жизнью столичного духовенства и рабочих выросло. Мои учебные успехи подняли меня в разрядном списке. Счастливый, я отправился на каникулы в г. Витебск к брату покойной жены о. Семену Александровичу Гнедовскому, у которого воспитывалась моя дочка.
Кандидат богословия Санкт-Петербургской же духовной академии, обладавший быстрым умом и большим остроумием, о. Семен в то время занимал самый лучший в епархии приход, дававший ему большие средства33 и не отягощавший его пастырской работой. В центре города у него рядом с церковью была отличная церковная квартира с хорошим фруктовым садом и огородом. От аренды церковной земли он получал колоссальные по тому времени доходы. Живя в городе, он имел свою корову, пару лошадей и. будучи бездетным, жил магнатом, жил как птицы небесные, которые «ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы» (Мт. 6, 26), все тратя на еду, питье и лакомства. По душе это был очень добрый и отзывчивый человек, гостеприимству его не было границ: кто только не угощался у него. Жена Семена Александровича Мария Ипатьевна, красавица, обладавшая удивительно хорошим сопрано, была воплощением человеческой доброты и радушия. Моя дочка сразу стала кумиром этой семьи, ее любили, как могли бы любить только самые нежные и любящие родители:
128
ее баловали сверх меры, она не знала ни в чем отказа, и это начинало беспокоить меня. Меня моя крошка не забыла и, хотя я совсем не баловал ее, с трогательной любовью относилась ко мне. О. Семен и его жена всячески старались сделать мое пребывание у них приятным для меня. Но меня скоро начала тяготить жизнь в их доме, где все заботы хозяев были направлены к одному: что есть, что пить, во что одеться (Мф. 6, 25). Меня все более начинало удручать, что Семена Александровича заедает микроб лености и отсюда постоянного беспокойства: что же дальше делать? Я кипел энергией, мечтал о работе серьезной и продуктивной. А тут еда, питье, нужные и ненужные люди, безумные, непроизводительные расходы, постоянная суета и томление духа, от которых предостерегал премудрый Соломон (Екклес. 1, 14). Двоились у меня и мысли, и чувства: с одной стороны я чувствовал глубокую благодарность обоим этим супругам, столько любви проявляющим ко мне и моей дочке: с другой — меня угнетало и духовное, и даже физическое замирание этого способнейшего человека, имевшего все возможности стать полезнейшим церковным деятелем. Это была моя трагедия, которую я не перестаю переживать и доныне, когда у меня является мысль: не виновен ли я в том, что на их большую любовь ко мне я не отвечал такою же к ним любовью?
Любовь моей четырехлетней крошки ко мне была трогательной: утром она старалась угощать меня чаем, за обедом садилась обязательно рядом со мной, вечером проверяла, постлана ли мне постель, и разным иным образом заботилась обо мне. Единственным моим конкурентом оказывалась подаренная ей дядей Сеней красавица телка. Однажды я говорю дочке: «Марусенька! Я начинаю беспокоиться: ты любишь свою телку больше, чем меня». «Не волнуйся, папочка! — ответила она, целуя меня. — Я одинаково люблю и тебя, и телку». Ничего не поделаешь, пришлось примириться с таким положением.
Мои милые родственники не хотели отпускать меня от себя ни на один день. Однако я вырвался, чтоб побывать на дорогих могилах и у своих азарковских приятелей. Подъезжая к Азаркову, я встретил лысого еврея Гильку, мелкого торговца, многосемейного, насколько бедного, настолько утиного, в пору моего вдовства бывшего ежедневным моим собеседником и удивлявшего меня знанием Библии и умными рассуждениями. «Как поживаешь, милый Гилька?» — обратился я к нему. «Как живет Гилька? Все лучше и лучше, потому что ближе к смерти», — ответил этот деревенский мудрец. Побывал я на родных, дорогих могилах, повидался с Вожиком, Лаппо, незабвенным старостой Лаврентием Давыдовичем, со споловщиком Павлом, с псаломщиком Никоновичем, с Семеном, церковным сторожем, и другими не забывавшими меня крестьянами... Вспомнилось все пережитое в Азарко-
129
ве, защемило сердце, и как будто перед воспоминаниями о пережитом померкла санкт-петербургская жизнь со всеми ее удобствами и преимуществами. Там много культуры, а тут много блаженной простоты и душевной теплоты. А пользы-то сколько можно было тут принести! Поспешил я поскорее вырваться из Азаркова, чтоб больше не бередить свою душу. Навестив своего друга благочинного, вернулся в Витебск, где и оставался до конца каникул.
На втором курсе (1899-1900 гг.)
Август 1899 г. Я снова в академии, студент II курса. Нас троих переместили в главное здание, поместив в светлой комнате третьего этажа около церкви. Наш коридор стеною отделялся от церкви. Отворив окно, можно было слушать службу и видеть все совершавшееся в церкви, вход в которую был со второго этажа.
Среди священников-студентов я был самым лучшим по успехам. Кроме того, я обращал общее внимание своей аккуратностью и скромностью. В сентябре этого года меня избрали академическим благочинным, несмотря на то что я был одним из младших священников. Я согласился, но поставил условием, что мне не будут мешать навести порядок в отношениях братий к службе и между собою. Тогда в священническо-студенческой жизни бросались в глаза две аномалии. 1) Священники конкурировали в добывании треб, дававших им доходы, подкупали швейцаров, чтобы те к ним направляли заказчиков, обманывали друг друга. 2) В воскресные и праздничные дни иногда случалось так, что почти все священники расходились по заработкам и для соборного архиерейского служения не оказывалось в академии священников. Первое унижало священнический сан, второе роняло престиж академии. Чтобы устранить недостойное соревнование и не оставлять академическую церковь без нужного числа священнослужителей, я предложил братии принять следующие решения: 1) в будни каждый волен пускаться или не пускаться на заработки, все заработанное им в будни поступает в его пользу; 2) в воскресные и праздничные дни прежде всего отделяется нужное число священников для академического богослужения, остальные могут служить в других церквах: 3) все заработанное этими священниками поступает в общую кружку, которая делится поровну между всеми в конце месяца: 4) распределение служб и наблюдение за порядком в чередовании возлагается на благочинного. Мое предложение было принято, и после этого исчезли всякие аномалии в наших отношениях друг к другу и к церковной службе. Последнему способствовало еще то, что тогдашние мои собратья34 по сану всех курсов отличались миролюбием и благородством. Один Гапон являлся зловредной болячкой на нашем здоровом корпоративном организме. Вздорный и до денег жад-
130
ный, он скрывал свои доходы, уклонялся от служб в академической церкви, лукавил, лгал. Мне как благочинному потом часто приходилось вступать с ним в большие пререкания и иногда действовать угрозами. Везде и во всем он оказывался самим собою: вздорным, грубым, жадным эгоистом, признававшим только свои интересы и капризы.
В сентябре же не перестававший после приемных экзаменов оказывать мне особенное внимание Н.В. Покровский, наш инспектор, сообщил мне. что великий князь Дмитрий Константинович обратился в академию с просьбой дать ему студентов-проповедников, которые вели бы по воскресным дням беседы в его манеже в Стрельне35. «Я решил, — сказал Николая Васильевич, — поручить это дело вам. Пригласите по своему усмотрению еще двух студентов и с ними начинайте беседы! Я уверен, что вы не посрамите академию». Я пригласил двух студентов 4-го курса, Григория Русецкого и Стефана Фокко, которые считались хорошими проповедниками. Из всех проповеднических пунктов этот стал самым привлекательным. В то же время его считали и самим ответственным, так как он был открыт по желанию великого князя и его именем. Привлекательных сторон действительно было много. Во-первых, проповеднику не надо было тратиться на разъезды, так как за каждую беседу он получал из конторы великого князя три рубля: во-вторых, самая поездка в Стрельну была очень приятной: проповедник выезжал из душного Петербурга за город, где можно было подышать чистым воздухом; от вокзала до манежа (около 3 километров) проповедника доставлял великокняжеский рысак36, на котором проповедник и возвращался на вокзал: после беседы проповедник приглашался в особую комнату, где ему предлагалось хорошее великокняжеское угощение. Вся манежная обстановка была старательно подготовлена для беседы: проповедник помещался на удобной кафедре, слушатели сидели на скамьях, беседа предварялась и заканчивалась пением хора местной придворной церкви. На всех беседах неопустительно присутствовал придворный протоиерей Николай Кедров, маститый, белый как лунь величественный старец. В музее императора Александра III была картина — принесение Исаака в жертву: Исаак связанный лежит на костре, а Авраам стоит около него, подняв глаза к небу и держа в руке нож, чтобы заколоть своего единственного сына. Я думаю, что портрет Авраама был списан художником с о. Н. Кедрова. Я как наяву и сейчас представляю фигуру о. Николая: стоит он около хора, а его сочная октава раздается на весь манеж. После великокняжеской закуски о. Николай приглашал проповедника в свой дом и опять угощал его. Сыновья о. Николая Николай и Константин, сравнительно недавно скончавшиеся в Париже, в эмиграции прославились во всей Европе как организаторы и участники знаменитого
131
Кедровского квартета. Будучи в Софии, они посетили меня как старого своего знакомого, а я по-беженски, чем Бог послал, угостил их. Славное, русское, хлебосольное и бесхитростное было семейство Кедровых.
Окончили курс академии Русецкий и Фокко. Я заменил их своими товарищами — Анатолием Семеновичем Судаковым, первенцем нашего курса, и Ф.И. Думским, и мы вели беседы до окончания нами курса. Говорили, что великий князь и публика были довольны нашими трудами.
5 апреля 1900 г. нашу академию, как уже сказано выше, постигло великое несчастье: скончался наш знаменитый, действительно незаменимый профессор Василий Васильевич Болотов. «Что имеем, не храним: потерявши, плачем». Эта пословица в известной степени была приложима и к незабвенному Василию Васильевичу. При жизни Василия Васильевича и профессора, и студенты считали его научной величиной колоссального масштаба. Но все величие его учености и те и другие почувствовали только после его смерти. Тогда начали вспоминать случаи из жизни почившего, при которых выявлялись его необыкновенные дарования и знания. Вспоминали о его участии в качестве представителя Святейшего Синода в Комиссии по вопросу о введении нового стиля, составленной из самых видных русских ученых — математиков, астрономов, историков, под председательством директора Пулковской обсерватории, кажется, Глазенапа. Там профессор Болотов обнаружил такие познания по высшей математике и астрономии, что председатель и некоторые члены подумали, что он преподает эти науки в каком-то высшем учебном заведении. Вспоминали, как Министерство иностранных дел, войдя в сношение с абиссинским правительством, не могло найти в университете профессора, знающего абиссинский язык, и тогда вспомнилось, что в духовной академии есть такой чудак по фамилии Болотов, который все знает. Болотов исполнил нужную министерству работу и за это был награжден по ходатайству этого министерства чином действительного статского советника. Этот чин приравнивался к чину генерал-майора и был очень большой наградой для еще молодого тогда В.В. Болотова. Вспоминали и про присоединение халдейцев, когда по поручению Синода Болотов перевел на халдейский язык наш Символ Веры. Вспоминали и многое другое, в удивительном свете рисовавшее этого великого ученого37. Со слезами провожала академия Василия Васильевича на Александро-Невское кладбище, где в ряду могил своих бывших учителей и коллег нашел он вечное упокоение.
Потом говорили, что совет академии предлагал кафедру Болотова профессору философии Д.П. Миртову, но он будто бы ответил: «Занять кафедру после Болотова... Я не так глуп, чтобы гу-
132
бить свою карьеру». Назначен был А.И. Бриллиантов, серьезный ученый, но он, конечно, не мог заменить Болотова38.
Отдаваясь наукам, я занимался и богослужением. В воскресные и праздничные дни, если бывал свободен от участия в богослужении в академической церкви, я служил в городских церквах. В будни я избегал увлечения службами и служил только в тех случаях, когда неудобно было отказать в помощи какому-либо знакомому священнику. Из этой последней богослужебной практики врезались мне в память два случая. Первый — на Страстной неделе 1899 г. В Великий четверток ко мне обратился с просьбой помочь ему в Великую пятницу священник церкви Иоанна Предтечи на Выборгской стороне Иоанн Федорович Альбов. Другого священника в этой церкви не было, а она находилась в фабричном районе. Предполагалось поэтому, что ему будет не по силс1м справиться со множеством исповедников. Я не смог отказать этому симпатичному молодому, всего второй год священствовавшему пастырю. В Великую пятницу я ровно в 10 часов утра начал исповедь и продолжал ее, ни на минуту не отошедши от аналоя, до 11 часов вечера. Мои ноги онемели, мне казалось, что я стою не на своих ногах, а на каких-то чужих тумбочках: чувствовалась сильная усталость и в мозгу, но я считал своим долгом довести работу до конца, не оставив без исповеди ни одного человека. Где есть дело, там с моей стороны не может быть отказа — это было девизом всей моей священнослужительской жизни. Когда мой долг требовал, я тогда забывал и усталость, и недомоганье, и всякие препятствия и опасности.
Второй случай имел место в 1900 г. Наш курс начал готовиться ко второму экзамену профессора Глубоковского. Дано нам было четыре дня на подготовку. Экзамен был назначен на 31 мая. 28 и 29 мая — Троицын и Духов дни. 27 мая после обеда приходит ко мне мой хороший знакомый законоучитель Николаевского сиротского института священник Семен Александрович Налимов, родной брат профессора Налимова, и умоляет меня немедленно же отправиться в имение Куоккала39, чтобы на Троицу и в Духов день совершить богослужения в принадлежащей помещику этого имения Владимиру Николаевичу Ридингеру церкви и окрестить его дочь. Мое заявление, что я никак не могу исполнить просьбы, так как у меня чрез три дня самый серьезный экзамен и прочее, не убедили о. Налимова. «Никаких оправданий и отговорок, — решительно заявил он. — Поезжайте. Будете очень довольны. Ридингер и его жена Лидия Ивановна, дочка известного художника Шишкина, — люди чрезвычайно добрые, радушные, простые, примут вас как родного и отлично вознаградят вас. А вы проведете там время как в раю. Найдете возможность и лекциями призаняться, они не станут мешать вам». Пришлось подчиниться. Захватив лекции, я немедленно выехал в Куоккала.
133
Супругов Ридингеров я впервые увидел, но они встретили меня как самого дорогого гостя. Мое пребывание у них действительно стало бы пребыванием в раю, если бы предстоявший экзамен не удручал меня. Местность Куоккала очаровательная: на берегу моря, возле рощи, воздух чистый, приятный, дом роскошный, богатство в доме исключительное, хозяева высококультурные, ласковые, добрые, радушные, оба еще молодые, трое их старших девочек как ангелы. Особенно Лидия Ивановна очаровала меня: подлинная русская красавица, ласковая и нежная, кроткая и чуткая, умная и веселая, ко всем жалостливая. В день Святой Троицы мы втроем — я и супруги Ридингеры — вышли на прогулку. Пред нами была большая роща. «Смотрите, смотрите! Заяц вон сидит. Возьму-ка ружье да всыплю этому нахалу», — воскликнул Ридингер. «Володичка! Не делай этого! — взмолилась Лидия Ивановна. —Ты только посмотри, какой он хорошенький, как он мило сидит! За что же убивать его? Он же, бедненький, тоже хочет жить». Это было сказано так нежно, что, кажется, у самого закоренелого преступника опустились бы руки. Ридингер остановился. А зайчик почесал за ухом, поглядел на нас, как бы благодаря Лидию Ивановну за сострадание, и тихонько запрыгал в глубину рощи.
Совершил я праздничные службы в переполненной дачниками церкви. Ридингерам особенно понравилось мое чтение троицких молитв. После литургии в Троицын день окрестил четвертую дочурку Ридингеров. Меня питали по-царски, не переставали ухаживать за мной, развлекать меня. За службами, обедами и ужинами, разговорами и прогулками проходило все время, а лекции профессора Глубоковского оставались непрочитанными. «Ну, — думал я, возвращаясь из Куоккала, — на этот раз сбудется предсказание прошлогоднее: не получить мне у профессора Глубоковского более тройки. Обидно и стыдно будет».
В большом беспокойстве пошел я на экзамен. Дошла очередь до меня. Взял билет. Не очень трудный. Знаю, но вовсе не блестяще. Начал отвечать. Профессор Глубоковский вдруг начал опережать меня, и мне оставалось только поддакивать ему. Так и прошел весь билет. Никаких посторонних, вне билета вопросов профессор не задал мне, а мое поддакивание оценил пятеркой, очевидно, не забыв моего прошлогоднего блестящего ответа. Тут уж невидимая рука помогла мне.
Кончились экзамены, прошедшие у меня более чем благополучно, и я, простившись с любимыми ректором епископом Борисом и инспектором архимандритом Сергием, уехал в свой богоспасаемый град Витебск, к своим милым «старосветским помещикам»40.
Я опять в Витебске. Окружен трогательным вниманием, чрезвычайной заботами и предупредительностью. Первые дни после
134
нелегких экзаменов и академической, все же казенной жизни я наслаждаюсь отдыхом, ежедневными поездками с хозяином за город и прогулками по городу, обильной и удивительно вкусной пищей. Но потом в душе моей начинают бороться совершенно противоположные чувства: с одной стороны искренняя любовь к моим родственникам, глубокая благодарность за их любовь ко мне и особенно к моей малютке, для которой они вполне заменили мать, полюбили ее как родную дочку и ничего не жалеют для нее; с другой стороны мне очень скоро надоедает их сытая до пресыщения. беспечная и бесплодная жизнь: надоедают с утра до вечера отаптывающие пороги их дома, питающиеся за их столом разные неинтересные люди; надоедает обидное однообразие жизни: все дни как один. Рано утром можешь безошибочно предсказать. что услышишь, что будет в наступающий день. Утром в спальне раздастся хозяйский голос: «Машурка, чем же ты угостишь меня за чаем? А к завтраку что ты приготовишь?» После завтрака пойдет речь об обеде — о закусках, о блюдах, о сладком, о чае вечернем. За чаем вечерним начнутся расспросы: «Что же будет на ужин. Будет ли что-либо вкусненькое?» И так далее. День пройдет однообразно: утром чаепитие с разными булочками и приправами, часов в 11 закусочка чем-нибудь вкусненьким. в 1 час дня обильный обед, всегда удивительно вкусный, после обеда сон, в 4 часа чаепитие опять же с чем-либо вкусненьким, затем катанье на лошади за город, прогулка в город с заглядываньем во все гастрономические магазины и с закупкой нужных и ненужных снедей, обильный ужин, праздные разговоры с неинтересными людьми, без которых ни одной минуты не проходило в доме, и сон. Становилось обидно, жаль этого безусловно очень одаренного человека, имевшего все возможности быть полезнейшим членом церкви и общества. И тогда, а еще более после я не раз задавал себе вопрос: кто же виновен в том, что вот такие, как мой дорогой Семен Александрович, облениваются, опускаются и не живут, а прожигают жизнь? Воспитание, не приучившее к труду? Возможно. Сами они, при своих больших способностях не пожелавшие понять, что надо по-иному жить, и не заставившие себя пойти по иному пути? Да. Однако, всякий раз касаясь этого вопроса, я приходил к заключению, что главным виновником таких несчастий — иначе как несчастьем такое явление я назвать не могу — бывало начальство. Начальствовать не значит владычествовать, не значит проявлять свою власть на бумаге, назначать, увольнять, карать и миловать. Начальствовать — значит, зорко следить за делом и деятелями; дело направлять по правильному руслу, деятелями пользоваться для отвечающих их способностям и наклонностям дел и занятий, неопытных деятелей наставлять, ленивых побуждать, падающих поддерживать и исправлять, упавших поднимать. От дома, где
135
подвизался Семен Александрович, до архиерейского дома было не более 300 шагов; в Витебске тогда было всего четыре священника с академическим образованием, и к этому числу принадлежал Семен Александрович: получившие высшее образование священники, естественно, должны были стать главными помощниками архиерея в его епархиальной работе, а архиерей, естественно, должен был особенно интересоваться их жизнью, их работой, их отношением к службе. Тогда архиерей непременно заметил бы. что талантливый его помощник обленивается, опускается, и поспешил бы заинтересовать его делом, привлечь или принудить его к работе, отвлечь от праздной жизни. Если бы больше было у нас истинных церковных администраторов, то несравненно меньше было бы несчастных пастырей, под влиянием разных обстоятельств обленившихся, опустившихся, спившихся, развратившихся. К сожалению, у нас принято было владычествовать и властвовать, а не отечески управлять-воспитывать, научать, исправлять. Среди начальствующих владык было много, а попечительные отцы, друзья своих подчиненных, готовые вместе с ними и скорбеть, и радоваться, встречались сравнительно редко. Говорю это по основательному наблюдению и большому опыту.
Итак, скоро наскучивала мне жизнь в милом гостеприимном доме крепко любивших меня родственников, и я начинал искать отдушины, как бы мне вырваться хоть на недельку и подышать иным воздухом, пожить более бедною, но более отвечающею моей душе жизнью.
Меня тянуло в деревню, к природе с ее естественными благами; к рыбной ловле, к ягодам и грибам, к простым, неискалеченным культурными прихотями людям. Но меня старались всячески удерживать от поездок, меня ревновали к другим людям. И мне всякий раз стоило большого труда и ухищрений, чтоб вырваться на свободу. Тогда я посещал своего бедняка отца, своего друга, бывшего благочинного о. Владимира, переместившегося в с. Топоры Невельского уезда, где были и озеро, и грибной лес, и других знакомых. Вырвавшись на три-четыре дня, я возвращался через три-четыре недели, встречаемый радостно, но с жестокими укорами, что не исполнил обещания не засиживаться в гостях. Так и проходили каникулярные месяцы. К концу августа я поспешил в академию.
На третьем курсе (1900-1901 гг.)
Я на третьем курсе. Живу в той же, что и в прошлом учебном году, комнате, просторной и светлой. Со мною живут мой однокурсник В.В. Плотников и студент IV курса священник Михаил Иванович Ильинский. У Плотникова способности неблестящие, но трудолюбие исключительное. В начале этого учебного года он
136
берет тему для кандидатского сочинения у профессора Бронзова о нравственном учении преподобного Нила Сорского и сразу принимается за работу. Прежде всего он начинает тщательно выписывать из разных книг биографические сведения о жизни и деятельности тех святых отцов, творениями которых пользовался, как установлено исследователями. Нил Сорский. «Зачем ты тратишь время на такую ученическую работу? Какую цену будут иметь эти твои выписки? Разве от претендующего на степень кандидата богословия требуется такая работа?» — спрашиваю я. «Бронзов сказал, что это необходимо», — отвечает Плотников. Через год он представит огромный, более 500 страниц убористого письма, «ученый» труд, переполненный всякого рода ученым мусором. Труд в бронзовском духе, и Бронзов даст о нем блестящий отзыв. Михаил Ильинский гораздо способнее Плотникова, а в трудолюбии не уступает ему. Всякую свободную минуту он употребляет на изучение английского языка. По окончании курса он уедет в Америку. Сейчас он архиепископ в Нью-Йорке.
В первых числах сентября меня как академического благочинного вызвал ректор. «Я, — обратился он ко мне, — получил письмо от начальника Николаевской академии Генерального штаба генерала Сухотина. Просит дать священника для совершения богослужений в академической Суворовской церкви41. Надо послать туда хорошего священника, который не ударил бы лицом в грязь пред профессорами и учащимися в академии офицерами. Лучше всего возьмите-ка вы на себя труд совершать там богослужение. Я уверен, что вы понравитесь им». Со всенощной пред Воздвижением я начал совершать богослужения в Суворовской церкви. И на всенощной 13 сентября, и на литургии 14-го присутствовал генерал Сухотин. За литургией я говорил проповедь о несении креста, упомянув и о том, что великий Суворов доблестно и жертвенно нес крест воинского служения, отдавал все свои силы и жизнь Родине, в сердце всегда нося Бога, собственным примером отношения к вере и Церкви подавая высокий пример всем нам, что и все мы должны жертвенно служить Богу, Родине и ближним своим. Генерал Сухотин по окончании службы поблагодарил меня за проникновенную службу и за отличную проповедь. А ктитор церкви архитектор Константин Степанович Строганов поделился со мной, что начальник академии остался очень доволен и службой, и проповедью, причем выразил надежду, что я послужу у них.
Учебные мои дела на 3-м курсе шли отлично. По трем семестровым сочинениям я получил: по нравственному богословию у профессора Бронзова — 4,75, по педагогике и западным исповеданиям — у профессора Соллертинского и архимандрита Сергия — пятерки. По нравственному богословию я писал о христианской нравственности: по педагогике — о школе С.А. Рачин-
137
ского, известнейшего педагога, помещика Смоленской губернии, бывшего профессора Сельскохозяйственной академии; по западным исповеданиям — о Фоме Кемпийском и его сочинении «О подражании Христу». Меня особенно обрадовала пятерка по педагогике. Товарищи убеждали меня совершенно переработать написанное сочинение, так как я развил в нем опасные мысли о том, что наша аристократия, имевшая в прошлом большие заслуги, но потом измельчала, выродилась, простой же народ представляет целину, нетронутую почву, которая при должном уходе за нею может дать обильнейшие плоды. Тогда такие мысли могли быть признаны революционными.
В начале 1901 г. епископ Борис был назначен председателем Училищного совета при Святейшем Синоде, а ректором академии был назначен архимандрит Сергий, в конце февраля возведенный в сан епископа. Инспектором академии был назначен иеромонах Феофан (Быстров). Более неудачного назначения нельзя было и придумать. Способный и благочестивый, большой мистик, Феофан годился только для кельи и созерцательной жизни и совершенно не годен был ни для какой практической деятельности. Назначение его знаменовало катастрофу для академической дисциплины. И надо удивляться, как это такой умный человек, как митрополит Антоний, мог избрать его для инспекторской в академии должности. В 1909 г. он будет назначен ректором академии и доведет ее до позорного состояния.
В мае этого года генерал Сухотин был назначен на должность степного генерал-губернатора к командующему войсками Сибирского военного округа. Уезжая, он поручил своему преемнику генералу Владимиру Гавриловичу Глазову принять все меры, чтобы по утверждении штата Суворовской церкви именно я занял место ее настоятеля. Тяжело мне было расставаться с генералом Сухотиным, успел я полюбить его. Несомненно, это был человек крупного масштаба: способный профессор, тонко понимавший военное дело и любивший его, при бурном характере обладавший большой волей, ни пред чем не останавливавшейся. Его как начальника академии недостатком была значительная суровость в обращении с учащимися офицерами, но она объяснялась его пониманием высоких целей, преследовавшихся академией. Генерал Глазов был полной противоположностью Сухотину: мягкий и снисходительный, всегда добродушный и ровный, он, по моим наблюдениям, более любил археологию, чем военную науку, и в то время занимался не каким-либо военным вопросом, а историей Афанасия Холмогорского, известного борца против раскола. Скоро у меня с ним установились самые добрые отношения.
Настало время и мне подумать о теме для кандидатского сочинения. Меня потянуло к истории, истории родного края.
138
прошлое которого совсем мало было изучено. Я обратился к профессору русской истории П.Н. Жуковичу, и он посоветовал мне заняться личностью архиепископа Василия Лужинский (бывшего Полоцкого и Витебского), одного из воссоединителей западнорусских униатов с Православной Церковью. Я согласился. Протоиерей С.А. Соллертинский потом упрекал меня за то, что я не взял более серьезной темы. Но я и ныне не жалею, что занялся этой темой. Она многому научила меня и прежде всего научила житейской мудрости, столь необходимой в жизни. Профессор Жукович предупредил меня, что моя тема потребует от меня большого труда, сложных занятий в архивах, так как в печати личность Лужинского слабо освещена. Но меня труд не пугал, а предстоявшие занятия в архивах казались весьма заманчивыми.
Экзамены у меня прошли блестяще. При переходе на IV курс я занял в разрядном списке второе место — для священника необычный факт. Прибыв в Витебск, я всецело отдался архивной работе и за два месяца успел запастись вполне достаточным материалом для своей кандидатской диссертации. Обычно в архивах я работал до обеда, а после обеда пользовался каждой свободной минутой, чтобы знакомиться с литературой, касающейся личности архиепископа Василия. Таким образом я успел просмотреть архивы Полоцкой духовной консистории. Канцелярии епископа Полоцкого, Витебского губернского правления и Витебской духовной семинарии: проштудировать записки Василия Лужинского, архиепископа Полоцкого, автобиографические записки Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского, преемника архиепископа Василия на Полоцкой кафедре, и другие относящиеся к воссоединению униатов издания. В Петербург я вернулся с папкой добытого материала для предстоявшей мне дальнейшей работы.
На четвертом курсе (1901-1902 гг.)
1901/1902 учебный год был для меня весьма трудным. После обследования витебских архивов мне пришлось отдавать много времени работе в двух петербургских архивах — Синодальном и Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. Покончив с архивами и литературой предмета, я немало времени употребил на составление и переписку сочинения. Одновременно с этим я должен был посещать лекции и обслуживать Суворовскую церковь. где по мере того, как богомольцы узнавали меня, все увеличивалось число разных требоисправлений. В особенности трудно мне пришлось в Великом посту: в первую, четвертую и Страстную седмицы я должен был служить литургии ежедневно утром и вечером, а в прочие недели — по средам, пятницам и субботам. На Страстной седмице, кроме того, большого напряжения потребовала от меня исповедь. Не замечая, что силы мои слабе-
139
ют, так как работал через силу, я радовался, что работа спорится у меня. Только после Пасхи, и в особенности во время экзаменов, я почувствовал, что чрезвычайное напряжение в работе не прошло для меня даром. Тяжело мне было готовиться к экзаменам, голова неохотно воспринимала сухой материал лекций. Слава Богу, что экзаменов только шесть было! И рад же я был последнему экзамену!
Между тем в моем, так сказать, служебном положении произошла большая перемена. В ноябре 1901 г. генерал В.Г. Глазов сообщил мне, что штат церковный утвержден. «Протопресвитер (А.А. Желобовский) упирается, ссылаясь на то, что он не может студентов назначать на штатные должности. Но мы его уломаем. Он должен вызвать вас, будьте готовы», — добавил генерал Глазов.
Протопресвитер вызвал меня в самом конце января 1902 г. «Чего вы проситесь в Суворовскую церковь?!» — неприязненно спросил он меня. «Я не просился, меня просили и просят», — спокойно ответил я. «Ну за вас просят, — смягчился протопресвитер. — Какой расчет вам поступать на это место? Мне говорили, что у вас отличные успехи, вы на другом поприще можете сделать блестящую карьеру. А тут что ожидает вас? Тут вы голодать будете». Я объяснил протопресвитеру, что Суворовская церковь привлекает меня тем. что, во-первых, я полюбил ее и свыкся с академической средой, а во-вторых, она дала бы мне возможность продолжить ученую работу на степень магистра. «Ну Бог с вами. Идите в канцелярию и скажите столоначальнику Кедринскому, чтоб он заготовил ордер о вашем назначении», — уже совсем ласково сказал мне мой новый начальник.
Столоначальник Кедринский принял меня еще строже, чем сам протопресвитер. «У нас свои кандидаты имеются на это место, а вы — сторонний человек — лезете», — грозно обратился он ко мне. «Я пришел не за тем, чтобы выслуживать ваши нотации, а чтобы сообщить вам приказание Его Высокопреподобия». — ответил я. Скоро я получил ордер.
Итак, я вступил в ряды штатных военных священников, удостоился чести, которой так домогаются тысячи епархиальных священников. За предыдущее время я успел наладить дело в Суворовской церкви по своему вкусу и разумению. При богослужениях пел небольшой, но стройный хор, управлявшийся моим псаломщиком Александром Васильевичем Львовым, музыкальным, толковым и преданным мне человеком. Был найден прекрасный староста, купец 2-й гильдии Василий Павлович, Вологжанин, полуграмотной, но разумный, благочестивый, заботливый о церкви и чрезвычайно щедрый человек, и сам много жертвовавший, и других купцов располагавший к жертвам на нашу церковь. Его заботами наружные стены церкви и внутрен-
140
ние — пристройки — были украшены большими иконами, написанными известным санкт-петербургским иконописцем Платоновым, а церковь была снабжена всем необходимым для богослужения: облачениями, сосудами и прочим42. Преподаватель черчения и рисования в академии генерал-майор Анатолий Алексеевич Даниловский смиренно прислуживал в алтаре, не пропуская ни одной службы, в торжественные дни являясь в полной парадной форме: в мундире с эполетами и с Аннинской лентой через плечо. Дьякона у меня не было, и я был доволен этим, так как хорошего дьякона нелегко найти, особенно в бедную церковь, а слабый дьякон может ухудшать, а не улучшать богослужение. Богомольцы моей церкви привыкли к моему служению без дьякона и были довольны им. Ко времени введения меня в штат успел образоваться значительный приходец, состоявший из богомольцев, полюбивших Суворовскую церковь и успевших привязаться ко мне. Церковь Суворовская стала родною, дорогою мне. С Академией Генерального штаба у меня также успели установиться теплые, сердечные отношения. Учащиеся офицеры тоже с симпатией относились ко мне. Выпуск 1902 г.43, чествуя роскошным обедом свое окончание курса, в числе нескольких лиц из начальственного и профессорского персонала пригласил меня в качестве почетного гостя к участию в этом обеде, что было выражением большого внимания ко мне. Я чувствовал себя в церкви и в академии как в самой близкой, родной мне семье. Радостно было приветствовано мое назначение и академией, и прихожанами. Какое это великое утешение для пастыря!
Вот и экзамены кончились. На последнем — по литургике — присутствовал митрополит Антоний. Утром на следующий день я отправился на Митрофаниевское кладбище, где восемь лет период тем была погребена родная сестра моей матери Марья Федоровна Ясеновская. Литургия в главной церкви кладбища еще не начиналась, но стояло уже 18 гробов — больших, малых, средних. Постояв минуты три, я вышел из церкви, чтоб до начала литургии побродить по кладбищу. У самой церкви встретился мне старичок священник, которого я принял за дьякона, так как на груди у него не было креста. Мы поздоровались. «Вы здешний?» — спросил я его. Он ответил утвердительно. «Давно тут служите?» — «Давно. Сорок восемь лет». — ответил он. «Сейчас я заходил в вашу церковь. Сколько там покойников!» — сказал я. А незадолго перед тем санкт-петербургский градоначальник издал приказ, чтобы все умершие в городских больницах погребались не на городских, а на загородных кладбищах, вследствие чего число покойников на городских кладбищах сильно уменьшилось. Мой собеседник махнул рзгкой: «Что это за покойники! Градоначальник разорил нас... Бывало, до его приказа зайдешь в церковь — вся церковь уставлена гробами... Сердце радуется», — ошеломил ме-
141
ня старик своей наивно-искренней репликой. Сначала я ужаснулся его настроению: он смотрит на покойников как на товар; его сердце радуется при виде множества гробов и скорбит, когда их мало: людское горе, людские слезы перестали трогать его... Не дай Бог дожить до такого состояния. Но он же не воспитывал в себе такое настроение, оно само собою сложилось у него: в течение 48 лет ежедневно видеть слезы матерей и отцов, жен, сироток-детей — невольно привыкнешь к ним. Никакого самого сострадательного сердца не может хватить на искреннее и глубокое сочувствие каждому чужому горю. Но взгляд на покойников как на товар и доселе продолжает волновать меня.
Незадолго перед этим был другой случай на том же Митрофаниевском кладбище. Эконом академии священник Капитон Васильевич Клириков, питомец Казанской духовной академии, человек искренний и добрый, но простовато-грубый, также иногда промышлявший халтурой, был приглашен на это кладбище совершить литургию. «Вы кому (то есть для кого) будете служить обедню?» — спросил подошедший к нему во время совершения проскомидии кладбищенский священник. «Кому буду служить? Я всегда служу Господу Богу. Не знаю, кому вы тут служите». — резко ответил ему Клириков. Слишком богато жило кладбищенское санкт-петербургское духовенство, погребальными заработками вытравливавшее в своих душах все святые чувства. Подобные типы встречались и в деревне. Но там делала их такими чаще нищета, чем сытость. Приезжает однажды ко мне в Азарково псаломщик соседнего небогатого прихода Ласский, от природы очень одаренный человек, но лодырь, гуляка, сельский Ноздрев, прогуливавший свои небольшие доходы и заставлявший постоянно бедствовать свою семью. «Как поживаешь. Петрович?» — спрашиваю я его. «Какое житье, батюшка? Бог прогневался на нас. В других приходах тиф. холера, ребята мрут от поноса, ау нас ничего нет... Хоть ты караул кричи...» Но с Петровича что было взять? Он так же спокойно смотрел на страдания своей несчастной семьи. Это был сшедший с рельсов жизненных человек.
Окончание академического курса, да еще блестящее, было большим этапом в моей жизни. На академиков тогда смотрели как на людей высшей породы, и в епархиальном управлении для них были открыты такие места, о которых самый достойный и заслуженный неакадемик мог только мечтать; учебное ведомство только их принимало на службу преподавателями семинарий и духовных училищ: прежний порядок, что на преподавательских местах в духовных училищах часто встречались и семинаристы, тогда уже отошел в вечность; различные светские учреждения, не исключая Государственного коннозаводства, очень ценили наших академиков и охотно принимали их на службу.
142
Для всякого оканчивавшего курс Санкт-Петербургской духовной академии мечтою было остаться в Петербурге. У меня эта мечта уже осуществилась: с 31 января 1902 г. я служил в Суворовской академической церкви как штатный священник. Меня поздравляли, мне завидовали. Только профессор о. Михаил Иванович Орлов, очень любивший и ценивший меня, был решительно против того, чтоб я оставался на службе в Суворовской церкви. На этом случае придется остановиться.
По традиции на 3-й день Пасхи в церкви Санкт-Петербургской духовной академии литургию совершал митрополит Антоний. Накануне этого дня ректор — епископ Сергий — поручил мне побывать у носящих духовный сан профессоров и предложить им принять участие в митрополичьем богослужении. Когда я пришел к о. Михаилу Ивановичу Орлову, жившему тогда в лаврском доме на Невском проспекте, он засуетился, чтоб угостить меня. Пока жена его готовила «чаек с малиновым вареньицем», мы с ним сидели в его кабинете. Надо сказать, что о. Михаил Иванович был редким фанатиком в науке. С разрешения академического совета вместо греческого языка, который, по его мнению, и без того хорошо знали студенты, он преподавал санскритский язык как «могущий открыть студентам величайшие тайны». К этим тайнам студенты не стремились, и его лекции оставались без слушателей, что и волновало, и оскорбляло его. Я гораздо более из сострадания к профессору, чем из любви к предмету, аккуратно посещал его лекции, а на Пасхальной литургии даже, по его настоянию, читал Евангелие на санскритском языке. За мое внимание о. Михаил Иванович платил мне трогательною любовью. «Вот вы и кончаете академию, — сказал он теперь, беседуя со мною. — Что же вы дальше собираетесь делать?» «Я уже имею место в Суворовской при Академии Генштаба церкви», — ответил я. «Что вы, что вы! — испуганно воскликнул профессор. — Разве это для вас место? Вы совершите величайшее преступление, если останетесь на нем». «Почему же? — возразил я. — Это же место очень устраивает меня. Я к нему уже привык, привык к церкви, к людям. Наконец, оно даст мне возможность заниматься в Санкт-Петербургских архивах и продолжать свою письменную работу». «Как вы не хотите понять, что это место совсем не для вас! — начал горячиться профессор. — В Суворовской церкви может служить всякий священник, магистерскую работу вы можете продолжать на любом месте». «Какое же место считаете вы подходящим для меня?» — поинтересовался я. «Только учителя греческого языка в семинарии, — ответил Михаил Иванович. — Вы же знаете санскритский язык! Вы не можете представить, какую бы огромную пользу могли вы принести, преподавая греческий язык. Ведь и в семинариях наших, и в академиях филологическое невежество. Сижу я, знаете ли, на эк-
143
замене по латинскому языку. Студенты читают, переводят, рассказывают. Экзаменует старый профессор А.И. Садов. Я задал вопрос студенту; «Объясните мне. почему это в дательном падеже окончание русское — «э», латинское — «ае». а греческое — «альфа» с подписной йотой?» Конечно, студент не смог объяснить мне, но и профессор не знал. В другой раз на экзамене по русской литературе спрашиваю: «Почему это русский глагол в I лице единственного числа кончается на «у», например «несу», а греческий — на «омегу» или на «оми»?» И опять то же: ни студент, ни профессор не знают, как объяснить это. А вы. зная санскритский язык, объяснили бы семинаристам и то и другое. Да они бы до смерти были благодарны вам!» — горячо волнуясь закончил Михаил Иванович. Милейший, добрый, честнейший был человек, беззаветный жрец науки, но его ученый фанатизм часто делал его нетерпимым даже к профессорской коллегии. Конечно, на меня все доводы его не произвели никакого впечатления и не убедили меня броситься на преподавание греческого языка. Я остался верным своей Суворовской церкви.
Как мало требовалось тогда от священника, чтоб и любили, и ценили его! Ничего особенного я не делал, служа в Суворовской церкви в бытность свою студентом: внимательно совершал богослужения, всегда был аккуратен, со всеми приветлив, не притязателен в отношении вознаграждений за требы, но разве это заслуги? А между тем обо мне уже шла молва как о выдающемся священнике; в академии меня любили и профессора, и учащиеся офицеры, и посещавшие церковь богомольцы. Число обращающихся ко мне за совершением треб росло, можно сказать, с каждым днем. Староста церкви Василий Павлович Крутов не чаял души во мне. Пред моим отъездом на родину по окончании мною академии он привез большую корзину со всевозможными рыбными закусками. Чего только там не было! Икра зернистая и паюсная, семга, балыки, омары, сардины и прочее. «Это вам закусочки на дорожку, и родных там угостите!» — сказал он мне. приятно шепелявя. После в течение всего моего служения в Суворовской церкви и затем в должности протопресвитера военного и морского духовенства он ежегодно будет присылать по четыре такие корзины: одну — к празднику Рождества Христова, вторую — ко дню моих именин (8 января), третью — к Пасхе и четвертую — к моей поездке на родину. И, бывало, попробуй-ка отказаться от такого щедрого подарка. До слез обидишь милого человека. И как ни отказывайся — заставит взять. Когда отец Иоанн Кронштадтский обедал у Крутова, тогда последний обязательно и меня приглашал к обеду, причем меня всегда сажали по правую сторону о. Иоанна и он угощал меня44.
Итак, я стал кандидатом Санкт-Петербургской духовной академии, получив при этом право на соискание магистерской сте-
144
пени без новых устных испытаний45. Профессор П.Н. Жукович, сообщая о прочтении им моего кандидатского сочинения, сказал мне: «Сочинение ваше отличное. Особенная его ценность в том, что оно написано почти исключительно по архивным источникам, которых доселе никто не касался. Я буду ходатайствовать о присуждении вам денежной награды46. Но это между прочим. Главное же вот в чем: вы должны продолжить работу для получения магистерской степени. Только тему вашу мы немного расширим — Василий Лужинский маловат для магистерского труда. Мы ее так расширим: «Последнее воссоединение белорусских униатов с Православною Церковью (1833-1839 гг.)». Воссоединение литовских униатов уже достаточно освещено в трех объемистых томах «Записок Иосифа, митрополита Литовского», в трудах Г.Я. Киприановича, священника Н. Извекова и других. А воссоединение белорусских униатов ждет своего историка. Ваш земляк Лука Федорович Свидерский пишет об архиепископе Белорусском Иоанне Красовском, но Красовский же работал в Белоруссии до 1822 г. и в непосредственной подготовке униатов к воссоединению не участвовал. Подумайте-ка над указанной мною темой и возьмитесь за работу! Я уверен, что вы так же успешно справитесь с нею, как справились с кандидатскою. Отдохните после понесенных вами трудов, а потом не спеша примитесь за собирание материала». Я поблагодарил милого профессора за его советы и указания и решил, не откладывая в далекий ящик, взяться за дело. Около 20 июня я выехал в Витебск, чтоб к 15 августа вернуться в Петербург.
Уклад жизни в доме моих родственников оставался прежним, не ослабела у них и любовь ко мне. А моя дочурка уже стала грамотной, проявлявшей большие способности ученицей, интересной собеседницей. С ней интересно было посидеть в саду, пройтись по городу, понаблюдать ее. Должен сказать, что о. Семен Александрович при своем остром уме и солидных знаниях не отличался проповедническим даром, был скучным проповедником. Моя дочка подметила это. Когда, прибыв в Витебск, я стал интересоваться поведением своей дочки, Семен Александрович, улыбаясь, говорит мне: «Недели две тому назад отличилась твоя дочка. В воскресенье, когда я собрался идти в церковь к литургии, она спрашивает меня: «Дядя Сеня! Ты идешь в церковь обедню служить?» «Да, Машурочка», — отвечаю я. «А будешь ты проповедь говорить?» — «Нет, не буду», — говорю я. «Ну и лучше!» — одобряет она. Вот проказница! Дядьку-то своего так срамит».
Отдохнув недельки две, то есть поживши жизнью моих милых родственников, я приступил к своей работе: начал рыться в витебских архивах, просмотрел архивы некоторых церквей — витебской Иоанно-Богословской, ужлятинской и жеробычской Витебского уезда. Церковные архивы не дали мне ничего нового.
145
Архив Витебского губернского правления, в особенности его отдел «Дела Витебских, Смоленских и Могилевских генерал-губернаторов», дал мне массу сведений, несмотря на то что этот архив незадолго пред тем подвергся варварской чистке: множество хранившихся в нем дел были изъяты и на вес проданы евреям. По мере моих занятий пред моим взором воскресали великие и малые деятели воссоединения, раскрывались их дела и даже мысли, обнажались интриги, коварства, тайные замыслы и ошибки, выяснялся правильный образ действий, требовавшийся для успеха воссоединительного дела. Как потом все это пригодилось мне в жизни! Чтобы деятелю реже ошибаться, ему прежде всего надо знать историю. «Человечество идет вперед, а человек остается тот же», — сказал великий Гете. В разные века люди повторяют одни и те же ошибки.
VII. Опять на службе. В Суворовской церкви при Николаевской академии Генерального штаба
Август 1902 года. Академия Генштаба уже год живет в новом роскошном здании на Суворовском проспекте, а раньше она помещалась на Николаевской набережной Невы, около Николаевского моста, в старом неудобном здании. Постройкой нового здания академия всецело обязана была своему бывшему начальнику генералу Н.Н. Сухотину. При освящении нового здания в августе 1901 г. военный министр генерал А.Н. Куропаткин, обращаясь ко всем присутствовавшим, сказал: «Когда Николай Николаевич Сухотин заявил мне, что необходимо выстроить для академии новое здание, я, зная характер моего друга, сразу решил, что надо немедленно приступать к делу. Иначе строгий генерал не даст мне покоя. Вы, господа, генералу Сухотину обязаны, что имеете такое прекрасное, отвечающее нуждам академии здание...» Кроме главного здания с аудиториями, различными помещениями для библиотеки, канцелярии, офицерского собрания с разными прибавками к нему, занятных комнат, квартиры начальника академии еще имелись отдельный флигель с 12 квартирами (для правителя канцелярии, штаб-офицеров, священника и чиновников) и казарма с конюшней для академического эскадрона. При офицерском собрании была столовая, где учащиеся офицеры и служащие в академии могли иметь великолепный и дешевый стол — обед из трех блюд стоил 35 коп.
К 15 августа, когда начинались в Суворовской церкви после летнего перерыва богослужения, я вернулся в Петербург. Немедленно отправился к начальнику академии — представиться. Застал его за письменным столом в его домашнем просторном и светлом кабинете. Владимир Гаврилович Глазов встретил меня
146
весьма приветливо: «Очень рад видеть вас. Теперь вы совсем наш. Не придется нам делить вас с духовной академией. Мы вас узнали. Надеюсь, и вы узнали нас. Уверен, что будем жить в любви и мире. Дела у вас служебного будет не так-то много: богослужения в церкви по воскресным и праздничным дням, кое-какие академические требы — молебны, панихиды. Учащиеся офицеры иногда будут беспокоить вас, среди них же есть женатые. Раз-два в неделю будете беседовать с нижними чинами эскадрона. Вот и все, остальное время будет в вашем полном распоряжении. Я слышал, что вы хотите работать над магистерской диссертацией. Отличное дело, и вопрос об унии — очень интересный вопрос. Желаю вам полного успеха. Теперь побеспокою вас одной проблемой. Занимаясь археологией, я встретился с таким явлением: до XV века у наших предков часто встречается имя Николай, а в XV-XVI веках оно совсем исчезает. Чем объяснить это? Обращался я к общему нашему другу Н.В. Покровскому. Он не удовлетворил меня: говорит, из великого уважения к святителю Николаю русские люди не давали имени Николай. Может быть, вы объясните мне?» Я чистосердечно сознался, что не моту разрешить недоумение генерала. «Вы же знаете, что в академическом флигеле вам отведена хорошая квартира? Располагайтесь там!» — сказал генерал Глазов, прощаясь со мной.
После начальника академии я сделал визиты правителю дел академии полковнику Генштаба Сергею Дмитриевичу Чистякову, полковникам Генштаба Тимофею Михайловичу Дагаеву, Владимиру Ивановичу Геништа и князю Николаю Петровичу Вадбольскому, жившим в одном со мною флигеле.
Полковник Чистяков был оригинальным человеком: очень способный, умный и не менее нервный, эксцентричный. В припадке раздражения он мог наговорить таких вещей, что нельзя было узнать его. Однажды я обратился к начальнику академии с какой-то просьбой, касавшейся церкви. «Это непременно нужно сделать! Скажите Сергею Дмитриевичу, чтоб он распорядился исполнить вашу просьбу», — ответил генерал Глазов. Я пошел к Чистякову. «Странное дело! — ответил тот, бывший в плохом настроении. — Церковь и академия... Что общее между ними? И на что академии церковь?» «Но Суворовская-то церковь академическая. Кроме того, я передаю вам приказание начальника академии», — ответил я. «Мало ль что прикажет этот глупый толстый человек!» — раздраженно сказал Чистяков.
Я уже знал полковника Чистякова и ушел, не входя в дальнейшие препирательства, уверенный, что это не он, а его желчь говорила, и что просьба моя будет исполнена. Так и стало. Среди всех служа тих в академии Чистяков, пожалуй, и его жена Софья Константиновна с детьми несомненно были самыми религиозными людьми. Помню такой случай. 16 августа 1903 г. В 9 часов
147
утра я иду в церковь — в этот день праздник писарской академической команды. На академическом дворе встречаю полковника Чистякова, возвращающегося со псковских маневров; в течение ДВ30С месяцев он, отбывая стаж, командовал батальоном в 24-й пехотной дивизии. Весь в пыли, усталый, он идет не к своей семье, а сначала в церковь и, только перецеловав все иконы, отправляется в свою квартиру. Во все воскресные и праздничные дни он неопустительно присутствовал в церкви.
За свою желчность и сварливость он потом пострадал сильно. Уже по производстве в генералы он начал резко критиковать статьи военного министра Сухомлинова, результатом чего было назначение его из академических правителей в бригадные 29-й пехотной дивизии. Это означало, по тогдашней поговорке, разжаловали из попов в дьяконы.
Полковники Дагаев, Геништа и Вадбольский не были церковными людьми, но это не мешало им относиться ко мне с полным вниманием. Дагаев, впрочем, вскоре уехал в Бобруйск на должность коменданта ничего не стоившей Бобруйской крепости. Его семью я так и не успел узнать. Семья полковника Геништы — его жена, добродушнейшая Наталья Ивановна, и три сына-кадета, Сергей, Александр и Борис, — относились ко мне с редкой сердечностью. Сам Геништа, отправившийся на Русско-японскую войну начальником штаба 25-й пехотной дивизии и тяжко раненный на войне, в 1906 г. внезапно скончался во время прогулки в лодке по Псковскому озеру. А Наталья Ивановна глубокой старушкой доживает свой век в Париже. Самой же близкой мне семьей стали мой милый «пономарь», генерал Анатолий Алексеевич Даниловский, и его жена Екатерина Васильевна, оба люди искренно и глубоко благочестивые, кроткие и добродетельные. У них было три сына: Владимир — офицер железнодорожного батальона, Виктор — чиновник и младший Глеб — офицер лейб-гвардейского Егерского полка. Екатерина Васильевна хотела, чтобы один из них стал священником, и однажды, когда еще Глеб был кадетом, обратилась к нему: «Как я хочу, Глеб, чтоб ты стал священником!» Глеб ответил ей: «Нет, мама! Лучше проси об этом Виктора!» Кроме преподавания черчения и рисования Анатолий Алексеевич еще заведовал офицерской кассой. В конце почти каждой церковной службы около церкви и в галерее собиралось множество офицеров. Это все были просители ссуд, потом осаждавшие бедного генерала и самыми невероятными доводами доказывавшие ему необходимость исполнить их просьбы. Добрый генерал сопротивлялся, доказывал невозможность исполнить их домогательства, но в конце концов почти всегда сдавался. Офицеры знали его доброту и злоупотребляли ею. Командир эскадрона полковник Соколов, заведующий хозяй-
148
ством полковник Николай Михайлович Терентьев, всех боявшийся, точно волк загнанный, были добрыми и отзывчивыми людьми. Вообще, вся академическая корпорация отличалась благородством, деликатностью, дружелюбием.
С профессорами мне приходилось встречаться сравнительно редко, но и от них я видел только доброе внимание и почтительное отношение к моему сану. Теперь пред моим мысленным взором мелькают их лица: генералы — Николай Александрович Орлов и Александр Захарович Мышлаевский, блестящие профессора и провалившиеся на войне полководцы: большой математик генерал Николай Яковлевич Цингер, полковники — блестящий, многообещавший Николай Николаевич Головин, способный Александр Александрович Незнамов, трудолюбивейший и благочестивейший Алексей Константинович Байов, не отличавшиеся большими дарованиями, но измучивавшие офицеров; генерал Платон Александрович Гейсман и полковник Вениамин Александрович Баскаков; академический дедушка, бывший участником трех юбилеев академии (25, 50 и 75-летнего), с длинной седой бородой, лысый и одряхлевший генерал Александр Александрович Зейфарт; способнейший, трудолюбивейший и смиреннейший Михаил Васильевич Алексеев: величественный полковник Арсений Анатольевич Гулевич: маститый генерал Николай Платонович Потоцкий: штатский — Сергей Федорович Платонов, известный историк, и многие, многие другие, одни давно уже, другие недавно ушедшие в иной мир, откуда нет возврата.
По адресу прежних офицеров Генштаба приходилось слышать много нареканий, которые падали косвенно и на воспитавшую их академию. Я не слушал лекций, читавшихся в академии, и не был подготовлен, чтобы делать оценку академического преподавания. И теперь я воздержусь и от критики, и от хвалы академической учебно-ученой работы, а приведу весьма компетентный отзыв о нашей Академии Генштаба ее питомца-болгарина, занимавшего высокие посты в болгарском государстве, бывшего военного министра и председателя Совета министров, генерала от пехоты Петра Ивановича Златева. «Я, — говорил он мне, — был участником двух войн — Балканской (1912-1913 гг.) и Великой (1915-1918 гг.). Во время этих войн я внимательно присматривался к военным операциям, проверял полученные мною в русской военной академии47 знания и должен засвидетельствовать, что в слышанных мною в академии лекциях и наставлениях профессоров я не нашел ни одной неправильности. Они преподавали нам самую точную науку. В этом отношении русская военная академия стояла выше и итальянской, и французской, и даже германской. Утверждаю это после тщательного наблюдения за работой питомцев этих академий». Значит, если наши офицеры Генштаба не стояли на высоте исполнения своего дол-
149
га, то виновны были в этом не академические профессора и не постановка академического дела, а что-то другое. Об этом другом я скажу после.
Мне отвели огромную квартиру в пять комнат, с кухней, прихожей, ванной, с большими окнами с одной стороны на Таврическую улицу, с другой — в академический двор. От моей квартиры до церкви было 25-30 шагов. Квартира великолепно отделана, никто еще не жил в ней, но меблировки в ней... ни гвоздя. А у меня в кармане всего 150 рублей полученного жалованья за проведенные мною в Витебске месяцы. Псаломщик Львов научил меня: «За ваши деньги, батюшка, в магазинах не купите ничего порядочного. Поедемте с вами искать что-либо подходящее по объявлениям в «Новом времени». Так мы и сделали. И нашли прекрасную мебель для моей гостиной, чудной работы, старинную. Она потом украшала и мою протопресвитерскую гостиную. А кое-что дали мне из академического склада. Чтобы не быть одиноким, я взял к себе своего бывшего товарища — первенца нашего курса Анатолия Семеновича Судакова, оставленного для специализации при нашей Духовной академии. Когда же он по окончании специализации в 1903 г. ушел от меня, я выписал свою сестру Анну, которая и хозяйничала у меня до начала Русско-японской войны.
Не могу сказать, что в материальном отношении в 1902-1903 гг. мне жилось привольно. Жалованья мне полагалось 75 рублей в месяц; церковные доходы мои были еще слабоваты — 25-30 рублей ежемесячно. А мне приходилось помогать братьям, отцу и не забывать о дочке. Бывали поэтому дни, когда наше питанье ограничивалось обедом из офицерского собрания и вечерним чаем. Но я жил надеждой: моя церковь все больше наполнялась богомольцами, меня начинали приглашать на требы и отдаленные жители: мне начали предлагать уроки по Закону Божию. Первой попросила меня преподавать Закон Божий ее сыну Николаю Екатерина Ивановна Мосолова, незадолго перед тем потерявшая старшего сына, офицера гвардейской конно-артиллерийской бригады. Потом я получил трех учеников Дервиз, мать которых была в замужестве за князем Алексеем Ивановичем Оболенским. Эти две семьи стали самыми верными моими друзьями. К концу 1903 г. мое материальное положение значительно окрепло. Обращавшимся ко мне за исполнением треб особенно нравилось, что я безразлично относился к вознаграждению за требы. На этой почве произошел один забавный случай. Осенью 1903 г. скончался член Военного совета полный генерал Генштаба Михаил Алексеевич Домонтович, живший вблизи моей церкви (Таврическая, 17). Однажды живший у меня на кухне академический служитель Михаил докладывает мне, что меня хочет видеть какая-то дама. Я тотчас пригласил ее в гостиную. Вошла очень кра-
150
сивая, элегантно одетая дама. «В четверг на этой неделе исполняется 40 дней со дня смерти моего отца генерала Домонтовича. Мне хочется, чтобы в этот день в вашей церкви была отслужена панихида в 12 часов дня. Можно ли это?» — обратилась она ко мне. «Конечно, можно», — ответил я. «А сколько это будет стоить?» — спросила дама. «Простите! Я никогда не продавал панихид и потому не могу ответить на ваш вопрос», — сказал я. «Извините! Я неудачно выразилась, — спохватилась дама. — А певчих можно взять?» «Можно и певчих. Но это уже наемники, берут по пятидесяти копеек на каждого человека. Сколько человек пожелаете пригласить?» — спросил я. «Четырех», — ответила она. Дама эта была женою профессора Инженерной академии Коллонтая, а потом до недавнего времени занимала пост советского посланника в Швеции. В назначенный четверг я служил панихиду, по окончании которой она вручила мне золотую десятирублевку. Я потом смеялся, что при продаже панихида дешевле пошла бы.
В том же 1903 г. еще были два случая, о которых нельзя не упомянуть. Почти рядом с академией на Суворовском проспекте стояла приютская церковь во имя святого Мефодия, епископа Патарского, в которой тогда служил совсем молодой, недавно окончивший курс Духовной академии, но очень фанатичный священник. В одном с ним доме (над его квартирой) жил учившийся в академии офицер, финн, протестант, женатый на дочери начальника 14-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Сендецкого — молодой, красивой, многообещавшей музыкантше, тогда бравшей уроки музыки и пения у профессора Ирецкой. В Великую субботу в шестом часу утра я был разбужен резким звонком. Набросив подрясник, поспешил открыть двери. «Батюшка! Неужели и вы отвергнете нас?» — со слезами обратилась ко мне вошедшая пожилая дама, отрекомендовавшаяся женою генерала Сендецкого. Успокоившись, она объяснила мне, что дочь ее умирает, что священник отказался причастить ее, так как она в Великом посту играла на рояле и пела светские песни. Конечно, я поспешил к больной, но застал ее в безнадежном положении. На следующий день она скончалась. Отпевали ее в Суворовской церкви. Не обращая внимания на отвратительную погоду, я провожал тело пешком до Александро-Невской лавры, где похоронили ее.
Другой случай был трагикомичным. Кажется, это случилось в мае, уже во время академических экзаменов. В шестом часу утра меня разбудил резкий и продолжительный звонок. Я выбежал открыть двери. В мою квартиру ввалился высокий грузный офицер Федоренко, всей академии известный и своими большими способностями, и своей не меньшей чудаковатостью. Взбежав на 3-й этаж, он задыхался и с трудом выговаривал слова:
151
«Батюшка! Ради... Бога... скорей! Поедем! Жена... преждевременно... разрешилась... от... бремени... Ребеночек... умирает... Окрестить... надо... Извозчик... ждет... Скорей!» Я быстро оделся, умылся, захватил крещальные принадлежности, и мы вышли из дому, «Скорей! Гони во всю! На чай получишь!» — закричал Федоренко извозчику, как только уселись мы в фаэтон. «Тут недалеко, на 4-й Рождественской живу», —уже спокойно сказал Федоренко мне. Извозчик задергал вожжами, начал кнутом хлестать своих лошадок, те вскачь понеслись. Как только мы поравнялись с ренсковым погребом Шитта на углу Суворовского проспекта и 8-й Рождественской, Федоренко, схватив за плечо извозчика, крикнул: «Стой!» Извозчик остановил лошадей, «Что случилось?» — спросил я. «Шампанского же надо купить», — совершенно спокойно ответил Федоренко, «Какое тут шампанское? — удивился я. — Ребенок помирает, а вам надо шампанское!» «Что помирает, это особое дело. А крестины без шампанского... Это нельзя». — также спокойно сказал Федоренко. «И погреб-то закрыт. Как вы влезете в него?» — пытался я вразумить его. «Откроют! Заставлю открыть! Не то двери выломаю!» — крикнул он и, спустившись к дверям, начал неистово звонить. Минуты через три двери открылись. Федоренко бомбой ввалился в погреб. Прошло еще несколько минут, и из погреба выскочил сияющий, с бутылкой шампанского в руках Федоренко. «Видите! Не хотели открывать... Я бы показал им! Так всегда надо действовать: где не возьмешь лаской, применяй силу. Храбрость города берет», — довольный своим успехом, объяснял он мне и, усевшись в фаэтон, опять закричал извозчику: «Гони же. гони! Не мешкай! Ребеночек умереть может...» Ребенка я застал в ужасном положении. Это была какая-то амеба с некоторым подобием человеческого существа. Он едва дышал. Я поспешил окрестить его и, выпив предложенный бокал шампанского, уехал на том же извозчике. Едучи, тот обратился ко мне: «У нас вот в нашем простом сословии спозаранку водка никак нейдет, ни к чему она. А у вас, видно, завсегда готовы принимать ее. Вона барин в такую рань бутылочку купил. Небось, окрестили младенца, по рюмашке пропустили?» «Что ты. милый! В такую рань пить! Это он в запас купил», — солгал я. «В запас! Ишь ты! Должно быть, богатый», — удивился извозчик. «Не богатый, а тароватый», — поправил я. «Бывает и это, — согласился извозчик. — А видно, добрый барин. Вона мне вместо семи-восьми гривен трояшницу отвалил. Это нашему брату раз в год выпадает. А бывают такие сквалыги — за гривенник готов удавиться...» Часа через два опять влетел ко мне Федоренко, грустный, со слезами на глазах, чтоб сообщить, что наша крестница скончалась. На следующий день я хоронил ее. Федоренко проливал горькие слезы. После похорон поминали: в квартире Федоренко была пред-
152
ложена хорошая закусочка с водочкой, белым и красным кавказским вином, но без шампанского. О, Русь святая! Каких только чудаков не выращивала ты! О Федоренко я потом слышал, что он редактировал военную газету в Вильне.
Моя жизнь протекала планомерно. Я усвоил принцип: учиться и учиться, Я внимательно наблюдал, как служат, как проповедуют лучшие петербургские священники, У меня выработалась манера проповедания: за каждой литургией я обязательно проповедовал: моя проповедь не длилась больше 8-10 минут и всегда была настолько ясна, что дочь моих хороших знакомых Киселенских, Ирина, возвратившись из церкви, почти буквально повторяла ее. Краткость и ясность нравились богомольцам, и я не знаю случая, чтобы от моей проповеди кто-либо ушел из храма. К вознаграждениям за требы я старался относиться как можно безразличнее, чтобы не заразиться духом сребролюбия, убивающим в священнике его духовность. Обо мне уже ходила слава как о бессребренике, хотя настоящим бессребреником никогда я не был. При исполнении треб всеми силами старался, следуя завету апостола, радоваться с радующимися и плакать с плачущими (Рим. 12, 15). Свободные от службы часы проводил в архивах и изредка в Публичной библиотеке. Летние месяцы — с половины июня до половины августа — я посвятил дальнейшим занятиям в витебских архивах. Я уже мечтал, что чрез год с небольшим я смогу закончить свою магистерскую диссертацию, но в конце января 1904 г., после вероломного нападения японцев на наш Порт-Артурский флот, загорелась война, разбившая все мои магистерские планы.
Война объявлена. 27 января в Зимнем дворце в высочайшем присутствии будет торжественный молебен. Пред назначенным для молебна часом весь Петербург пришел в движение: со всех сторон в каретах, в ландо, на извозчиках едут сановники, генералы, офицеры — все в парадных мундирах. Толпы народа со знаменами, с хоругвями тянутся к Зимнему дворцу. У всех настроение повышенное, возбужденное: мол, будут помнить япошки! Мы им покажем! Наша армия живо разгромит их! И тому подобное. Я заразился общим настроением: «Чтоб я оставался в Петербурге — этого не будет! Я молод, силен, умею влиять на других — я буду там полезен», — сразу решил я. В тот же день я отправился к начальнику академии сообщить ему о своем решении, «Чтобы мы вас отпустили на войну — этого не будет! Там и без вас дело будет сделано, а вы тут нам нужны», — решительно сказал генерал Глазов. Я взмолился: «Владимир Гаврилович! Не удерживайте меня! Я священник Суворовской церкви, я молод, вынослив, могу работать, и я буду сидеть тут... Я буду нравственно страдать, буду считать себя не исполнившим своего долга. Отпустите меня!» Мой искренний тон тронул генерала:
153
«Бог с вами! Поезжайте! Только я ставлю одно непременное условие: по окончании войны вы должны возвратиться к нам, — сказал он. — Сомневаюсь, что Александр Алексеевич (протопресвитер) отпустит вас. Сходите-ка к нему!» Поблг1годарив начальника за его доброе отношение ко мне, я решил в следующий день побывать у протопресвитера.
«Что вам там, на войне, делать? Сидите тут и делайте свое дело!» — ответил протопресвитер на мою просьбу назначить меня в действующую армию. Протопресвитер А.А. Желобовский в то время только что достиг 70-летнего возраста, но старость рано одолела его. Он был уже одряхлевшим старцем, интересовавшимся менее делом, чем собственным покоем. Отправляя новоназначенного священника на место, он снабжал его только одним наставлением: «Смотрите, чтоб было все спокойно!» Это означало, что новоназначенный должен на новом месте вести себя так, чтоб никто на него не жаловался протопресвитеру. Теперь переубедить его мне не стоило труда. Через несколько дней я получил ордер о назначении меня в действующую армию на должность священника 33-го Восточно-Сибирского полка и благочинного 9-й Восточно-Сибирской дивизии. Когда перед отъездом на фронт я явился к протопресвитеру за наставлениями касательно предстоявшей мне на войне работы, он мне сказал буквально следующее: «Запаситесь чечунчовым бельем, а то вошь заест!» Я вышел убежденный, что мой высший начальник совершенно не представляет, какая работа может предстоять священнику на поле брани. Мое убеждение потом подтвердилось.
Итак, я должен оставить любимую церковь, милых сослуживцев и отправиться в неизвестную страну, на опасную работу. При других условиях тут неизбежны были бы тяжелые переживания, но я был охвачен патриотическим пылом и спешил отправиться на фронт. Отношение моих знакомых и друзей было различным: одни поздравляли меня, другие завидовали мне, третьи — и их было большинство — уверяли меня, что война кончится раньше, чем я успею доехать туда. Побывав в Витебске, чтобы проститься с дочкой и родными, запасшись походными принадлежностями, то есть кроватью-чемоданом, чечунчовым, согласно совету протопресвитера, бельем и папахой, без которой никто не выезжал в действующую армию, напутствуемый всевозможными благопожеланиями, я выехал в конце февраля в Маньчжурию, не зная точно, где же обретается 33-й Восточно-Сибирский полк: о его местопребывании я должен был узнать в Харбине.
154
VIII. На войне. В должности священника 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинного 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии
Раньше не приходилось мне путешествовать по России. Дальше Петербурга ни на севере, ни на востоке, ни на западе я не бывал. Предстоявшее мне длинное путешествие, независимо от цели, побудившей меня предпринять его, чрезвычайно занимало меня. Особенно интересовала меня Сибирь, ранее бывшая местом ссылок, авантюр и разбоев, а со времени П.А. Столыпина ставшая завидной родиной для множества переселенцев, в числе которых было несколько и моих бывших азарковских прихожан. На вокзале меня провожала толпа моих товарищей, сослуживцев по Академии Генштаба, прихожан Суворовской церкви. Все желали мне скорого и счастливого возвращения. Я, в высокой папахе, с биноклем в кармане и сумкой на ремне через плечо, чувствовал себя сибирским стрелком. Вагоны были переполнены военными в походной форме, в таких же папахах, как и моя. На вокзальной платформе множество провожающих. Вот пробил первый звонок, начинается прощанье. Кое-где слезы, а больше радостных лиц, потому что большинство уверено, что война будет молниеносной; «Долго ли разбить жалких япошек!» Некоторые и из провожающих меня уверены, что я не успею доехать до Харбина, как кончится война. Вот и третий звонок. Раздается кондукторский свисток, и поезд спокойно отходит от Николаевского вокзала. В пути я узнаю, что с этим же поездом следует о. Иоанн Кронштадтский. Я захожу в его купе. Измученный работой целого дня, он довольно безразлично отнесся к моему путешествию. Мне показалось, что он или совсем не сочувствовал начавшейся войне, или не ждал толку от нее. Попросив его не забывать меня в молитвах, я простился с ним.
Мы ехали обыкновенным пассажирским поездом, вагона-ресторана в нашем поезде не было. Но голодать не приходилось: Крутов снабдил меня всевозможными рыбными закусками, почти на всех станциях встречали нас продавцы разных снедей — жареных птиц, мяса, рыбы, белого и ржаного хлеба, молока, масла и прочего. А на всех больших станциях имелись роскошные рестораны, каждый из которых славился каким-либо особым блюдом. Поездка очень развлекала меня: невиданные города, меняющаяся природа, новые знакомства, рассказы и разговоры — все это сокращало продолжительность пути. Вот мы проехали г. Златоуст, где торговцы уральскими камнями настойчиво предлагали свои товары, перевалили через Урал, приблизились к Челябинску, где ожидала нас пересадка на сибирский поезд.
155
В Челябинске нам объявили, что мы выедем только на следующий день. Я с одним из своих спутников отправился в отстоявший километрах в трех от станции город, чтобы провести ночь в гостинице. Не забыть этой ночи: избранная нами гостиница оказалась наполненной злейшими сибирскими клопами, в течение всей ночи беспощадно атаковавшими нас. После такой гостиницы мы почувствовали себя в сибирском вагоне как в раю. Вот мы въехали в сибирскую степь, по которой тянулись верблюжьи караваны, а справа вдали виднелись миражи, раньше никогда не наблюдавшиеся мною. Затем началась тайга, неприветливая и скучная. Рядом с моим купе помещался забавлявший нас своим акцентом и наивностью уже пожилой, лысый подполковник-грузин, направлявшийся в Порт-Артур в артиллерию. В дороге он подружился с каким-то сибирским купцом. Стоя в коридоре, я однажды невольно подслушал их разговор. «Нэ понымаю, — говорил подполковник, — мэня увэряли, что в Сыбири тайга. А гдэ ж тут тайга? 3-й день едем, и все лес и лес». Купцу стоило немалого труда объяснить подполковнику, что этот лес и есть тайга.
В Иркутск я прибыл на десятый день по выезде из Петербурга. Чтоб отдохнуть от беспрерывной тряски и вагонной пыли, я поместился в гостинице и прежде всего отправился в баню. В такой бане я ни раньше, ни после ни разу не мылся: роскошная, с мягкой мебелью, сияющая белизной и чистотой зала для отдыха; уютные, чистенькие кабины для раздеванья; в самой бане пол из метлахской плиты, сиденья из белого мрамора, вода из реки Ангары, прозрачная, как хрустальное стекло, бирюзового цвета; прислуга внимательная и почтительная. Я получил в этой бане незабываемое удовольствие.
На следующий день опять уселся в вагон поезда, шедшего только до озера Байкал. Небольшой, но интересный путь; дорога тянется вдоль реки Ангары, не замерзающей и при самых сильных морозах; птицы огромными стаями кружатся над рекой, покрытой, как вуалью, дымкой испарений. Незаметно пробегает поезд расстояние до Байкала. Вот и он — красавец Байкал, с высокими гористыми берегами, с совершенно прозрачным воздухом. Ширина Байкала — 35-37 километров, а кажется, что рукой подать до другого берега. — мой спутник определил, что «не более трех километров». Через Байкал нас перевозили в санях на небольших, но сытых и быстроногих сибирских лошадках; Круго-Байкальская железная дорога еще не была готова.
На другом берегу Байкала мы опять уселись в вагоны. Теперь моими спутниками оказались чрезвычайно симпатичный, умный, воспитанный и деликатный полковник Генштаба Н.48, армейский полковник Петров, назначенный на должность командира одного из полков (кажется, Моршанского) 35-й пехотной дивизии, и артиллерист подполковник Никитин, будущий ко-
156
мандующий войсками Одесского военного округа, а потом комендант Петропавловской крепости. За беседой дорога прошла незаметно. Мои спутники оказались весьма интересными собеседниками, особенно Никитин, обладавший большим острословием и юмором. Кажется, на 21-й день моего пути мы прибыли в Харбин, где, мило простившись, расстались.
Харбин произвел на меня большое впечатление. Стоит он на берегу широкой, обильной всякой рыбой реки Сунгары. Слева от вокзала, к северу, — русский город, с широким проспектом, множеством европейских домов и русскою церковью. Из зданий выделяется стоящее вблизи вокзала огромное красивое здание Управления Восточно-Китайской железной дороги. На правой стороне от вокзала, к югу — китайский город, с китайскими фанзами, китайскими лавками и китайскою же грязью. Два мира, два совершенно не сходных образа жизни. В Харбине я узнал, что 33-й Восточно-Сибирский полк стоит в г. Инкоу, но каждую минуту он может быть переброшен на другое место. С первым же поездом я двинулся дальше. После 23-дневного пути я прибыл в Инкоу.
Большой торговый город Инкоу расположен в 15-20 километрах от ведущей в Порт-Артур железнодорожной линии, на берегу огромной, доступной и для военных судов реки Ляохэ, в 3 километрах от моря. Этот пункт считался весьма уязвимым, так как японские суда легко по реке Ляохэ могли с десантом проникнуть сюда. Для охраны этого важного пункта была поставлена только что сформированная 9-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия с 9-й же Восточно-Сибирской артиллерийской бригадой.
Путь от главной линии железной дороги до Инкоу я проделал по железнодорожной ветке на открытой платформе с сеном. Было холодновато, но просторно и мягко. Стгшция Инкоу находилась в 2 километрах от города. Около нее поселок с казармами пограничной нашей стражи и церковью. Не успел я слезть с платформы, как ко мне подошли два врача, оказавшиеся докторами 9-й Восточно-Сибирский артиллерийской бригады. Познакомившись со мною и расспросивши меня, кто я и что я, они сразу же предложили мне поселиться с ними, так как их квартира — в районе расположения 33-го полка. Старшего звали Петром Ивановичем Коломийцевым. Младший, Николай Михайлович Шестаков, объяснил мне при этом, что он также из колокольных дворян: его отец — протоиерей, академик, преподаватель Пензенской духовной семинарии. Наняв рикшу, они уложили в экипажец мои вещи, и мы втроем направились в город. Дорогой словоохотливый Шестаков познакомил меня с ожидающей меня обстановкой: 9-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия только что сформирована: полки трехбатальонные: восемь первых рот 33-го полка укомплектованы старыми сибир-
157
скими полками, 9-12-я роты — полками 20-й пехотной дивизии, квартирующей на Кавказе. Офицеры-сибиряки — хороший, товарищеский народ, пьют только много и в карты сильно режутся, к этому приучила их скучная, захолустная сибирская жизнь. Кавказцы тоже народ неплохой, но особого типа. Старший полковой врач Дункель, еврей, выкрест, ни в Бога, ни в черта, ни даже в свою медицину неверующий, глумящийся над медициной — в полку большое зло. Командир полка полковник Генштаба Николай Яковлевич Лисовский — болезненный и раздражительный, но очень серьезный и справедливый человек, из командиров он самый лучший. Начальник дивизии — Киприан Антонович Кондратович — противнейшее существо, трус первостепенный: дымящийся паровоз прицеплен к вагону Кондратовича и всегда под парами, чтоб драпануть при первом выстреле. Командир 9-й артиллерийской бригады генерал Иосиф Иванович Мрозовский — академик, знающий артиллерийское дело, но зверь-человек: командира 1-й батареи болезненного, бесталанного полковника Крузе матерними словами кроет, а тот дрожит при виде генерала, и раз медвежья болезнь случилась с ним. когда ему сообщили, что генерал в батарею приехал. Вот командир 2-й батареи молодой подполковник академик Михаил Григорьевич Пащенко — украшение всей бригады. И так далее. Пока мы дошли до квартиры, Шестаков успел посвятить меня во все тайны дивизионной жизни.
Умывшись и принарядившись, я отправился представиться командиру полка. Полковник Лисовский встретил меня с распростертыми объятиями. «Как хорошо сделали вы. поспешив прибыть в полк! Вы подумайте только: Великий пост на исходе, гарнизон Инкоу до 35 тысяч, и не было ни одного священника! Могли и на Пасху остаться без церковной службы. Это было бы большим несчастьем. Мы же на войне, а на войне без молитвы нельзя оставаться. Теперь же вы порадуете всех нас», — объяснил он мне свою радость. Потом пошли расспросы: как я чувствую себя после длинной дороги, где поместился я, что нового в Академии Генштаба, как поживают его приятели М.В. Алексеев и В.И. Геништа, устраивает ли меня докторская квартира и так далее? Я был очарован его заботливостью, поняв в то же время, что он хорошо осведомлен обо мне и о моей службе в академии. Его удивительно внимательное отношение ко мне не прекращалось во все время моей службы с ним.
От командира полка я отправился к начальнику дивизии, который принял меня в своем убежище-вагоне. Генерал-майор Генштаба Кондратович принял меня ласково и просил с завтрашнего же дня начать совершение богослужений, так как до Пасхи (28 марта) остается немногим более недели, а из 35-тысячного гарнизона еще не говел ни один человек. Может быть, под влия-
158
нием шестаковской ориентации я не проникся почтением к своему новому военному начальнику: кроме его трусости, о которой свидетельствовал денно и нощно дымящийся паровоз, прицепленный к его вагону, на меня неприятное впечатление произвела сквозившая в его разговоре неискренность, осторожность, как бы не сказать лишнего слова, и внешний вид не говорил в его пользу.
Затем началось знакомство с офицерами полка. Люди простые, добрые, открытые, общительные, но на сибиряков сибирская жизнь действительно положила свой оттенок непосредственности и даже, пожалуй, грубости. В первый же день я убедился, что винопитие и картежная игра процветают в полку, причем главным поводырем в картежной игре является врач Дункель, к сожалению, пользующийся благоволением командира полка. Довольно высокого роста, с немножко отвисшей губой и толстым носом, большой краснобай, ловкий рассказчик, крещенный еврей Дункель действительно не веровал ни в Бога, ни в черта и злобно глумился над медициной. Как полковой врач он был ниже нуля. На больных он не обращал внимания, а во время боя при первом выстреле забирался в такую даль от полка, что становился совершенно бесполезным для него. В продолжительные же промежутки между боями он проводил все время в картежной игре, увлекая в нее и офицеров, иногда проигрывавших все свои сбережения. Помню один потрясший меня случай. Командир 6-й роты, скромный и старательный капитан С-й, оставив на месте мирной своей стоянки красавицу молодую жену и маленького ребенка, которых он безумно любил, тщательно копил для них деньги, отказывая себе во всем. Собрано было у него 600 рублей. Дункель убедил его попытать счастье. Капитан попытал счастье и в течение одного часа проиграл все деньги. Его отчаянию не было границ; опасались, что он покончит с собой. Я, конечно, не принимал участия в игре и старался удерживать молодежь, что мне и удавалось. В 1923 г., уже здесь, в Софии, явился ко мне молодой еще офицер, которого я не сразу узнал. Отрекомендовавшись моим бывшим сослуживцем по 33-му Восточно-Сибирскому полку, он объяснил мне, что едет в Сербию, а в Софии остановился специально за тем, чтобы поблагодарить меня за то, что я спас его в полку от возможных великих неприятностей: он тоже был вовлечен Дункелем в картежную игру, начал сильно проигрывать и. несомненно, дошел бы до катастрофы, если бы я не отнял у него все остававшиеся деньги и, кроме того, не пригрозил, что сообщу командиру полка, если он не прекратит участия в игре. К счастью для полка и к несчастью для Дункеля, во время боя под Ляояном в августе 1904 г. Дункель потерпел катастрофу; при первом пушечном выстреле он пустился бежать, попал в волчью яму и так разбился, что его еле живого вытащили оттуда. После этого он превратил-
159
ся в полного инвалида с еще более отвисшей губой, дрожащими руками, едва передвигавшегося, и был эвакуирован в Россию.
Самым интересным и, во всяком случае, самым оригинальным членом полковой семьи был командир 3-й роты капитан Мечислав Петрович Санницкий. Огромного роста, широкоплечий и достаточно упитанный, с открытым лицом и детски чистыми, доверчивыми глазами, со светло-русой бородой и такими же волосами с проседью — ему шел 51-й год — всегда с большой трубкой во рту, небрежно одетый, в высоких сапогах с широченными голенищами, всегда прямолинейный, всем резавший правду-матку, Мечислав Петрович не мог не обращать на себя внимания и производил впечатление человека, у которого нет лукавства. К этому надо прибавить, что, хотя родной его брат был католическим ксендзом, сам Мечислав Петрович был искренне православным человеком, любил церковное богослужение и старался принимать участие в нем, на каждой литургии выступая чтецом Апостола. Офицеры просили меня под держать его кандидатуру в ктиторы полковой походной церкви, что я с радостью исполнил.
В жизни Мечислав Петрович был большим оригиналом. Он не признавал никакого другого стола, кроме солдатского. В его правом голенище был целый склад: ложка, нож и вилка, бутылка с чистым спиртом в 95°, трубка и кисет с махоркой. Водки он не пил, но спиртом часто пользовался: вытащит из голенища бутылку, глотнет спирту и опять отправит бутылку в голенище. Закуска к спирту не требовалась. Голос у него был громовой. В обращении со всеми Мечислав Петрович был прост, приветлив, ласков, но лжи не терпел и лжеца нещадно обличал. В полку офицеры называли его Дедом и любили его. В бою Мечислав Петрович бывал совершенно спокоен, как будто был он застрахован от пуль и бомб: при преодолении препятствий смел и находчив. Летом 1904 г. после проливных дождей, превращающих маньчжурские ручейки в глубокие и бурные реки, рота Санницкого подошла к одной из таких рек и остановилась в недоумении, как перейти ее. Бывший в хвосте роты Мечислав Петрович крикнул: «Что случилось? Почему остановились?» Младший офицер объяснил, что рота подошла к бурной реке и не знает, как перейти ее. «Чудаки! Еще солдаты, а не знают, как надо переходить реки! Вот как надо!» И не раздевшись, в своих широких сапогах спустился в реку, крикнув: «За мной ребята!» Конечно, все устремились за ним и благополучно переправились через реку, а яркое маньчжурское солнышко скоро обсушило их.
Из других офицеров выделялся полковой адъютант поручик Петр Иванович Буркин, на редкость трудолюбивый, аккуратный, толковый, доброжелательный и в то же время храбрый. Непоказ-
160
ною большой храбростью отличался чрезвычайно скромный и застенчивый, деликатный и обходительный кавказец Арсений Микаберидзе. Во время боя я любовался его спокойствием и толковою распорядительностью. К солдатам он относился с любовью и вниманием к их нуждам.
Вообще же о семье 33-го полка надо сказать, что хотя она составилась недавно из людей, до того времени незнакомых друг с другом, принадлежавших к разным иным семьям, однако в ней сразу сгладились различия отдельных ее членов и установилась духовно-родственная связь между ними. Этому, несомненно, способствовало и то. что умный и авторитетный глава, командир полка, сразу стал действительным отцом полковой семьи, около которого все прочие доверчиво сплотились, как дети.
На другой день по приезде я начал совершение богослужений. В приказах по полкам было объявлено, что богослужения в церкви пограничной стражи будут совершаться ежедневно, по вечерам и по утрам будет производиться исповедь. Во все следующие дни у меня перебывало множество исповедников, не менее трех тысяч в каждый день. Война, неизвестность будущего, отдаленность от родных семей, близость смерти делали человека мистиком, влекли его в церковь, побуждали очистить свою душу. Сначала я пытался каждого отдельно исповедовать. Но скоро убедился, что для этого не хватит у меня ни времени, ни сил, что это — проще сказать — совершенно невозможно. И я объявил, что буду производить общую исповедь и только крайне нуждающиеся пусть подходят ко мне для отдельной исповеди. Все же многие офицеры и некоторые нижние чины поодиночке исповедовались.
Тут не могу не упомянуть об одном, так сказать, исповедном случае. Кажется, в Великий четверг, совпавший тогда с праздником Благовещения, ко мне один за другим подошли два офицера — родные братья Ковалевские, артиллеристы. Оба честно заявили мне, что они католики, но веруют в благодатную силу таинств Православной Церкви и, будучи религиозными людьми, не могут в такую пору остаться без Святого Причастия. Я был решительным противником того, чтобы в подобных случаях употреблять некоторое насилие над совестью обращающихся к священнику, то есть требовать от них, чтобы они сначала присоединились к Православной Церкви, а потом уже причащались. Я исповедовал их и причастил. Во время обеда офицеры нашего полка говорят мне: «А знаете вы, что сегодня у вас исповедовавшиеся и причащавшиеся братья Ковалевские — католики?» «И слава Богу! — ответил я. — Значит, они признают благодатную силу в нашей Церкви. А я вполне понимаю их: религиозному человеку в это время было бы очень тяжело не очистить свою совесть и Святым Причастием не укрепить свою
161
душу, я радуюсь за них». «И они очень рады и вам благодарны. Идучи в церковь, они опасались, что вы откажете им», — сказал один из офицеров. «Христос никому не отказывал. Как же я мог отказать им?» — ответил я. Этот случай еще более поднял мой авторитет в глазах офицеров, а братьев Ковалевских сделал самыми преданными мне друзьями.
Богослужения Страстной недели проходили по установленному чину. В гарнизоне оказалось много опытных певцов, составился сильный хор, усердно занявшийся разучиванием великопостных и пасхальных богослужений. Наши богослужения и в мирное время производили бы большое впечатление, а в военное время, в совершенно чужой стране, в ожидании смертных боев они спасительно действовали на маловерующих и даже на неверующих. Впрочем, последней категории людей мне не пришлось встречать на Русско-японской войне.
Пасха в том году была ранняя — 28 марта. Природа Маньчжурии совсем не похожа на русскую. В России весна — очаровательнейшее время: всюду журчат ручейки, радостно щебечут птички, на деревьях набухают почки, земля покрывается зеленью и ранними цветочками: на Пасху чувствуется радость не только людей, но и природы. В Маньчжурии весна — скучнейшее время: ни зелени, ни цветов, ни пения птичек, а только грязь непролазная да одуряющее кваканье маньчжурских лягушек, обладающих чрезвычайно сильными и отвратительными голосами. И окорока пасхального, если он не привезен из России, в Маньчжурии не найдешь. Есть там местная ветчина, но вонючая, отвратительная. потому что китайские свиньи питаются всякою дрянью, не исключая и трупов человеческих, оставляемых китайцами на некоторое время в стороне от селений, на открытом поле. Вообще, маньчжурская природа удивительная: урожайность там беспримерная, и специально занимавшийся исследованием маньчжурской урожайности полковник Н.Я. Лисовский уверял меня, что известное растение хлебное — чумиза — дает там 75 тысяч, а Лисовский никогда не лгал и не болтал необдуманно. Фрукты — яблоки и груши — там колоссальных размеров. тоже огурцы и другие овощи. Но птицы там не поют, фрукты лишены аромата, роскошные цветы, не исключая и пышных роз, не пахнут, только люди там отвратительно воняют, по всей вероятности, от безмерного количества потребляемого ими чеснока, растущего в изобилии даже в диком состоянии — на полях, на горках. Природа маньчжурская оживает только после первых проливных дождей в начале мая. Тогда в два дня она становится неузнаваемой красавицей.
Накануне светлого дня распространились в Инкоу слухи, что японцы в Пасхальную ночь нападут на нас. Было отменено богослужение в церкви и назначено в большом, более церк-
162
ви поместительном здании городской таможни. Солдаты будут стоять на богослужении с ружьями, чтобы быть готовыми к отражению врага. Меня командир полка просил ранее службы в городе отслужить за городом — на берегу реки, где были поставлены для отражения неприятеля 1-й батальон нашего полка и две артиллерийские батареи. От города до этого пункта, находившегося почти у самого моря, было около 2,5 километра.
В великую субботу в 9.30 вечера я выехал на двуколке, чтобы отслужить там Пасхальную утреню. Грязь и темень. Но дорога набитая, и мой возница скоро доставил меня к месту назначения. Батальон и батареи уже были выстроены. Я начал богослужение. Пел небольшой хорик, в котором особенно выделялся высокий, музыкальный, чрезвычайно приятный голос. Совершая каждение, я заметил, что это пел стоявший на правом фланге белокурый, довольно высокий и плотный, с интеллигентным лицом солдат. «Вот, — подумал я, — кого мне взять в церковники». По окончании богослужения и освящении пасхального стола я спросил командира батальона подполковника Лавровского, кто такой этот солдат, обладающий таким чудным голосом. «Это известный оперный артист, фамилия его Болбот», — ответил Лавровский. «Ради Пасхального дня подарите мне его... в церковники» — «Сделайте одолжение. С удовольствием уступлю вам его. Только имейте в виду, что он пропьет ризы ваши. Неисправимый пьяница. Буркин (адъютант) расскажет вам про него чудеса — оба они служили в 1-м Восточно-Сибирском стрелковом полку», — сказал Лавровский. «Хоть у меня единственное облачение, но я и им готов пожертвовать, лишь бы иметь такого голосистого церковника», — улыбаясь ответил я. Простившись после христосования со своими богомольцами, я отправился в обратный путь.
Темень как будто еще больше усилилась. Возница мой ехал наугад. Подъезжая к городу, мы вдруг опрокинулись в канаву, тянувшуюся вдоль дороги. Мы-то с возницей выкарабкались, а все наши усилия вытащить из канавы нашу двуколку не имели успеха. Между тем часы мои показывали 11, чрез полчаса надо было в городе начинать службу. Я оставил экипаж свой и возницу и один бросился продолжать путь. До таможни же, где должна была происходить служба, которая находилась на другом конце города, было больше километра неизвестного мне пути, так как я не успел еще ознакомиться с городом. На пути ни одного человека, только в разных местах лают собаки да раздаются резкие звуки трещоток, которыми китайские ночные сторожа пугают воров и грабителей. «А вдруг я заблужусь, опоздаю к богослужению, где тысячи ждут меня», — такие мысли не давали мне покою. Но, слава Богу, я вышел на берег реки, по которому бродят расставленные сторожевые. Им приказано окрикивать каждую показавшуюся на реке
163
джонку и, в случае неответа, обстреливать ее. Я знаю направление и смело иду вперед. Вот и таможня. 11 часов 40 минут ночи. Там уже беспокоятся, с нетерпением поджидая меня. Таможня переполнена богомольцами — солдатами, офицерами, есть и штатские. Солдаты стоят с ружьями, офицеры в походной форме. Без 5 минут 12 я начинаю службу. Необычная обстановка создает повышенное настроение: многим при этом вспоминаются родные семьи, родные церкви, родная пасхальная обстановка. Молятся усердно, у иных на глазах блестят слезы. Присутствует все начальство: начальник дивизии генерал Мрозовский со своим штабом, командиры бригад и полков, русский консул в Инкоу. Благодаря отличному пению служба проходит торжественно и внушительно. После службы разговенье в полковой столовой. Все идет по русской традиции, ободряющей русские души.
Между тем в то самое время, когда мы славили Воскресшего и праздновали Его воскресение, на реке произошел случай, невероятно взволновавший начальника дивизии. Сторожевой солдат заметил, что от противоположного берега к нашему направляется джонка. Он окрикнул, — ответа не последовало, а джонка продолжала плыть. Окрикнул во второй и в третий раз — тот же результат, джонка продолжала приближаться к нашему берегу. Тогда солдат начал стрелять. Джонка и тогда не изменила направления, пока не причалила к нашему берегу. Оказалось, плыли четыре мирных китайца. Трое из них меткими выстрелами солдата были убиты, четвертый уцелел и привел джонку к берегу. Генерал Кондратович обезумел от страху. «Это ужас! — кричал он. — Убить мирных жителей!.. Теперь неминуемо осложнение с Китаем... Китай может объявить нам войну!» И так далее. «Никак нет, — возразил стоявший тут пожилой вахмистр пограничной стражи. — Так что. Ваше Превосходительство, прикажите выдать им рублев по 50 за душу, и будут очинно благодарны». Кондратович возмутился: «Душу человеческую оценивать в 50 рублей! Китайское правительство сочтет это за новое оскорбление». Все же совет вахмистра был исполнен: родственникам убитых было выдано по 50 рублей за человека, и это совершенно утешило их. Они даже принялись успокаивать вознаграждавшего их офицера: «Это ничего, что убиты. Китайцев много, много».
После Пасхи жизнь потекла своим порядком: 1-й батальон стоял в укреплении на берегу р. Ляохэ, остальные батальоны — в городе: офицеры по утрам занимались с солдатами, по вечерам выпивали, играли в карты, бродили по злачным местам — в последнем грехе даже Дед наш однажды попался. Мы с доктором Шестаковым отделились от своих сожителей — доктора Коломийцева и ветеринарного врача Соколова, первый из которых страдал от разливавшейся желчи, а второй все время молчал и
164
улыбался, что приводило в неистовство Коломийцева. Все рвались к военным действиям и роптали, что 3-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия уже дерется с японцами, а мы прозябаем в этом вонючем Инкоу; что без нас могут и закончить войну. «А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой» — вечная истина.
После Пасхи я как благочинный дивизии сделал визиты командирам полков. Потом я ближе узнал их. Командир 34-го полка. кавказец, полковник Мусхелов, очень храбрый, но преступно расходовавший человеческий материал своего полка, не производил впечатления очень умного человека. Командир 35-го полка, полковник Довбор-Мусницкий, военный юрист, почему-то перешедший на строевую службу, был разумным и любимым в полку командиром. Командир 365-го полка, полковник Генштаба Бачинский, также был умным, но очень нервным, желчным человеком и немалым женолюбом: в России у него оставалась жена с детьми, а в походе и днем и ночью сопутствовала ему сестра милосердия Сусанна Ивановна, ставшая известной всей дивизии. В полку для нее содержался особый экипаж.
Вскоре начали прибывать священники. Приехал священник Павел Крахмалев, с 1900 г. служивший в Военно-духовном ведомстве, молодой (28 лет), энергичный, способный, исполнительный, но формалист, буквоед, что понижало его цену. Прибыл священник Арсений Молотков, кажется, из Орловской епархии, уже пожилой, маленького росту, лысый, невзрачный, с постоянно слезящимися глазами, скоро проявивший большую склонность к винопитию, малопригодный к службе в полку. Я скоро убедил его возвратиться в родную епархию. Госпитальный священник Попов приехал из Иркутска, запасшись только епитрахилью, требником и дарохранительницей. На мой вопрос, почему он не привез других богослужебных принадлежностей, необходимых для совершения полного богослужения: антиминса, сосудов, полного священнического облачения, он ответил, что по высочайше утвержденному положению эти вещи для госпитального священника не требуются, так как его работа в госпитале ограничивается причащением больных и погребениями умерших. Я приказал ему немедленно отправиться в Иркутск и вернуться с указанными мною богослужебными принадлежностями. Священник Попов по-своему был прав: высочайше утвержденное положение действительно ограничивало снаряжение госпитального священника минимумом церковных принадлежностей — епитрахилью, дарохранительницею и требником, но я смотрел так на дело: мы не обязаны рабски следовать этому положению, но должны дополнять его, если потребуется состоянием дела. Едва ли мудрый законодатель осудил бы за это нарушителя.
165
Недели через три после Пасхи я был вызван телеграммой главного священника армии немедленно прибыть в Ляоян, где тогда помещалась Ставка. Главным священником был протоиерей Сергий Алексеевич Голубев, питомец Санкт-Петербургской духовной академии выпуска 1885 г., пред войной занимавший должность священника лейб-гвардейского Саперного батальона и председателя духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства. В Петербурге я часто бывал у него. Протоиерей Голубев был знаменит тем, что имел красавицу жену Софью Васильевну, милейшую и обаятельнейшую женщину. Сам он был добрым, приятным человеком, веселым собеседником, дружным компаньоном. Его начальнической манеры я не разделял: везде и во всем он старался производить впечатление, бил на эффект, а с новым для него делом не старался знакомиться, понять его и, решаюсь сказать, так и не понял его. Теперь он меня грозно встретил: «В монастырь ты захотел? Католиков исповедуешь и причащаешь! Придется сообщить протопресвитеру. Не поздоровится тебе». «Да, я исповедал и причастил двух братьев-католиков. Если ты считаешь это великим преступлением, если и высшая власть окажется солидарною с тобой и посадит меня в монастырь, то я без скорби отбуду наказание. Но предупреждаю тебя, что и в будущее время я буду исповедовать и причащать католиков, если они будут обращаться ко мне. Не могу я отказать в желании очистить свою совесть человеку, который сегодня же или завтра может быть убит», — ответил я. «Ох, молодец, влетит тебе когда-либо!» — только и сказал мне Голубев. «А вот другое, — перешел он к другому вопросу, — ты что же это, высочайше утвержденное Положение задумал изменять? От госпитальных священников требуешь, чтоб они имели и антиминсы, и сосуды, и прочее». «Требовал и буду требовать, — ответил я. — Составители положения не понимали обстановки военного времени, не понимали того, что именно в госпиталях можно во всякое время беспрепятственно совершать литургии, в которых в особенности нуждаются больные. Священник, только причащающий и погребающий, не укладывается в моем сознании. Если ты считаешь, что положение обязывает нас рабски следовать ему, то ты должен просить протопресвитера, чтобы это положение было немедленно дополнено». «Новатор ты у меня!» — сказал Голубев. Этот разговор, однако, не изменил наших добрых отношений.
В конце апреля новая оказия случилась со мной. Ко мне явился уже пожилой, лет 45, прапорщик Гербель, родной брат харьковского губернатора. Его просьба заключалась в следующем: офицер Приморского драгунского полка Стенбок-Фермор, петербуржец. давно уж сожительствует с женою одного моряка, Ножиковой. Теперь Морским штабом официально сообщено, что
166
Ножиков погиб в Порт-Артуре. Сам Стенбок в действующей армии и также может погибнуть. Госпожа Ножикова только что прибыла сюда, и они хотят узаконить свою связь. Все нужные документы у них имеются, кроме одного — разрешения командира полка, но оно будет представлено самое большее через неделю, как только Стенбок вернется в полк. Командир полка полковник Воронов, конечно, ему в разрешении не откажет. Стенбок дает честное слово, что документ будет представлен. Они обратились бы к другому священнику, но ближе Ляояна и Порт-Артура священника не найти, а ни в Ляоян, ни в Порт-Артур находящийся в ответственной командировке Стенбок не может поехать. Моя привычка никому не отказывать в просьбе и каждому, обращающемуся ко мне, помогать заставила меня согласиться на просьбу. В тот же день вечером они были обвенчаны. По совершении таинства тот же Гербель вручил мне конверт. Я настаивал на отказе, но Гербель сказал; «И не думайте отказываться! Для Стенбока это такая мелочь, что о ней и говорить не стоит». Придя домой, я вскрыл конверт. В нем оказалось 4500 рублей. Тут у меня сердце екнуло: за чистые дела таких денег не платят. На другой день я отправил эти деньги В.П. Крутову, чтобы он употребил их на нужды церкви.
В этот же день я был вызван генералом Кондратовичем. «Какое право имели вы повенчать Стенбок-Фермора без моего разрешения?» — грозно встретил он меня. «Я, Ваше Превосходительство, три года при двух начальниках служил в академии, и ни один из них не требовал от меня, чтобы я от него испрашивал благословение на совершение требы», — ответил я. «Вы не исполняете своего долга и за это ответите», — продолжил генерал. «Свой долг я исполняю и исполню его до конца, никакой опасности не испугаюсь и с поля сражения не убегу, в этом можете быть уверены», — сказал я. На этом мы расстались.
От Кондратовича я отправился к командиру полка и передал ему свой разговор с начальником дивизии. «Плюньте вы на эту с...чь, — сказал полковник Лисовский, с презрением относившийся к Кондратовичу. — Он всю жизнь свою подлизывался и на этом выслуживался. Очевидно, он узнал, что этот брак Петербургу неприятен. Вот и взъелся на вас. Приедет командующий армией, обласкает вас, и Кондратович станет увиваться около вас. Не обращайте никакого внимания!» Слова Лисовского потом совершенно оправдались. Однако большие неприятности могли бы ожидать меня, если бы я оставил у себя деньги. Дело в том, что этот брак был крайне неприятен для министра двора графа Воронцова-Дашкова, бывшего опекуном Стенбока. Через два-три месяца я давал объяснения на запрос протопресвитера по этому делу.
В конце апреля мне было поручено произвести дознание о поведении священника 1-го Восточно-Сибирского стрелкового
167
полка и благочинного 1-й Восточно-Сибирской дивизии Иоанна Рублевского, обвинявшегося в неблагоповедении. О. Рублевский был моим одногодком. По душе он был добр, но слабохарактерен и податлив. Полк же, в котором он служил, отличался большой храбростью, но и широкой жизнью. О. Рублевский не сумел занять в полку соответствовавшее его сану положение.
Надо сказать, что от полкового священника, дабы вполне отвечал он своему назначению, требовалось много и мудрости змеиной, и чистоты голубиной (Мф. 10, 16). Его паства состояла из двух категорий людей — офицеров и нижних чинов. Трудной была первая категория: тут священнику приходилось двоиться, так как он должен был быть для офицеров и товарищем, и духовным отцом, должен был снискать себе в этой части своей паствы и товарищескую любовь, и духовно-сыновнее почтение. Для этого священнику надо было прежде всего сразу же, как следует, поставить себя: не чуждаясь офицерского общества, всецело деля с офицерами и радости, и скорби полковой жизни, участвуя в добрых офицерских развлечениях, он должен был решительно отстраняться от всего, что так или иначе могло уронить его сан, подорвать уважение к нему как к духовному отцу, как к полковой совести. О. Рублевский, не слишком умный, податливый, увлекающийся, перевыполнил первую часть военно-иерейской программы, не сохранив должной границы между дозволенным и недозволенным. В обращении с нижними чинами священник должен был избегать и тени какого-либо начальствования, должен быть для них и духовным отцом, и добрым другом. С этой стороны обвинение не касалось о. Рублевского.
30 апреля я выехал, чтоб произвести дознание. По полученным сведениям, 1-й Восточно-Сибирский полк стоял или на станции, или около станции Ташичао. На вокзале я узнал страшную новость о гибели адмирала Макарова. Новость обсуждалась бурно и тревожно: в глазах всех адмирал Макаров был величиной огромного масштаба. На него возлагались большие надежды. На ст. Ташичао я прибыл вечером. Никто не мог точно указать мне, где же стоит нужный мне полк. Случайно встретившийся капитан Генштаба Довбор-Мусницкий (выпуск 1902 г.) объяснил мне, что полк стоит в 5 километрах, что сейчас пускаться мне на розыски его очень опасно, так как в окрестностях Ташичао бродит много хунгузов, и что мне необходимо заночевать в Ташичао. Где мне переночевать, Довборг-Мусницкий не смог указать мне. Пришлось разыскивать ночлежное место. Какой-то железнодорожный служащий посоветовал мне переночевать в помещении для проезжих машинистов и кондукторов, в котором последние ночуют после смены бригад. Я отправился в указанное помещение. Огромнейшая комната была уставлена кроватями. Грязь в помещении была ужасающая, наволочки и простыни были от сажи
168
совершенно черными. Жутко было ложиться в такую постель, но я. не раздевшись, лег. Не забыть мне этой ужасной ночи. Приходилось мне испытывать ужас обстрелов ураганным огнем, бомбардировок, но ужас этой ночи своей отвратительной жуткостью превзошел все те ужасы. Только я, потушив огонь, лег в постель, как почувствовал, что все мое тело покрывается насекомыми, набросившимися на меня, как на лакомое блюдо. Я терпел, думая, что смогу уснуть и подкреплю свои силы для следующего дня. Но сон не приходил, и я, встав с постели, до рассвета просидел около окна, вылавливая своих врагов, успевших засесть во всех складках моей одежды. Ранним утром я выехал на розыски полка.
Рублевский произвел на меня впечатление неглупого, доброго, не потерянного, но свихнувшегося человека, возбуждающего не гнев, а жалость. Мне стало искренно жаль его, и я из следователя обратился в его адвоката: прочитал ему полученную мною бумагу, посоветовал, как ответить на обвинительные пункты, дал ему дружеские указания относительно дальнейшей службы. О. Рублевский счастливо вышел из положения.
Раньше я упомянул, что р. Ляохэ была доступна и для военных судов. Во время нашего пребывания в Инкоу на этой реке между городом и поселком стояла укрывшаяся от японцев русская канонерская лодка «Сивуч» — старая калоша с устаревшим командиром капитаном 2-го ранга Стратоновичем, обрюзглым и апатичным, не пользовавшимся у офицеров ни любовью, ни уважением. В один из дней Страстной недели я на этой лодке совершил богослужение, а говели и офицеры, и солдаты в церкви. Тогда я впервые познакомился с морской средой.
Наконец, настал давно, с нетерпением ожидаемый час: нашему полку приказано двинуться на юг. Ликованье было общее. Только на войне бывает, что люди радуются грядущим опасностям и ужасам. У меня теперь было два верных помощника: церковник Болбот и вестовой — стрелок, уроженец Тобольской губернии, симпатичный, кроткий, как дитя чистый, уже успевший привязаться ко мне и заботившийся обо мне, как только мать может заботиться о своем ребенке. Болбот тоже оказался очень преданным и благодарным человеком. Благодаря их попечению мне не пришлось заботиться об укладке собственного и церковного имущества. Передвижение меня занимало: как сумею я пользоваться верховою лошадью-маньчжуркой?
На следующий день мы заняли позицию — небольшое возвышение вблизи от моря. Скоро раздались с японской стороны выстрелы, начался обстрел нашей позиции. Несколько пуль прожужжало около меня. Меня занимало это. Сидевший же около меня командир 10-й роты капитан К. сразу побледнел, затрясся. Жутко было смотреть на этого высокого, красивого, самого элегантного и самого воспитанного в полку офицера, уже достигше-
169
го 40-летнего возраста, в мирное время считавшегося лучшим в полку офицером и теперь оказавшегося совершенно негодным для военного времени. Потом мне пришлось очень часто наблюдать подобное явление в отношении всех рангов офицерского чина, как приходилось наблюдать и явления обратного порядка, когда находившиеся в загоне в мирное время, как, например, кавказский генерал Пржевальский, оказывались великими героями на войне. В мирное время у нас требовались: бравый вид, выпяченная грудь, пародированье, нередко — втиранье очков. Во время войны требуются: сообразительность и находчивость, распорядительность и точность, храбрость и жертвенность. Кстати о храбрости. У нас говорили: он храбрый, не боится смерти. За всю свою жизнь я не видел здорового, сильного, не изможденного годами и жизнью человека, который не боялся бы смерти. Страх смерти присущ решительно всем, только по-разному люди могут относиться к нему: одни борются с ним, подавляют его, другие поддаются ему. Первых называют храбрыми. Храбрость, таким образом, не есть какое-то однородное чувство души человеческой, она — синтез ряда настроений, переживаний, состояний, крепких нервов и благородства души, страха насмешек и бесславия, в других случаях — порыва к достижению честолюбия и славолюбия. В разгаре боя храбрость проявляется инстинктивно — тогда люди действуют как опьяненные общим увлечением, как маньяки, для которых и море по колено. Меня считали храбрым, некоторые офицеры завидовали моему спокойствию во время боя. Я в сопровождении своего верного сотрудника Болбота шел под огнем причащать раненых, однажды под ураганным артиллерийским огнем хоронил убитого, во время боя обходил окопы, дальше передового перевязочного пункта никогда не уходил от полка, но все это давалось мне не без некоторого напряжения, не без принуждения себя, не без напоминания себе, что я должен подавать пример, а не служить соблазном, что лучше погибнуть, чем уподобиться Дункелю, и так далее.
Скоро перестрелка кончилась. Японцы удалились. Оставив позицию, полк ушел к станции и разместился на огромной пред станционным зданием площади. Из этого первого «боя» полк вышел благополучно: не было ни одного раненого, только уязвленный страхом смертным капитан К. выбыл из полка. Это было 17-18 мая.
Наше мирное житие продолжалось недолго. В конце мая наш 1-й Восточно-Сибирский стрелковый корпус получил приказание немедленно двинуться на юг, к ст. Вафангоу, для отражения наступавшего неприятеля.
Теперь уже мы на настоящей позиции, в ожидании серьезного боя. Наш передовой перевязочный пункт расположился на северном склоне огромнейшей, к югу отвесной скалы, с вершины
170
которой как на ладони было видно все боевое поле. Вот загремели пушки, полетели снаряды, посыпались пули. Наша артиллерия еще не признавала стрельбы по закрытым целям, наши батареи расположились на виду у японцев, а те уже постигли выгоду закрытой стрельбы. 4-я батарея 1-й Восточно-Сибирской артиллерийско-стрелковой бригады расположилась на небольшом возвышении на левом фланге позиции нашего корпуса. С вершины нашей скалы мы простым глазом различаем и людей, и коней, и орудия ее. Вот японцы обрушились на нее. В каких-либо пять минут батарея была сметена, не осталось ни людей, ни лошадей, валялись лишь обломки орудий. Спаслось менее 10 человек. Страшная картина! Вот и на наш пункт начали прибывать раненые. Я помогаю перевязывать раны, стонущих утешаю. Мой Миронов поит их горячим чаем. Дункель бездействует, забравшись в совсем неуязвимое место. Всем распоряжается на пункте энергичный, неутомимый, бесстрашный младший врач полка Александр Аполлонович Охотников, Вологжанин, с маленькой выцветшей бородкой, низенький и худенький, с кривыми ножками. В первом же бою я проникся большим уважением к нему. Ему помогает другой младший врач полка, Пемуров, спокойный, но не столь энергичный.
Невдалеке от нас расположился санитарный отрядец Павла Владимировича Родзянко. Кажется, он состоял всего из десяти повозок. И по моим личным наблюдениям, и по отзывам многих других, мало пользы было от этого отряда, а кутеж там шел постоянный: каждый вечер лилось там шампанское, раздавались песни. Хор нашего полка часто выступал там, получая за свои выступления щедрое вознаграждение. Не знаю, верно ли это, но тогда настойчиво утверждали, что за войну Родзянко израсходовал на свой отряд до двух миллионов рублей.
Бой под Вафангоу окончился неудачно для нас. Отступали мы ночью под страшным проливным дождем. Ручьи текли с нас. Не оставалось ни одной сухой нитки. Кто не был под маньчжурским дождем, тот не может представить его. После двух-трех дней такого дождя высохшие речушки превращаются в бурные реки, дороги становятся непроходимыми, а природа воскресает. Я ехал верхом, а затем, чтоб отогнать сон, пошел пешком. На привале в одной деревне я улегся под телегой в луже и тотчас уснул. Миронов разбудил меня. Подойдя к станции, мы вместо площади увидели озеро, посреди которого гремела река, когда до дождя тут была только неглубокая канава. Солдаты начали перепрыгивать ее. Двое поскользнулись и были унесены водою, спасти их не удалось.
«Не мытьем, так катаньем». Не сумев победить японцев в открытом бою, у нас решили донимать их ночными нападениями. И наш полк не раз высылал небольшие отряды для таких нападений. После одного из них, не вполне удавшегося, ко мне пришел
171
командир 2-го батальона нашего полка подполковник Агапов, удрученный поведением нескольких солдат, участвовавших в нападении и попрятавшихся в гаоляне. Агапов просил меня обратить на этот факт внимание. В тот же день я отправился в батальон. именно в ту роту, которая участвовала в нападении. Как доверчивые дети, солдаты рассказали мне о всем происшедшем во время нападения, назвав и имена спрятавшихся в гаоляне. Я разъяснил, что этакое поведение одних подвергает большей опасности других, является изменой долгу, присяге, позорит струсивших. Ночные нападения и после этого продолжались, но уже ни один солдат не прятался в гаоляне.
11 июля наш полк участвовал в бою у Ташичао. День выпал неимоверно жаркий. Пока полк добрался до позиции — а она отстояла от стоянки полка всего в 6 километрах. — растерялась половина солдат, как снопы падавших от нестерпимой жары, хотя было раннее утро. Уже потом они помаленьку собрались на позиции.
До начала боя я успел посетить на позиции 1-ю батарею 9-й Восточно-Сибирской бригады. Офицеры радостно встретили меня. Раздались голоса: «Батюшка, батюшка пришел! Значит, у нас успех будет». Когда, побеседовав с ними и с солдатами, я уходил с батареи, получено было приказание, чтобы батарея заняла другую позицию. Едва успела батарея сняться, как ее прежняя позиция была засыпана японскими снарядами.
Наш перевязочный пункт расположился у самой линии боя. но под закрытием большой горы. Справа тянулась большая равнина. на которой кипел артиллерийский бой. Вот показались четыре санитара, несшие чье-то тело. Увидев издали меня, они закричали, что надо похоронить убитого. Как будто не следовало из-за обряда рисковать и своею, и Болбота жизнью, но и отказать нельзя было — что сказали бы солдаты! Мы с Болботом поспешили и под градом снарядов, чудом не поразивших нас, совершили не спеша погребение. Надо сознаться: страшновато было! А потом приятно было, что выполнен долг. Офицеры после упрекали меня за ненужный риск, а на солдат мой поступок произвел большое впечатление.
После боя под Ташичао настало затишье, продолжавшееся до половины августа, когда полку было приказано занять Ляоянские позиции.
16 августа наш полк занял центр Ляоянской позиции, а 17-го вступил в бой. Окопы полка находились впереди китайской деревни, за деревней врачи Охотников и Пемуров устроили перевязочный пункт, от которого до окопов было не более километра. Дункель забрался в какое-то, как ему казалось, недосягаемое место. Случайно залетевший туда японский снаряд обратил Дункеля в бегство, трагически закончившееся. Пред началом боя я
172
обходил окопы, беседуя с солдатами. Командир полка не оставил неосмотренным ни одного полкового окопа. Обходя, давал указания. требовал исправлений. Продолжал он обходить окопы и после того, как загремели орудия, полетели над нашими головами японские снаряды и пули. Увидев, что подпоручик Хомяк49, стоя во весь рост на окопе, командует: «Рота, пли!», командир строго приказал ему без нужды не подвергать себя опасности. Попало и мне. Увидев, что и я расхаживаю около окопа, командир строго крикнул: «Батюшка! Спуститесь в окоп! Берегите себя!» Пришлось исполнить приказание. Но недолго я оставался в окопе. С первым же раненым я отправился на перевязочный пункт.
Доктор Охотников чрезвычайно счастливо выбрал место для перевязочного пункта. Вблизи лежала ведущая в Ляоян дорога. Скоро наш пункт переполнился больными, не только нашего полка и других полков нашей дивизии, но и другого корпуса. Работа кипела на пункте. Всем хватало дела. Я исповедовал и причащал одних, утешал других, помогал перевязывать третьих. Мой Миронов не переставал кипятить чай и им угощать больных, Болбот тоже не бездействовал. Врачи выбивались из сил, оказывая разнообразную помощь раненым. Более сотни раненых, санитары, санитарные повозки — наш пункт представлял слишком заметную для японцев цель. А к полудню они успели обойти правый фланг нашей армии, после чего наш пункт стал им отчетливо виден. Полетели японские снаряды. Один из них упал шагах в 5-6 передо мной, когда я стоял на коленях около тяжело раненного офицера50 и причащал его. Стой я во весь рост, я был бы убит, а так отделался контузией в правую сторону головы и небольшим решением в колено. Врачи хотели отправить меня в тыл, но я остался на пункте и продолжал исполнять свои обязанности, хотя и плохо чувствовал себя: меня мутило, болела голова, отшибло память. Неверующие скажут: господин случай выручил из беды; верующие будут убеждены, что Бог спас от смерти. После того как в расположении нашего пункта упало несколько снарядов, нам пришлось переместиться в другое место.
Ляоянский бой, как известно, кончился не в нашу пользу по безволию, как утверждали, генерала Куропаткина, не настоявшего на продолжении сопротивления, когда все шансы на успех были на нашей стороне и японцы уже собирались отступать. Для нашего полка приказание отступить явилось полной неожиданностью. Ночью, спокойно снявшись с позиции, полк двинулся на север. Одновременно с нами отступали другие части, участвовавшие в бою. Какая это была ужасная картина! Нас никто не преследовал, но слухи росли, распространялись, на многих наводили ужас. Передавали, что мы обойдены, окружены неприятелем, что всех нас ждет в лучшем случае плен, в худшем — уничтожение. Начиналась паника. Добравшись до Ляояна, солдаты
173
забивались в вагоны, другие, не протиснувшись в вагоны, устраивались на крышах вагонов. Один офицер сошел с ума и выкрикивал какие-то бессвязные слова... Толпа безумствовала, и не было сил остановить ее.
В Ляоянский и предыдущие бои я проникся особым уважением к полковнику Лисовскому. Умный, образованный, начитанный, честный и добрый, он, однако, в промежутки между боями бывал тяжелым и даже неприятным человеком. Причиной этому была его болезненность. Когда его желудок не варил принятой пищи, тогда он становился раздражительным, резким, неприступным. Но как только начинался бой, командир наш перерождался до неузнаваемости: становился внимательным ко всем, к каждому и ко всему. На занятой полком позиции он не оставлял ни одного уголка неосмотренным, не проверенным и умел принять все меры, чтобы полк имел как можно меньше потерь. И это ему удавалось: до боя на р. Шахэ, о котором будет сказано ниже, в полку не было убито ни одного офицера и очень мало было потерь в составе нижних чинов, хотя полк уже участвовал в 10 боях и стычках с неприятелем и всегда блестяще выполнял свои задачи. Это был Божьей милостью боевой командир полка. Не знаю, каким он был командиром корпуса в Великую войну.
Одно представляется мне неясным в его командовании: почему он в промежутки между боями мало, на мой взгляд, обращал внимания на занятия офицеров с нижними чинами, на подготовку первыми последних к бою? Командир 2-й батареи подполковник М.Г. Пащенко, бывало, целые дни проводит около своих орудий с младшими своими офицерами и нижними чинами, разъясняет, учит, наставляет: если позиция уже намечена, осматривает назначенное для его батареи место, изучает позицию, измеряет расстояния, нивелирует места для орудий, делает окопы, блиндажи и так далее. А наши офицеры немножко призаймутся в ротах, а все остальное время проводят в безделье: одни в карты играют, другие выпивают: Хомяк, пропуская рюм1^г за рюмкой, мурлычет одну и ту же песенку: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья»; доктор Шварц, небольшого роста еврей, неряшливый, с типичными чертами лица и манерами, свидетельствовавшими о его захолустной родине в Западном крае, апатично смотрит на играющих, выпивающих. Весельчак и насмешник подпоручик Тихонов обращается к нему: «Доктор Шварц, доктор Шварц!» — «И что?» — отвечает Шварц. «И что вы из-под себя думаете, доктор Шварц?» — спрашивает Тихонов. Другой оскорбился бы, но доктор Шварц незлобив и необидчив — он только улыбается в ответ на этот вопрос. Так проходила каждая вторая половина дня. Командир полка не мог не знать о таком бесплодном времяпровождении офицеров его полка, но он не принимал никаких мер к тому, чтобы направить жизнь своего полка в другое русло.
174
Высоко оценил я и доктора Охотникова. Умный, отлично знающий свое дело, энергичный, самоотверженный врач. Во время боев он с доктором Пемуровым вели медицинскую работу в полку. В промежутки между боями они двое фактически обслуживали полк. Обидно было, что бездельник, невежда в медицинском деле, аморальный, преступный Дункель занимал место старшего полкового врача, а талантливый и полезнейший Охотников был подчинен ему. Охотникова не назначили старшим врачом полка и после несчастья с Дункелем, а прислали пожилого доктора медицины М., сразу ставшего притчей во язьщех51, хотя Охотников своими подвигами и работой вполне заслуживал, а польза полка требовала, чтобы именно он стал во главе медицинского дела в полку.
Наш отдых продолжался более месяца. Жизнь наша текла установившимся порядком. Полк бездействовал, если не считать производившихся от времени до времени ночных нападений. Офицеры опять начинали скучать без боя, обвиняя начальство, держащее их в бездействии. Я в воскресные и праздничные дни совершал богослужения в наскоро устроенной церкви: по будням беседовал с солдатг1ми, руководил спевками церковного хора, скоро ставшего знаменитым в корпусе, изредка посещал другие полки дивизии, беседовал со священниками, подбадривая одних, распекая других.
В наш полк прибыли два новых штаб-офицера: полковник Бунин Алексей Николаевич и подполковник Александров, оба симпатичные, благородные, добрые люди. Бунин — русский барин, светски образованный, до того времени служил в лейб-гвардейском Егерском полку. Для салонов и светских разговоров он был незаменим, для боевого дела он окажется малопригодным. Александров — разумный и серьезный строевой офицер. Он был назначен на фронт вместо сына, только что окончившего военное училище.
На отдыхе мы пробыли до конца сентября, переменив за это время несколько стоянок. Самой интересной была первая после Ляоянского боя. Весь наш 1-й Восточно-Сибирский стрелковый корпус был поставлен в 12 километрах от Мукдена, в большой роще, у самых императорских могил (Фулинских). Природа интересная: к югу за рощей протекает речка, на север от рощи на горке красуется кумирня, к которой ведет широкая каменная лестница. Около этой кумирни покоились бывшие всемогущие повелители Китая. Лучшей стоянки нельзя было бы придумать, если бы не измучивавшие нас вши, в течение двух недель истязавшие решительно всех и не уступавшие никаким мерам борьбы с ними, а затем сразу у всех исчезнувшие. Суеверные говорили, что это царственные китайские покойники выражали свое недовольство нашим пребыванием у их священных могил. Я не думаю, что покойные китайские богдыханы были так
175
мстительны, но объяснить вшивое нашествие на нас и доселе не могу.
30 августа, в день святого Александра Невского, рядом с лагерем нашей дивизии происходило большое торжество; доблестный начальник 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал Александр Алексеевич Гернгросс, мой земляк (его предки выстроили Усмыньскую церковь), праздновал свои именины и производство в чин генерал-лейтенанта. Приглашены были все офицеры дивизии, пировали до утра, кроме водки, вина и пива было выпито 20 дюжин бутылок шампанского. По-русски: коли пить, так без рассудку. Всю ночь лагерь оглашался криками ура, многая лета, пением песен. Гернгросса все любили — и офицеры, и нижние чины — за его боевую удаль, простоту в обращении со всеми и отзывчивость. Действительно, это был командир суворовского типа, у которого даже грубоватая прямота не казалась обидной. Его дивизия считалась лучшей в нашей армии.
В конце сентября наш полк получил приказ двинуться на юг. к Тумыньлинскому перевешу. Был воскресный день. Я только что начал совершать проскомидию, как командир полка попросил меня немедленно приготовиться к походу. Пришлось прекратить богослужение. Мы шли в течение всего дня и ночи, делая небольшие остановки для отдыха. Рядом со мной ехал только что прибывший в полк подполковник Александров. Почему-то его тянуло ко мне. Дорогой он делился со мной своими переживаниями. Настроение у него было мрачное, предчувствие мучило его. «Мне не выйти живым из этого боя». — твердил он. 1Сак я ни старался разубедить его. он стоял на своем. Много тайн в природе, одна из них — подобные предчувствия.
Вот мы и у Тумыньлинского перевала. Узнаем неприятную новость: полковник Лисовский будет командовать отрядом, а в командование полком вступит полковник Бунин, доверия к которому как боевому командиру в полку не было: ему недоставало боевых качеств —храбрости, быстрой сообразительности и даже подвижности; кроме того, не исключалась возможность, что он во время боя напьется до бесчувствия. С ним бывало это, и тогда командовал полком поручик П.И. Буркин. Полковнику Лисовскому все неограниченно верили и на него надеялись. В предшествующих боях и стычках с неприятелем — их было десять — полк блестяще выполнял задания, и, однако, до этого времени не было ни одного ни убитого, ни раненого офицера. Виновником этого считали полковника Лисовского, щадившего жизни вверенных ему людей.
На следующий после нашего прибытия день начался бой нашего корпуса с наступавшими на нас японцами. Наши врачи устроили два перевязочных пункта: один вблизи линии боя, на стыке нашего и 34-го полков, в небольшой деревушке — на нем
176
работали Охотников и Пемуров, другой — в некотором отдалении от боевой линии — там остались прочие врачи. Я с Болботом и Мироновым пристроился к первому пункту. Скоро к нам начали прибывать раненые обоих полков. Наш пункт превратился в огромный лазарет, где кипело море страданий: раздавались стоны. крики раненых, оперируемых, хрипы умиравших. Некоторые из раненых сами приходили на перевязку, чтоб опять вернуться на позицию. Прошло 44 года после этого боя, а я как будто сейчас смотрю на молоденькое, красивое, всегда веселое лицо старшего унтер-офицера нашего полка Н., приятного тенора полкового хора. Бледный, но улыбающийся, он вошел во двор нашего пункта. «Что с тобой?» — тревожно спросил я, выбежав из избы. В ответ Н. раскрыл мне грудь. На груди у него висела вогнутая небольшая металлическая иконка Божией Матери. Неприятельская пуля попала в самую средину этой иконки, вдавив ее в кожу. Иконка, таким образом, спасла стрелка. Доктора перевязали его рану, и он вернулся на позицию после того, как мой Миронов напоил его горячим чаем.
На наш пункт продолжали прибывать новые и новые раненые: одних приводили, других приносили, третьи сами добирались до пункта. Но вот принесли трех офицеров — уже мертвых. Открыв их лица, я ужаснулся: это были подполковник Александров, капитан Дмитрий Николаевич Перехвальский и молоденький подпоручик Архангельский. Интересна судьба их. Александров, как сказано выше, был уверен, что его убьют в этом бою. Капитан Перехвальский, пожилой, честный и скромный, исполнительный, строгий к себе и к другим, как и Александров, впервые участвовал в бою — во время прежних боев он со своей 4-й ротой состоял при штабе корпуса. Архангельский все время находился в командировках и также в первый раз вышел в бой. Незримая рука как будто отстраняла их от ожидавшей их смертной опасности. Теперь первыми выстрелами все они трое были убиты наповал. Я тут же, около пункта, в садике, похоронил их. Невероятно жаль мне было этих прекрасных офицеров.
На перевязочном пункте мы работали до поздней ночи, пока не прекратилась стрельба, а с нею и приток раненых. Я с ужасом вспоминаю перипетии этого дня: кругом раненые, воздух насыщен кровью; находясь в фанзе, чувствуешь во рту привкус крови и стремишься выйти на двор, чтобы подышать чистым воздухом, а там лежат или умирающие, или умершие. Врачи изнемогают в работе. Я любуюсь своим Мироновым. Из него уже выработался хороший санитар. Он помогает перевязывать раны, греет на костре воду, поит чаем раненых, ни на минуту не зная покою. И в это же время успевает позаботиться обо мне, чтоб я не алкал и не жаждал.
177
Слава Богу, кроме похороненных мною трех офицеров, в нашем полку не было больше ни убитых, ни раненых. А сосед наш, 34-й полк, потерял в этом бою 32 офицеров, причиной чего считали кавказскую храбрость полковника Мусхелова. Уложив немало народу, не уступив неприятелю ни одной пяди земли, наш корпус получил приказание отступить. Нас перебросили почти к самому Мукдену, задержав около деревни Хуаньшань, где тогда помещался штаб армии.
Священнику надо зорко следить за собою, чтоб невидимый враг не смутил его. Я подметил такого рода явление. И в бытность свою сельским св5пценником, и в Суворовской церкви я старался проповедовать за каждой воскресной и праздничной литургией. Однако, хоть и редко, случалось, что я оставлял литургию без проповеди. Тогда меня тянуло и следующую литургию оставить без проповеди. На войне я старался совершать литургии во все воскресные и праздничные дни, не обращая внимания, есть ли подходящее помещение для службы, и часто совершая богослужение в открытом поле, на устроенном из дерна престоле. Но бывали, правда нечастые, случаи, когда мне объявляли, что богослужение отменяется, так как весь полк вышел на работы или полк должен немедленно сняться для перехода на другое место. После пропущенной таким образом службы меня тянуло пропустить и следующую службу, воспользовавшись каким-либо поводом. Это и случилось со мной по прибытии полка к Хуаньшаню.
Наступило воскресенье. В предыдущие два воскресенья во время передвижений полка и во время боя я не имел возможности совершать богослужения. А в это воскресенье почти весь полк вышел на работу. Я и ухватился за повод; не для кого служить. Вместо того чтобы совершать литургию, я отправился в деревню Хуаньшань навестить своего семинарского товарища и друга Иосифа Григорьевича Автухова, состоявшего секретарем при главном священнике армии. От нашего бивуака до деревни было немного более километра. Не пройдя и четверти пути, я услышал стройное церковное пение и затем в стороне увидел стоявшую у палатки толпу. Люди стояли с обнаженными головами. Не оставалось сомнения, что шло богослужение. Я подошел к палатке: служил простой госпитальный священник, служил бесхитростно, но сердечно, хор пел с усердием, подсвечники были уставлены свечами, люди пламенно молились... Когда певчие запели «всякое ныне отложим попечение», я почувствовал невероятные угрызения совести, такой стыд, каких я ни раньше, ни после не испытывал. Внутренний голос укорял меня: и ты мог бы доставить удаленным от родины, окруженным опасностями воинам такое же духовное утешение, какое испытывают собравшиеся здесь богомольцы: но ты предпочел заняться бездельем, обманув самого себя, что при отсутствии большей части полка ты можешь
178
считать себя свободным от службы, и забыв, что ты должен молиться не только за присутствующих, но и за отсутствующих, молиться всегда, служить не для своих только однополчан, но для всех и каждого и тому подобное, Я дал себе слово впредь не пропускать служб, не считаясь с тем, много иль мало будет у меня молящихся, Домой я вернулся пристыженным и удрученным,
У Хуаньшаня мы остановились в начале октября. Потянулись скучные дни бивуачной жизни с ее бездельем, праздными беседами и не невинными развлечениями. У командира полка хронически не варил желудок, и это отражалось на настроении не только командира, но и всего полка. Командир нервничал, возмущался всякими мелочами52, ругал начальство, распекал подчиненных. Только одному мне не доставалось от него. Скоро стало холодать. Все из палаток перешли в землянки. Я поместился в одной палатке с доктором Охотниковым, с которым сдружила меня совместная работа на перевязочных пунктах, и ротным командиром капитаном Станиславом Ивановичем Олтаржевским, поляком и правоверным католиком, успевшим, однако, привязаться ко мне. У Олтаржевского в России осталась семья. На войне он держал себя серьезно и скромно: в карты не играл, не выпивал и никаких иных шалостей не допускал. Жили мы втроем дружно, не огорчая друг друга.
Доселе я не уделил внимания своему высшему начальству — командиру корпуса и начальнику дивизии. Нашим командиром корпуса был генерал-лейтенант Штакельберг. В газетах доставалось и ему, и его корове, которую он возил в отдельном вагоне. Но полковник Лисовский уважал генерала Штакельберга как очень способного военного начальника. Такого же мнения держались и другие серьезные офицеры нашей дивизии. Штакельберг мог бы быть любимым начальником, если бы не его напыщенность, замкнутость, неприступность. На его корову у нас не обращали внимания. зная, что командир корпуса по состоянию своего здоровья нуждается в свежем молоке. Иное дело генерал Кондратович, о котором еще в Инкоу, когда он жил в вагоне с прицепленным к нему, не перестававшим дымиться паровозом, у всех сложилось прочное представление как о трусе, не могущем быть полезным на поле брани. Боевое время только закрепило такое представление. Кондратович показывался полкам только тогда, когда они стояли на отдыхе. Во время боев он не показывался. Даже солдаты подметили это и острили: «Известное дело, им (начальнику дивизии) лучше теперь где-нибудь за горой сидеть, потому что тут пули летают». Полковник Лисовский с пренебрежением относился к своему начальнику и не стеснялся проявлять это даже в его присутствии53. После «свадебного» разговора я старался держаться подальше от генерала Кондратовича. Однако все отрицательные качества генерала Кондратовича не помешали ему быть награжденным
179
высоким орденом Святого Георгия 4-й степени, а после войны быть назначенным на должность помощника командующего войсками туркестанского военного округа... Ему поставили в великою заслугу, что его новообразованная дивизия оказалась одной из самых лучших дивизий в действовавшей армии, хотя этим она была обязана совсем не ему, а полковым командирам и хорошему офицерскому составу. Во время Великой войны генерал Кондратович не выдержит экзамена.
В ноябре 1904 г. действующая армия была разделена на три Маньчжурских армии, командующими которыми были назначены генералы Линевич, Каульбарс и Гриппенберг. Оглядываясь назад, удивляешься: какими соображениями руководились тогда, вручая и армии, и участь войны таким генералам? Генерал Линевич Николай Петрович закончил свое школьное образование 5-м или 6-м классом гимназии. Не стану утверждать, что это именно так, но слышал я от очень верных людей, что Линевич своей карьерой более всего обязан был своей дочери, пленившей сердце его начальника, командующего войсками Закаспийской области генерала Куропаткина. О его невежестве в военном деле в армии ходило множество анекдотов. Рассказы о его якобы сильной воле оказались весьма преувеличенными. Он был хорош для войны с невооруженными и необученными китайцами, а не с современной регулярной армией. Генерал Каульбарс сделал блестящую карьеру благодаря бравому виду, аристократическому происхождению и полученному им в Освободительную войну 1877-1878 гг. Георгиевскому кресту. Но ни одно из этих преимуществ не смогло сделать его полководцем. Генерал Гриппенберг, как я собственными ушами слышал от генерала Куропаткина, не умел читать военную карту. Не поладив с Куропаткиным, он после боя у Сандэпу самовольно бросил армию и уехал в Петербург. За побег с поля сражения обыкновенных офицеров расстреливали, а командующему армией это сошло совсем благополучно. На его место был назначен генерал Батьянов, о котором его тезка генерал Михаил Иванович Драгомиров, когда его запросили, годен ли генерал Батьянов в члены Военного совета, отозвался: «Заседать в совете может, но советовать не может». Говорили, что место командующего 3-й армией предлагалось генералу Сухотину, но тот отказался принять его. Возможно, главной причиной этого было полное несогласие с системой командования генерала Куропаткина, его недавнего большого друга.
С разделением Маньчжурской армии на три отдельные армии возникал вопрос о назначении трех главных священников — этого требовало высочайше утвержденное положение. Протоиерей С.А. Голубев, доселе возглавлявший все духовенство действующей армии, не захотел примириться с положением одно-
180
го из трех равных и при содействии своих штабных друзей — дежурного генерала Александра Александровича Благовещенского и начальника судебной части генерала Витольда Корейво, ежедневно с ним бражничавших, — устроил особый, проведенный приказом главнокомандующего штат главного священника при главнокомандующем. Голубев рассчитывал, что ему будут подчинены главные священники армий, но тут он, как увидим, ошибся.
В конце ноября стало известно, что полковник Лисовский произведен в чин генерал-майора и назначен командиром бригады 53-й (или 54-й) пехотной дивизии. Полк, с одной стороны, радовался, что его командир первым из командиров полков дивизии получил генеральский чин, а с другой стороны, тревожился, будучи уверенным, что новым командиром станет полковник Бунин, ни в каком отношении не могущий заменить Лисовского. Сам Лисовский радовался производству. Когда я зашел поздравить его, он на мое приветствие ответил: «Очень благодарю вас, батюшка! Я уверен, что вы искренно поздравляете меня. Не скрою от вас, что я очень рад. В нашем военном мире чин генерала — большое дело. Будучи полковником, я должен был гнуть спину и перед дрянью генералом. А теперь... Линевич — генерал и я — генерал... Все-таки я больше хотел бы быть двадцатилетним подпоручиком, чем 70-летним Линевичем». В полку Лисовский. считаясь со своим положением, держал себя безупречно, ничем решительно не увлекаясь. О прежней же его жизни рассказывали, что он любил вино, карты, женщин, жил, широко пользуясь развлечениями светской жизни.
6 декабря, в день именин Лисовского, полк чествовал его обедом. В огромной землянке — полковой столовой — собрались все офицеры полка. Оркестр полковым маршем встретил бывшего командира. Обед проходил оживленно. Было произнесено много тостов, искренних и правдивых. Искренностью отличались и ответы генерала Лисовского. Но конец не увенчал пира. У восточных людей ни одна пирушка не обходится без песен. Как только пирующие выпьют по лишней рюмке, кто-нибудь из них затягивает песню, другие поодиночке подхватывают и готовы тогда до утра продолжать свои песни. Восточные песни тягучие, скучные, не волнующие русское сердце, совсем не то, что наши русские песни, в которых слышатся то удаль молодецкая с весельем бесконечным, то горе горькое с печалью жуткою. Когда за обедом было выпито достаточно и сильного, и слабого вина, офицеры 3-го батальона, кавказцы, затянули свою кавказскую песню «Мраво джамие», потом «Алаверды», потом другие песни, тоже кавказские. Надо отдать справедливость: пели усердно, иные надрывались, стараясь перекричать других, что болезненно действовало на русское ухо. Наш генерал начал морщиться, потом насупился и, на-
181
конец, поднявшись во весь свой высокий рост, крикнул: «Довольно, черт вас побери! Надоело мне ваше блеянье. Здесь русский полк. Русскую песню!» Все кавказцы тотчас встали и ушли; с ними ушел и доктор Охотников, до войны служивший на Кавказе в 20-й пехотной дивизии. Скоро разошлись и все прочие участники пира. «Здорово отпраздновали производство! Маленько пересолил наш генерал, но иначе им не уняться бы. Совсем оглушили бы нас», — сказал возвращавшийся со мной капитан Олтаржевский. Войдя в свою землянку, мы застали сидящего на кровати Охотникова горько плачущим. «Что с тобой, доктор?» — спросил Олтаржевский. «Нас оскорбили, оскорбили всю Кавказскую армию. Мы до смерти не забудем этого, не простим этого!» — болезненно переживая происшедшее, ответил доктор. Олтаржевский засмеялся: «Тоже кавказец нашелся... Вологодский... Вольно же вам — я и твой, доктор, голосок различал. Надо же было так реветь, что чуть не лопнули наши перепонки. Стыдись, доктор! Ты ж не баба старая». Эта реплика как будто успокоила доктора.
Скоро полку пришлось праздновать мое новое назначение, так как чуть ли не на следующий день после чествования Лисовского я получил телеграфное извещение о назначении меня главным священником 1-й Маньчжурской армии. Главными священниками других армий были назначены: 2-й — 47-летний протоиерей Александр Петрович Журавский, настоятель Тифлисского Николаевского собора, а 3-й — протоиерей Николай Александрович Каллистов, настоятель Ковенского крепостного собора, 57 лет от роду. Оба главные священника были семинаристами. Главной заслугой первого было то, что он приходился родным братом начальнику протопресвитерской канцелярии. Второй был силен своим пронырством, ловкостью и беспринципностью. С обоими мы еще встретимся.
Чествование моего назначения прошло безукоризненно. Командир, генерал Лисовский, сказал восторженную речь. «Я радуюсь, — говорил он, — за армию, получающую такого молодого, энергичного, просвещенного и самоотверженного главного священника, и скорблю, что мой любимый 33-й полк лишается доблестного пастыря. От себя лично и от полка я хочу, считаю своим долгом выразить вам, дорогой батюшка, глубокую благодарность за все сделанное вами. Вы были единственным в полку человеком, который никогда и решительно ни в чем не причинил мне ни малейшего огорчения. Ваши заслуги перед полком колоссальны: вы всем показывали пример самоотверженного служения, вы были нашею полковою совестью. Скажу более: вы дали лицо полку». И так далее. И тогда я считал, и теперь считаю данную мне генералом Лисовским аттестацию преувеличенною. В своей ответной речи я сказал тогда, что генерал Лисовский приписал мне не только мои действительные заслуги, но и свои собствен-
182
ные, так как именно он дал лицо нашему молодому полку и все мы в его лице видели действительного боевого командира полка. Говорили и многие другие, в числе их и доктор Охотников, подчеркнувший, что я никогда не уходил дальше передового перевязочного пункта и не страшился ни пуль, ни снарядов. Простившись со своими боевыми товарищами, я к празднику Рождества Христова отправился в штаб армии.
IX. В должности главного священника 1-й Маньчжурской армии
В штаб армии я прибыл заслуженным боевым священником: у меня были два ордена с мечами — Анны 3-й и Анны 2-й степени и золотой наперсный крест на георгиевской ленте. Чистосердечно признаюсь, что я довольно безразлично относился к орденам, посмеиваясь, что у нас и собаки носят знаки. Но награждение меня за Ляоянский бой золотым крестом на георгиевской ленте, высшим для священников боевым орденом, доставило мне большое утешение. Я понял эту награду как одобрение высшей властью моей работы на поле брани, как признание ее геройскою. После я был очень разочарован, когда золотым же крестом на георгиевской ленте был награжден и главный священник С.А. Голубев, ни разу не участвовавший в бою и не слышавший, как поют пули. А и он потом с гордостью носил этот крест, по общему пониманию свидетельствовавший о каком-то большом подвиге, совершенном носившим его.
Прибыв в штаб, я представился начальствовавшим лицам, генералам: начальнику штаба Владимиру Ивановичу Харькевичу, генерал-квартирмейстеру Владимиру Алоизовичу Орановскому, зятю Линевича, и дежурному генералу Клодту. С генералом Харькевичем я был немного знаком по академии, где он, приезжая из Вильны, читал лекции об Отечественной войне 1812 г. Это был здоровый мужчина лет 45, способный офицер Генштаба, приятный в обращении человек. Высокий и красивый Орановский был моложе Харькевича. В армии его считали очень способным офицером. В обращении он был приветлив и приятен. Клодт, всегда мрачный и задумчивый, производил впечатление человека запутанного и не внушавшего доверия к его деловитости. Затем мне предстояло представиться генералу Линевичу.
О генерале Линевиче в армии ходили самые разнообразные слухи. Образованные офицеры считали его полным невеждою в военном деле, не умевшим отличить гаубицу от обыкновенной пушки, не знавшим истории, не ладившим даже с арифметикой. Другие отзывались о нем как о добром, но чрезвычайно упрямом и не терпевшим никаких противоречий старике. Но были и та-
183
кие, которые считали, что Линевич не Куропаткин, он покажет японцам. Такие разноречивые разговоры не особенно утешали меня, но все же Линевич интересовал меня как тип начальника на столь высоком посту. Линевич вскоре принял меня. Я увидел довольно высокого и бодро держащегося старика, со строгим лицом, с длинными усами и очень коротко подстриженной бородой, шепелявившего. Линевич встретил меня, не улыбаясь, но приветливо: «Очень рад вас видеть. Много слышал о вашей работе в армии. Надеюсь, что мы с вами поладим. Я люблю строгость и порядок. Крепче держите свое духовенство!» Расспросив меня о моей службе до войны, он отпустил меня.
Скоро прибыл из Петербурга «мой штаб»: секретарь Николай Николаевич Надеждин, дьякон Михаил Андреевич Антоновский и два псаломщика — Сергей Александрович Городецкий и Петр Александрович Тихомиров, привезшие походную церковь для штаба, печать и разные книги. Потом мой штаб увеличился еще двумя лицами: иеромонахом Троице-Сергиевой лавры Захарией, прибывшим в армию с древней иконою «Явление Божией Матери преподобному Сергию», с давнего времени сопровождавшей наши войска в походах, и священником Иоанном Авксентьевичем Голубевым, старым сослуживцем генерала Куропаткина по Туркестану. Хотя ни один из этих персонажей не имеет исторической ценности, но я должен на них остановиться, так как все они очень характерны для обрисовки порядков в духовном ведомстве того времени.
Война — экзамен для народа. Только экзамен этот выдерживает прежде всего не сам народ во всем своем составе, а посланные на войну, выбранные из народа люди. Посылать на войну неподготовленных, негодных, значит, посылать их на явный провал на экзамене. На войну должны выходить не худшие, а лучшие, самые сильные и, безусловно для предназначенной им работы годные. Но этой очевидной истины не понимали или не хотели понять ни Священный Синод, ни епархиальные начальства, ни даже сам протопресвитер военного и морского духовенства. Протопресвитер, как сказано, назначил главными священниками 2-й и 3-й армий протоиереев Журавского и Каллистова, как будто не мог он найти более серьезных, более просвещенных и более авторитетных людей для этих высоких и ответственных постов. На войне и внешний вид священника имел большое значение: русский воин хотел видеть своего пастыря в подобающем его сану костюме. На личном опыте я убедился, что ряса с подрясником не мешали военному священнику во время боя обходить окопы, выносить раненых, причащать, хоронить под огнем, совершать переходы верхом на лошади. Прибыв в армию, Журавский вместо рясы облекся в папаху, короткий полушубок, высокие сапоги и при своем лице не совсем русского типа стал похо-
184
дить на черкеса, а не на православного священника. Его примеру последовали и многие его подчиненные. Потом я убедился, что это был добрый, слишком общительный человек, но не любивший заниматься порученным ему делом. Его отрицательные для начальствования качества не помешали, однако, ему быть награжденным митрою за заслуги на поле брани. Для 48-летнего семинариста митра являлась баснословной наградой. Каллистов был хуже Журавского. Журавский был неделовой человек. Каллистов был циник, беспринципный и лукавый, пользовавшийся всякими средствами для достижения цели. Он был умнее, а главное — хитрее и оборотистей Журавского. Однако и его ум, и оборотистость производили не положительное, а отрицательное впечатление. Летом 1905 г. я получил предписание протопресвитера произвести строгое дознание по поводу якобы распространявшихся Каллистовым в армии слухов, что он давал взятки и самому протопресвитеру, и чинам состоявшего при протопресвитере духовного правления. Вызвав Каллистова, я предложил ему прочитать протопресвитерскую бумагу. Он прочитал, не моргнув глазом. «Что же скажете вы?» — спросил я. «Ответьте им, что я не дурак: я давал взятки, но брал расписки. Если потребуется, я представлю кому следует эти расписки», — сказал Каллистов. «Может быть, вы потрудитесь дать письменное объяснение?» — обратился я к нему. «Никаких письменных объяснений я не стану давать. Напишите то, что я сказал», — повторил Каллистов. Так я и написал протопресвитеру, что от письменного объяснения Каллистов отказался, заявив, что у него сохраняются расписки тех лиц, которым он давал взятки. Ответа на мою бумагу не последовало. А по окончании войны и Каллистов был награжден митрой. В 1908 г. он был назначен на самое лучшее в материальном отношении место в Ведомстве протопресвитера — на место настоятеля Введенской лейб-гвардейского Семеновского полка церкви, что у Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге. В том же году после одной весьма грязной истории он был перемещен к Гаваньской церкви в Санкт-Петербурге.
Епархиальные начальства еще менее заботились о посылке на войну достойных священников. Из 96 священников 1-й Маньчжурской армии большинство были мобилизованными, то есть назначенными епархиальными начальствами во вновь сформированные части или присланными для замещения освобождавшихся вакансий. Чуть ли не из десяти епархий имелись в этой армии священники. И только одна, Екатеринославская, епархия прислала молодых, образованных, энергичных и идейных. Остальные епархии как будто конкурировали одна с другою в сбыте залежавшегося, пришедшего в негодность материала...
Однако вернемся к присланным чинам моего штаба. «Секретарь» Н.Н. Надеждин был студентом 3-го курса Санкт-Петер-
185
бургской духовной академии и анархистом в письмоводстве, отрицавшим всякие формы и порядки канцелярские, считавшим, например, совершенно излишними книги входящих, исходящих бумаг, разносные, приходно-расходные, не заевшим правильно написать ни одной бумаги и вдобавок ко всему этому чрезвычайно туго поддававшимся обучению. Мне самому приходилось писать все бумаги, а он только переписывал. Приблизительно чрез полгода по прибытии его в армию он захотел составить ответ командиру 4-го Сибирского корпуса генералу Зарубаеву, просившему меня назначить в его корпус какого-то неизвестного мне священника. Я не отказал ему в этом, объяснив, однако, что надо написать генералу то-то и то-то. Через час приходит ко мне Надеждин с докладом, что бумага написана, только он затрудняется, как закончить ее. «Чего ж тут затрудняться? — сказал я, прочитав текст ответа. — Закончите так, как у генерала: «Поручая себя святым молитвам вашим» и так далее. Я думал, что мой ученый секретарь поймет шутку. Но каково же было мое удивление, когда в принесенной мне для подписи бумаге я прочитал в конце: «Поручая себя святым молитвам Вашим, остаюсь» и так далее. Еще курьезней было то, что Надеждин обиделся, когда я рассмеялся. А как было не рассмеяться: главный священник просит святых молитв у генерала!
Дьякон М.А. Антоновский был чудаком в ином роде. Роста среднего, шатен, с высоким лбом, прямыми, подстриженными волосами, продолговатым лицом, крохотными глазами и сплюснутым внизу носом, придававшим его недурному голосу какой-то замогильный оттенок, за что штабные офицеры прозвали его чревовещателем. Неучем его нельзя было назвать, так как он добрался до 4-го класса семинарии. Он был добр и услужлив. Но у него было две странности. Первая — что бы я ни приказал ему, он неизменно спрашивал: а зачем это? Я должен был объяснять ему, что, как и зачем. Наконец мне надоело это, и я не выдержал: «Дурень ты дурень, дьякон! Мало ль чего не понимаешь ты. Приказываю тебе, и исполняй!» Михаил Андреевич мой обиделся. Но стоило мне сказать одно ласковое слово, как он опять стал прежним. Хороший он был человек.
Другой слабостью моего дьякона была чрезмерная мнительность. Стоило ему почувствовать малейшее недомоганье, как начинал он охать, вздыхать, ложился в кровать, принимал разные лекарства. Тогда между ним и о. Иоанном Голубевым происходили забавные разговоры. Приняв озабоченный вид. Голубев опрашивал его:
— Плохо тебе, Михаил Андреевич?
— Плохо! — отвечал тронутый вниманием дьякон.
— Небось, колет куда-либо?
— Колет, под ложечкой колет, и голова как будто болит.
186
— Я так и думал... Плохо, брат, дело!
— Почему вы так думали? Почему плохо? — уже тревожно спрашивает дьякон.
— Почему плохо? Чудак ты! Что ж тут хорошего, если в одном месте болит, а в другом колет? И лицо твое как у покойника... А как папаша-то твой, жив еще?
— Помер.
— Помер! Плохо дело!.. А мамаша?
— Мама еще жива.
— Ишь ты! Живучая, значит, старуха. А деды и бабы твои по отцовской и материнской линии?
— Все померли.
— Совсем дрянь дело!.. Неживучий ваш род: поживут, поживут, да и помирают. Помрешь, братец, и ты... Я вот давно беспокоюсь за тебя: сделал ли ты духовное завещание?
— Зачем духовное завещание?
— Чудак какой! Зачем завещание? Не знаешь, что ли, зачем завещания делают? Чтоб пожитки твои после твоей смерти не достались кому-либо, а попали в руки близким твоим. Сделай завещание! Всякую минуту ведь можешь помереть.
— Вот вы так всегда, о. Иван: вместо того чтобы утешить человека, обеспокоиваете его.
— Другой на твоем месте поблагодарил бы меня за сочувствие, за добрый совет, а ты еще укоряешь меня. Бог с тобой!
Голубев после этого принимал обиженный вид, а дьякон начинал еще больше охать и вздыхать.
Вся служба дьякона состояла в том, что он в воскресные и праздничные дни участвовал в совершении богослужения. Другого дела не находилось, к которому можно было бы приспособить его. Не иначе как от безделья у него и болело, и кололо.
Псаломщики... Законодатель, несомненно, имел в виду, что при богослужениях они будут петь вдвоем. При наличии немедленно образовавшегося хора их пение не требовалось. Но курьез был в другом. Читать в церкви они кое-как читали, а петь вдвоем не могли. У Городецкого был небольшой голосишко, но не было выучки. А Тихомиров был и без голосу, и без выучки. Умел он не петь, а пить. И скоро на этом «клиросе» они вдвоем спелись: под конец войны Городецкий в питии не уступал Тихомирову.
Составленный по высочайше утвержденному положению из четырех человек штаб главного священника армии можно было с пользой для дела и с избавлением армии от лишних трех ртов сократить на три человека, упразднив должности псаломщиков и назначив такого дьякона, который был бы способен исполнять и секретарские должности. Вот вам и высочайше утвержденное положение! А сколько подобных сокращений можно было сде-
187
лать в других частях армии, где иногда не доставало нужных людей, а в ненужных никогда недостатка не было.
Два других члена моего штаба — иеромонах Захария и священник И. Голубев — появились независимо от высочайше утвержденного положения. Иеромонах Захария прибыл с иконой из Троице-Сергиевой лавры. Это был небольшого роста, толстый, лысый, белокурый, полуграмотный человечек, едва подписывавший свое святое имя, весь интерес жизни полагавший в еде. Ел он очень много, ел неистово, жадно и громко. Если бы во дворе были свиньи, они во время вкушения им пищи непременно собирались бы у окна его комнаты. Скоро сменивший генерала Линевича генерал Куропаткин подметил страсть о. Захарии и при встрече с ним всякий раз спрашивал: «Как поживаете, о. Захария?» А тот всякий раз отвечал: «Пишша хорошая, Ваше Высокопревосходительство!» «Вижу, вижу, что хорошая», — улыбался Куропаткин, поглаживая рукой по выпуклому чреву о. Захарии. О. Захария пригоден был только для богослужений. Он мог потешать офицеров своею наивностью, первобытностью. Но это не входило в задачу священнослужителя. Икона же могла оберегаться самим главным священником. В итоге в о. Захарии тоже не нуждалась армия.
Священник И. Голубев был прикомандирован к моему штабу генералом Куропаткиным, помнившим службу Голубева в Закаспии и ценившим его. Голубев был ровно на 10 лет старше меня. Это был оригинальнейший человек, в душе которого уживались совершенно противоположные качества. С одной стороны, он был ценнейшим военным священником. Он обладал редким даром слова, удивительною способностью возбуждать человеческие души. Он мог возбудить до слез раскаяние, поднять дух, вдохновить на подвиг, заставить пойти на явную смерть. Кроме того, сам он был очень храбр и своей храбростью увлекал других. И в богослужении он производил впечатление. Но, с другой стороны, в общежитии он бывал груб и невоспитан, что отталкивало от него лучшую часть офицерства. И еще: страсть к обогащению не давала ему покоя. Но людей с одними достоинствами не бывает. И, несмотря на недостатки, отец Иван был очень ценным священником для военного времени.
Прибыв в мой штаб, о. Голубев пытался занять совершенно независимое от меня положение. Я раз-другой одернул его. Тогда он обратился ко мне с письменным запросом: «Прошу сообщить мне: 1) кто мой начальник и кому я должен подчиняться, 2) кто укажет мне мои обязанности?» Тут мне пригодилось высочайше утвержденное положение. Пригласив о. Голубева в свою комнату, я предложил ему прочитать статьи этого положения, говорившие, что главный священник армии возглавляет все духовенство армии и что все священники, находящиеся в армии, обязаны подчиняться ему. Относительно же второго его вопроса я напом-
188
нил ему, что, прослужив 15 лет в военном ведомстве, он должен бы знать свои обязанности: если же в настоящем своем положении он не может определить их, то ему укажет их Главный Священник. «Возьмите-ка вы обратно свою бумагу, чтобы мой ответ не конфузил вас!» — сказал я в заключение нашей беседы. Голубев взял свой запрос. Отношения между нами после этого не оставляли желать лучшего.
6 января 1905 г. я в присутствии генерала Линевича и всего его штаба совершал в штабной церкви литургию, а после нее — освящение воды, после чего был приглашен Линевичем к обеду.
На обеде присутствовали все старшие чины штаба. Я был посажен по правую руку командующего армией. Все время шли военные разговоры. Генерал Линевич бросал только отдельные, не всегда удачные фразы. Против одной из них генерал Орановский решился возразить. Линевич резко оборвал своего зятя. Чтобы оказать и мне внимание, Линевич перевел разговор на духовную тему. «Скажите, батюшка, — обратился он ко мне, — наша славянская Библия переведена с еврейского, а русская — с славянского языка?» «Никак нет! — возразил я. — Славянская Библия переведена с греческого, а русская — с еврейского языка». «Нет! Славянская — с еврейского, а русская — с славянского», — повторил Линевич. Я опять возразил: «Ваше Высокопревосходительство, на славянский язык переводили Библию святые Кирилл и Мефодий, родившиеся и выросшие в Греции, и, естественно, с греческого библейского текста, а на русский язык Библия переводилась нашими духовными академиями, и переводчики-профессора пользовались первоначальным еврейским текстом». — опять возразил я. «Что вы мне говорите! Я же знаю, что русская с славянского, а славянская с греческого переведены», — уже с раздражением сказал Линевич. Вспомнил я нашу поговорку: «Дед Кс1жет пшеница, баба кажет гречка: не кажи, дед, ни словечка, нехай будет гречка!» И не возражал дальше всезнающему генералу: не все ли равно, как думает командующий армией о переводе Библии, это не может повлиять на его командование.
Чрез несколько дней не терпевший возражений Линевич отомстил мне. Певчие штабной церкви жили в одном со мной доме, и только сени разделяли наши помещения. В свободные часы они иногда пели и светские песни. Однажды сын Линевича гвардейский офицер Александр, состоявший при отце адъютантом, зайдя ко мне, услышал их светское пение, и оно очень понравилось ему. «Может быть, и отцу вашему приятно было бы послушать их пение — они действительно поют очень хорошо», — сказал я. В тот же день я получил собственноручную записку Линевича: «Советую главному священнику заниматься духовными делами, а не светскими песнями. Генерал Линевич». Своеоб-
189
разный и забавный, но отходчивый и добрый был старик. Через несколько дней по назначении его главнокомандующим он наградит меня орденом Владимира 4-й степени с мечами.
Всезнайство Линевича стало в армии притчей во языцех. В бытность его главнокомандующим при нем состоял в качестве генерала для поручений бывший профессор Военной академии генерал Нидермиллер. очень образованный человек. Все считали его ходячей энциклопедией и часто обращались к нему за разрешением разных вопросов. А он нередко отвечал: «Обратитесь к главнокомандующему, он ведь все знает».
После неудачного Мукденского боя генералы по высочайшему повелению поменялись местами: Линевич стал главнокомандующим. Куропаткин занял место командующего 1-й армией. Сменились и вьющие чины штабов: генералы Харькевич и Орановский ушли с Линевичем. Куропаткин взял себе начальником штаба генерала Алексея Ермолаевича Эверта, а генерал-квартирмейстером — генерала Петра Ивановича Огановского. Генерал Клодт остался дежурным генералом 1-й армии.
Генерал-адъютант. бывший военный министр, а затем главнокомандующий. А.Н. Куропаткин проявил великую любовь к армии и Родине, согласившись стать подчиненным своего бывшего подчиненного, не получившего никакого военного образования и всецело обязанного ему своей необыкновенной карьерой генерала Линевича. Критика была немилосердно строга к генералу Куропаткину: в чем только не обвиняла, как только не порицала она его. а главная вина его была в том, что он был неудачником. Мне рассказывали, что на одной из бумаг он так и подписался: «Неудачник Куропаткин». Едва ли можно отрицать, что он был одним из самых образованных офицеров генерального штаба, тонко понимающим военное дело, удачно решавшим сложные вопросы. Разработанные им планы сражений были великолепны, но осуществлять их ему не удавалось. Знаменитый генерал М.Д. Скобелев, у которого Куропаткин был начальником штаба, подметил эту черту и однажды сказал ему: «Запомни раз и навсегда. Алеша! Никогда не играй на первой скрипке!» Куропаткин мог быть прекрасным начальником штаба, администратором, но не полководцем — для полководца у него недоставало решительности, воли. После долгого знакомства с Куропаткиным я вполне убедился, что это был человек очень добрый, умный, честный, бескорыстный и самоотверженный. народник в лучшем смысле этого слова, любивший простой народ и всегда печалившийся о нем. Об этом придется сказать после.
Получив назначение на должность главнокомандующего, дававшую ему право награждать и орденом Владимира 4-й степени, и Георгиевским оружием, генерал Линевич прежде всего
190
украсил орденом Владимира грудь своего сына, а своему сослуживцу по Туркестану и другу, начальнику 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генералу Кашталинскому, послал, как рассказывали, с нарочным Георгиевский темляк при следующей собственноручной записке: «Генералу Кашталинскому. При сем препровождается вам Георгиевский темляк к жалуемому вам золотому оружию для сведения и руководства. Генерал Линевич». Это было в манере Линевича — отдавать приказания, не сообщая о них чинам своего штаба, которые потом терялись в догадках, получив ответные бумаги.
Уехал Линевич, прибыл Куропаткин. Последний знал меня по службе в Академии Генштаба и теперь встретил ласково, приветливо. Какая разница! Первый был солдат, несмотря на природную доброту, иногда проявлявший резкость и грубость, малообразованный, не терпевший возражений. Второй был умный, воспитанный, приятнейший в обращении человек. Его ближайшие помощники — генералы Эверт и Огановский — также производили отличное впечатление. Прекрасный семьянин, полный трезвенник, красавец Эверт отличался чрезвычайными аккуратностью и трудолюбием. Огановский не был так элегантен и изящен, как Эверт. Кажется, он и от лишней рюмки не отказывался. Я был свидетелем такого телефонного разговора между ним и его приятелем, начальником снабжения армии генералом Икскуль фон Гильдебрандтом, жившим тогда в 18 верстах от нашей ставки. Генерал Огановский спрашивает: «Икскуль! Это ты?» «Ты почем знаешь, что это я?» — отвечает Икскуль. «Водкой пахнет. По тому и узнал, что это ты», — говорит Огановский. «Неужели пахнет?» — удивляется Икскуль. Если Огановский и выпивал лишнее, то это не мешало ему быть на своем месте в должности как генерал-квартирмейстера, так и строевого начальника в Великую войну. Меня утешало еще то, что и Куропаткин, и Эверт, да и Огановский были людьми верующими, ценившими работу священника на войне. О Куропаткине надо еще добавить, что он был гостеприимнейщим хозяином, расходовавшим все огромное получаемое содержание на угощение чинов его штаба и приезжих гостей. По воскресным и праздничным дням приглашалось и все штабное духовенство.
О чудачествах нового главнокомандующего доносились до нас слухи. Протоиерей С.А. Голубев рассказывал мне, что, принимая первый доклад начальника военных сообщений при главнокомандующем генерала Александра Федоровича Забелина, Линевич спросил: «Шкажите, генерал, школько поеждов в день может пропушкать ваша дорога?» «По графикам...» — начал генерал Забелин, но Линевич оборвал его: «Оштавьте вы эти графики! Я — шолдат и не понимаю ваших графиков. Вы мне по шовести скажите, школько она может пропушкать?» Выйдя од-
191
нажды из своего вагона, Линевич, не допускавший, чтобы в его присутствии курили, увидел поручика с папиросой во рту. «Поручик! Вы как шмеете здесь курить!» — крикнул Линевич. «Здесь, Ваше Высокопревосходительство, на свежем воздухе», — сказал поручик. «Где начальство, там не может быть свежего воздуха», — выпалил главнокомандующий. Таким анекдотам не было конца. И несмотря на такое полушутливое отношение к главнокомандующему, от него все же чего-то ждали и даже на него надеялись, уповая, что он сможет проявить волю, которой не доставало Куропаткину.
Мое новое положение расширило круг моей деятельности и одновременно с этим ответственности. Как дивизионный благочинный я имел четырех подчиненных мне священников, а теперь у меня их было 96. За время войны и моего участия во многих боях у меня накопился опыт, сложился определенный взгляд на возможную для полкового и госпитального священника деятельность на поле брани. Поступаться своими взглядами я не собирался. Но моим взглядам неминуемо предстояло сталкиваться со взглядами главного священника при главнокомандующем протоиерея С.А. Голубева, начавшего делать настойчивые попытки подчинить себе главных священников армий.
Протоиерей Голубев перешел в штаб главнокомандующего, уверенный, что как командующие армиями подчинялись главнокомандующему, так главные священники армий будут подчиняться ему. Но тут встретилось большое препятствие: его должность была установлена приказом главнокомандующего, а главные священники армий существовали на основании высочайше утвержденного положения, которое гласило, что главные священники подчиняются непосредственно протопресвитеру, и которое не могло быть изменено или отменено приказом главнокомандующего. Для меня лично главный вопрос заключался не в том. подчиняться ли непосредственно протопресвитеру или чрез главного священника при главнокомандующем, а в другом — в полной противоположности моей и протоиерея Голубева идеологий. наших взглядов на работу священника на поле брани, как и вообще на служение священника. Он смотрел на службу как на заслугу, я — как на служение, подвиг: у него на первом месте стояли права, у меня — обязанности; его увлекали внешность, эффект, меня — суть дела, все большее совершенствование нашей работы на благо воинства, Родины: руководящим началом для него были буква закона, высочайше утвержденное положение, для меня — действительные нужды и моя совесть, а букву закона я готов был и нарушить, если она отстала от жизни и мешает делу: его увлекали начальствование, награды, я считал своим долгом служить и подчиненным мне священникам и был достаточно равнодушен к наградам, во всяком случае не выдвигал их на пер-
192
вое место; он был прост в обращении с подчиненными, но все же заметно ставил себя выше их, у меня при встрече с каждым из своих подчиненных первой являлась мысль, что, может быть, он выше, достойнее меня, и я старался учиться от каждого из них; его тянуло к генералам, меня — к солдатам: он был ловким петербуржцем, я простодушным белорусом. У меня уже было столкновение с протоиереем С.А. Голубевым по поводу причащения братьев Ковалевских и службы госпитальных священников. «Тогда, — думал я, — у меня было всего четыре полка и один госпиталь. Теперь у меня все полки армии и все госпитали. От столкновений с Голубевым не обережешься, если он останется моим начальником». Я ухватился за положение, определенно разъясняющее, что главный священник армии непосредственно подчиняется протопресвитеру, и на первое же требование Голубева ответил ему, что, к сожалению, не могу уже считать его своим начальником, так как по ясному указанию положения моим духовным начальником является только протопресвитер. Протоиерей Голубев успокоился, а наши дружеские отношения остались прежними. Другие главные священники подобным же образом ответили на притязания Голубева. Оставив главных священников в покое, он стал командовать священниками тыловых частей армии.
Несовершенства военно-духовной службы в действующей армии происходили главным образом от одной из двух причин: или от небрежности священников, или от их неуменья ориентироваться в новой для них обстановке и понять свои обязанности на поле брани. Встречались и такие священники, которые смотрели на действующую армию как на какое-то курортное место и, прибыв на фронт, искали там развлечений, а не службы; полковые забирались во время боев в далеко (20-25 километров) отстоявшие от линии боя обозы второго разряда и там коротали время, оставляя свои полки в самую трудную для них пору без своей помощи; госпитальные ограничивались минимумом своих обязанностей, предпочитая заниматься бездельем, а не служить больным. К счастью, и одних, и других, и первых, и вторых было немного. Больше было не уразумевших своего положения на бранном поле. Мой семинарский товарищ, усердный и самоотверженный священник 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Николай Васильевич Макаревский, время боя всегда проводил в расположении 12-й роты54 («Потому что, — объяснял он мне, — ненадежен был командир этой роты») и не замечал, что в то время, как он собирался командовать 12-й ротой, прочие одиннадцать рот оставались без его духовной помощи; тяжелораненые — без причастия, умершие — без христианского погребения. Другие все время боя проводили в окопах, с нетерпением выжидая, когда придется им с крестом в руке впереди полка пой-
193
ти в атаку55, и тому подобное. Не доверяя собственному опыту, я внимательно присматривался к работе лучших священников, чтобы расширить свой опыт. А чтобы никто не оправдывался незнанием или непониманием своих обязанностей, то личными наставлениями при объезде воинских частей и госпиталей, то обстоятельными письменными наставлениями старался точно ориентировать духовных отцов в понимании их долга и соединенных с ним обязанностей.
Отношение ко мне Куропаткина и чинов штаба не оставляло желать лучшего. Они оказывали мне внимания больше, чем я заслуживал. Объясняю это прежде всего тем, что не были они раньше избалованы просвещенной пастырской работой. Как я сказал раньше, во все воскресные и праздничные дни я приглашался им к завтраку, и мое место всегда было по правую его руку. Нередко я приглашался им и после всенощной, накануне воскресных или праздничных дней. Тогда после обеда он играл со мной партию в шахматы. Не проходило ни одной игры, чтобы Куропаткин не подходил для разговора с Линевичем к висевшему тут же в вагоне телефону. И мне невольно приходилось выслушивать реплики Куропаткина на вопросы Линевича: «Нельзя так, Николай Петрович, нельзя!.. Что вы, Николай Петрович! Разве возможно это!» И тому подобное. Отойдя от телефона, Куропаткин несколько раз делился со мной: «Беда с ним... со стариком... В военном деле многого не понимает, а упрям: иногда никак не переубедишь его. Я ведь давно его знаю, когда он был еще маленьким человечком... Воображаю, как трудно Харькевичу и Орановскому с ним. Меня он, по старой памяти, не побаивается, а считается со мной. А тех он ни во что не ставит... Тяжеловатый старик...»
После Мукденского боя наш штаб был переброшен в небольшой китайский городок Херсу, и тут он находился до поздней осени. От этого городка у меня осталось одно воспоминание: когда начались морозцы, на городском базаре появилось множество убитых диких коз, сложенных пирамидами высотою 6-7 м. Много продавалось и фазанов по баснословно низкой цене.
Из Херсу я часто выезжал для посещения воинских частей и госпиталей и бесед со священниками. Утомившиеся долгой мирной стоянкой, полки встречали меня радушно, даже слишком торжественно. Посетил я и свою 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию. Генерал Кондратович встретил меня речью, в которой превознес мою работу на войне. Я вспомнил полковника Лисовского и подумал: «Значит. Кондратович знает, что генерал Куропаткин чрезвычайно хорошо относится ко мне».
Объезжая воинские части, я уделял много времени беседам со священниками — и порознь, и группами: осторожно проверял их работу, от хороших учился, погрешавших поучал, входил во все детали служебной работы военного священника во время
194
боя и в дни затишья, проверял письмоводство, разрешал разные затруднительные вопросы военно-пастырской практики. При проверке письмоводства случалось натыкаться на смехотворные курьезы. Служивший с 1878 г. в Военно-духовном ведомстве, с 1890 г. состоявший благочинным, а на Русско-японской войне бывший священником 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинным 3-й Восточно-Сибирский стрелковой дивизии Иоанн Сергеевич Ремизов, получив какое-либо начальственное предписание, касавшееся всех священников дивизии, первому писал самому себе как священнику 10-го полка, свою бумагу заносил в исходящую и разносную книги и в последней расписывался в получении предписания благочинного 3-й дивизии.
Затем следовал его ответ «Его Высокоблагословению, благочинному 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии священнику о. Иоанну Сергеевичу Ремизову», то есть самому себе. Может быть, для полкового архива это было полезно, но по форме очень смешно. Некоторые священники делали в метрических книгах такого рода записи: «Погребен неизвестный нижний чин, убитый в бою» или: «Погребено 12 неизвестных нижних чинов». Один же священник, делая такие записи, добавлял: «Видно, что не еврей», «Видно, что не евреи». Ясно, что такого рода записи не имели никакого юридического значения и были излишни. Но эти священники думали, что такими записями они доказывают свою работу на поле брани.
Когда после наблюдения за духовными нуждами армии и деятельностью священников у меня накопилось несколько вопросов, которые нуждались в разрешении и не могли быть разрешены властью главного священника армии, я обратился за разрешением их к протопресвитеру. Месяца через два я получил собственноручное письмо протопресвитера следующего содержания:
«Досточтимый о. Георгий Иоаннович!
Блаженной памяти император Николай Павлович сказал: «Пока у меня есть митрополит Филарет Мудрый (Московский) и митрополит Филарет Милостивый (Киевский), я за Российскую Церковь спокоен». Так и я скажу: «Пока у меня имеются главные священники о. Георгий Шавельский и о. Александр Журавский, я за действующую армию спокоен».
Ваш доброжелатель протопресвитер А. Желобовский».
«Вот так ответ на волнующие меня вопросы! — подумал я. — Это значит, все должно быть спокойно: делай, что хочешь, только меня не тревожь: плохо сделаешь — сам отвечать будешь». Так я после этого на свой страх и действовал, по собственному разумению разрешая все возникавшие вопросы, не тревожа более возлюбившего покой протопресвитера.
195
Весной 1905 г. протоиерей С.А. Голубев сделал еще раз попытку начальствовать надо мной, избрав орудием для этого начальника госпиталей 1-й армии — их было более 50 — генерал-майора Сергея Алексеевича Добронравова. Последний, зайдя ко мне, потребовал возможно скорее исполнить приказание главного священника при главнокомандующем и предъявил свой рапорт этому священнику с резолюцией последнего: «Совершенно согласен. Главный священник 1-й армии исходатайствует нужный кредит у командующего армией. Протоиерей С. Голубев». Гене- ргш Добронравов был слишком обрядово-благочестивым человеком. Это я знал. Прочитав его рапорт, я был поражен его желаниями: он хотел, чтобы в каждом госпитале была сверх меры оборудованная церковь —с походным иконостасом, пятью пудами колоколов, паникадилом, подсвечниками и прочим, всего пудов на десять; на каждую церковь он испрашивал кредит в 25 тысяч рублей. «Значит, — сообразил я, — на все церкви потребуется ассигновка в 800 тысяч рублей; для перевозки этих церквей потребуется более 50 пароконных двуколок с людьми при них. Можно ли обременять казну таким по существу дела совсем излишним расходом, а армии навязывать такой дорогостоящий и затрудняющий ее передвижение обоз?» И ответил Добронравову; «Я отказываюсь ходатайствовать, чтобы не ставить себя в неловкое положение пред командующим, который ни в коем случае не согласится удовлетворить вашу просьбу, не вызываемую действительными нуждами и чрезвычайно обременительною и для казны, и для армии. Не могу ходатайствовать и потому, что сам не согласен с нею». «Но ваш начальник, главный священник при главнокомандующем, поручает вам ходатайствовать — вы должны исполнить его приказание», — возразил генерал. Тогда я объяснил ему, что моим начальником является протопресвитер, а главному священнику я не подчинен ни в каком отношении. На этом и кончилось дело, ни на йоту не изменившее наших прежних добрых отношений. Потом мне придется еще раз встретиться на деловой почве с благочестивым генералом.
Не могу умолчать еще о двух-трех курьезных случаях. При штабе Куропаткина в качестве какого-то чина состоял ротмистр Леонтьев, огромного роста плотный мужчина, прославившийся в Абиссинии, где он до такой степени пленил Негуса Менелика, что тот назначил его генерал-губернатором одной из областей своей империи. В то самое время в одном из госпиталей, расположенном в нескольких километрах от г. Херсу, работали две удивительные по своей сердечности и усердию сестры; жена начальника 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Наталья Антоновна Сидорина и дочь помощника начальника главного штаба Татьяна Михайловна Миркович. В один из воскресных дней я посетил их госпиталь. Там я застал Леонтьева. Так как у
196
него не было перевозочных средств, то я предложил ему место в своем экипаже, на что он с благодарностью согласился. Дорогой я расспрашивал его об Абиссинии, о Менелике, об абиссинском народе. Когда мы подъехали к Херсу, Леонтьев обратился ко мне: «Меня чрезвычайно тронуло, что вы проявляете такой большой интерес к Абиссинии, и мне хочется оставить вам что-нибудь на память о сегодняшней нашей беседе. Вот что! Когда я уезжал из Абиссинии. Менелик дал мне два больших абиссинских ордена, которыми он пожаловал двух наших генералов. Один орден я вручил, а другой не мог вручить, так как награжденного (артиллерийского генерала Резвого или Софиано — точно не помню) не застал в живых. Мне хочется, чтобы вы приняли этот орден. Все будет сделано по форме: фамилия генерала в наградном листе будет вычищена, а ваша написана. Орден очень красивый и довольно ценный». Я, конечно, отказался от этой высокой награды.
Летом же в одну из суббот Куропаткин говорит мне: «Завтра на литургии в нашей церкви будет принцесса Элеонора Рейс, близкая родственница великой княгини Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича, работающая сестрой милосердия в одном из наших госпиталей. Пусть певчие старательнее подготовятся к службе, а вы, когда она подойдет ко кресту, дайте ей просфору!» На следующий день принцесса прибыла в церковь в сопровождении другой сестры — княжны Урусовой. Служба прошла отлично, певчие пели чудесно, принцесса выстояла службу до конца. Когда она подошла ко кресту, я поднес ей просфору, соблюдая этикет, на маленькой серебряной тарелочке, единственной в комплекте вещей нашей походной церкви. Я не предполагал, что принцесса возьмет не только просфору, но и тарелочку. А она подумала, что ей подносят просфору с тарелочкой, и так вцепилась в нее, что удержать тарелочку мне не удалось. Будь это в Петербурге, я с удовольствием пожертвовал бы этой церковной вещицей. А тут я не мог остаться без нее, и пришлось попросить княжну Урусову выручить вещицу из плена. Вскоре после войны принцесса Рейс стала несчастной болгарской царицей, женой царя Фердинанда, как рассказывают, жестоко издевавшегося над нею.
И во время Русско-японской, и во время Великой войны я не пользовался никакими предохранительными мерами при посещении заразных госпиталей и при общении с больными, будучи уверен, что никакая зараза ко мне не пристанет. В Великую войну моя вера не обманула меня, а в Русско-японскую в июле 1905 г. я где-то захватил тиф. Три августовские недели я провалялся в госпитале передаточного пункта около города Херсу. Несколько раз посетивший меня в госпитале генерал Куропаткин потом говорил мне, что все думали, что потеряют меня. Но благодаря заботам врачей Мигдисова, Степанковского, Шевандина, прекрасно-
197
му уходу сестер и моему могучему организму я выздоровел. Говорят, что во время тифа всякое напряжение мысли весьма опасно. Но я в течение всей болезни не переставал заниматься делами, диктовал своему секретарю бумаги, делал распоряжения и не поручал другому исполнять мою должность. Врачи опасались, что это отразится на моей памяти. Но как будто ни контузия, временно ослабившая мою память, ни тиф не оставили непоправимых последствий на моей психике. Мне 78-й год, а я давно прошедшие события представляю как настоящие, помню давно исчезнувшие лица, их имена, отчества и фамилии, их настроения и разговоры со мной.
К зиме наш штаб перебрался в г. Шуаньченпу, расположенный километрах в трех к северу от станции того же названия. Город областной, с резиденцией китайского генерал-губернатора и командующего войсками, более населенный и более торговый, чем Херсу. Мне было отведено просторное и удобное помещение в половине китайского дома; мой «штаб» и певчие поместились в отдельном домике по другую сторону улицы, во дворе. Против их помещения в том же дворе стоял большой амбар, из которого китайцы иногда выбирали зерно. Выемка зерна производилась ночью, причем бравший зерно, чтобы не было обмана, выкрикивал каждую меру: ига, лянга, чига, пага, уга, люга и так далее56. При ночной тишине зычный голос китайца раздавался на весь город, а жившим во дворе он оглушал уши и не давал спать. У дьякона же нашего были два домашних качества, если не считать их слабостями. Во-первых, он был, как называл его о. Иван Голубев, чистехой, безмерно любил чистоту и порядок: на его подряснике и рясе пылинки нельзя было найти: на его длинной шее вершка на полтора над воротником рясы торчал белоснежный, накрахмаленный воротничок, а из рукавов вылезали такие же манжеты. Во-вторых, он любил уют и покой: когда он ложился вечером спать или после обеда отдыхать, его денщик, лукавый 40-летний хохол Никита, по его приказанию запрещал певчим даже вполголоса разговаривать. И вот во втором часу ночи, в самый разгар дьяконского сна, его разбудил пронзительный китайский голос. Дьякон вскочил с постели, раскрыл окно и закричал: «Брось! Людям спать надо! Убирайся отсюда!» Китайцы приостановили работу, с удивлением, не понимая его выкриков, посмотрели на него и, как только окно закрылось, снова принялись за работу, и опять зазвенел голос: чига, пага! Опять раскрылось окно, и еще неистовей зарычал дьякон: «Брось, говорю тебе! Окаянная сила, спать не даешь! Уходи!» Китайцы, прекратив работу, еще удивленнее посмотрели на дьякона и, как только он скрылся, опять начали работу. Опять зазвенел пронзительный голос: тюга, уга, люга!.. Тогда дьякон, надев валенки и полушубок и схватив стоявшее в сенях солдатское ружье, выбежал во двор и, целясь в ки-
198
тайцев, закричал: «Вот я вам!» Перепуганные китайцы бросили свои арбы, лошадей и мешки с зерном и разбежались.
Рано утром на следующий день я был разбужен шумными голосами собравшихся около моей комнаты китайцев, Миронов доложил мне, что китайцы пришли жаловаться на дьякона. Минут через пять я пригласил их в свою комнату. Вошло около десяти человек. Тут были «пострадавшие», представители власти и переводчик. Все они заговорили разом. Я разобрал лишь отдельные слова: «Капитан-дякон... пухао... кантоми... пухао» («Господин дьякон... худо... убить хотел... худо»). Переводчик объяснил мне, что они пришли с жалобой на дьякона, который ночью хотел застрелить работавших во дворе китайцев. Пообещав быстро расследовать дело, я предложил им прийти ко мне после обеда. Расследование выяснило описанную картину. Явившимся после обеда жалобщикам я выдал в возмещение убытков небольшую сумму — этим и кончилось дело. Лишь генерал Куропаткин, встретившись со мной, сказал: «Ваш дьякон задумал воевать с китайцами. Скажите ему: если он хочет сражаться, то я пошлю его в окопы». Случилось так, что вскоре после этого случая чины штаба были награждены орденами. Дьякон получил орден Анны 3-й степени. Штабные офицеры шутили по этому поводу: «Дьякон получил Анну за бой с китайцами без мечей, потому что китайцы — народ мирный».
Мир был давно заключен. Война кончилась. Всех тянуло на Родину. Отвратительное время! В особенности нервничали оставившие в России свои семьи, так как до нас доходили слухи о происходящих там беспорядках. Нервничала, можно сказать, и вся армия. Генерал Куропаткин искусно отстранял разные поводы к волнениям и беспорядкам.
Наступил Новый год. Кроме старших чинов штаба генерал Куропаткин пригласил к завтраку китайского генерал-губернатора и командующего войсками Шуаньченпунского округа. Собравшиеся чины штаба с нетерпением ожидали прибытия этого китайского вельможи. Завтрак был сервирован в вагоне-столовой. Но вот показалась шествие. На пышных носилках человек десять рослых китайцев несли важно сидевшего в паланкине генерал-губернатора; два тучных полковника ехали верхом на лошадях, прочие чины многочисленной свиты, офицеры, бежали за паланкином, ежась от сильного мороза. У поезда генерал-губернатор слез с носилок, а полковники — с лошадей и, встреченные комендантом поезда, поднялись в вагон-столовую, предварительно высморкавшись двумя пальцами и потом вытерши их о свои костюмы. Войдя в столовую, гости всем нам кланялись и затем совали каждому из нас руку. Заведующий столом капитан Орлов указал генерал-губернатору место по левую сторону Куропаткина. Полковники стали у входных дверей. Скоро вышел Ку-
199
ропаткин. Окинув взглядом с ног до головы толстого полковника, он сказал с улыбкой: «Вероятно, очень ленив этот полковник, что он так тучен». Полковник, польщенный обращением к нему командующего армией, оскалил зубы. От полковника Куропаткин подошел к генерал-губернатору и поздоровался с ним. Затем по прочтении молитвы начался завтрак.
Разговор китайца с русским состоял прежде всего в том, что китаец превозносил все русское и порицал китайское: русский народ — отличный народ, а китайцы — дрянь: русская армия — сильная и храбрая, а китайская — ничтожная, слабая: у русских всего много и все у них хорошо, а у китайцев ничего нет и ничего они не знают и тому подобное. В таком духе происходил разговор между генералом Куропаткиным и генерал-губернатором. Последний, не переставая, хвалил русских и русское, Куропаткин, улыбаясь, шутливо, короткими фразами отвечал на его похвалы. «Лучше русских никто в мире не умеет воевать, а китайцы не умеют сражаться», — говорил лукавый китаец. «Потерпи! Теперь вас бьют, а потом и вы научитесь сражаться», — отвечал Куропаткин. «У русских пушек много, много, а у китайцев пушек нет», — продолжал китаец. «У китайцев пушек мало, зато денег много, а у русских много пушек, а денег нет. Потом и у вас станет много пушек и мало денег». — отвечал Куропаткин. Стоявший за спиной генерала-губернатора китаец-переводчик переводил ему.
Гостям-китайцам наши блюда не нравились. Ели они неохотно. не умея обращаться с ножами и вилками. На столе стояла ваза с зернистой икрой. Генерал-губернатор вилкой взял икры из вазы, съел несколько зернушек, икра ему не понравилась, и он оставшуюся на вилке икру сбросил обратно в вазу. Конечно, никто из сидевших за столом после этого не прикоснулся к икре. После супа генерал-губернатор, поднявшись со стула, обратился к Куропаткину: «Пойдем! Ты расскажешь мне о твоем сыне». «Посиди, посиди! Завтрак еще не кончился. Кушать еще будешь», — ответил Куропаткин. Полковников китайских наши сидевшие за столом офицеры угощали более напитками, чем яствами, и гости навеселе встали из-за стола. «Этим-то, — думал я, — тут недурно, а каково тем офицерам, которые сидят под вагонами?» Хорош для них новогодний прием.
По окончании завтрака гости, откланявшись Куропаткину, вышли из вагона. Гревшиеся под вагонами выскочили и окружили носилки: генерал-губернатор залез в свою будку, полковники сели на коней, и процессия двинулась по направлению к городу.
В праздник Крещения Господня у Куропаткина снова был многолюдный завтрак, но без китайских гостей. Куропаткин находился в хорошем настроении и делился со мной своими думами. «Кто-нибудь думает, что за время войны я собрал много денег, —
200
говорил он. — Действительно, я получал много денег, но почти все получавшееся мною уходило на стол, на питание чинов штаба и гостей. Это подтвердит вам заведующий моим хозяйством капитан Орлов. Осталось у меня всего 25 тысяч рублей. Я уже надумал, как употребить эти деньги. Как вы знаете, у меня один сын. Ему оставить... Пусть сам себе зарабатывает! Есть у меня небольшое именьице Шешурино в Холмском уезде Псковской губернии, всего в нем 180 десятин. Крестьяне тамошние — народ темный, бедный, неумелый, не умеющий извлекать из земли то, что она может дать. Вот я и решил: отделить от своего именьица 25 десятин земли для сельскохозяйственной школы, а скопленные 25 тысяч рублей употребить на постройку школьного здания. Школа научит шешуринских крестьян, как надо пользоваться землей, и улучшит их благосостояние. Одобряете вы мое решение?» Конечно, я горячо приветствовал его.
Под конец завтрака настроение Куропаткина было окончательно испорчено выступлениями сначала командовавшего 1-м армейский корпусом генерала Фон-дер-Лауница, которого солдаты звали Федором Ланцовым, а потом генерала Эверта. «Я просил бы Ваше Высокопревосходительство разрешить мне уехать из армии, — начал Лауниц. — Я считаю, что мне здесь нечего делать: некоторые части расформировываются, корпус мой скоро должен будет отправиться в Россию». Куропаткин невысоко ценил Лауница и сухо ему ответил: «Раз вы считаете, что не нужны армии, то можете уезжать». «Я просил бы Ваше Высокопревосходительство и мне разрешить уехать в Россию», — обратился к Куропаткину Эверт. «А вы почему захотели этого?» — спросил Куропаткин. «Моя семья сейчас в Варшаве, там очень неспокойно, я для семьи там нужен, а здесь и без меня можно обойтись», — ответил генерал Эверт. «Вот что. Ваше Превосходительство! — резко повысил голос Куропаткин. — Мы солдаты. На первом месте у нас должна быть служба, а не личные, семейные или какие-либо иные интересы. Будете свободны, когда скажут вам, а пока вы должны исполнять свою должность. Будемте вставать, господа!» — обратился Куропаткин к сидевшим, подымаясь со стула. Сделав общий поклон, он вышел из вагона. «Вот так угостил сегодня командующий наших генералов!» — говорили офицеры, выходя из столовой. К чести генерала Эверта надо отметить, что он не затаил в своем сердце обиды на Куропаткина, что доказал своим отношением к нему во время Великой войны.
Штаб наш постепенно расформировывался. Настало время и мне уезжать на Родину. За несколько дней до моего отъезда генерал Куропаткин обратился ко мне: «Я высоко ценил и ценю вашу работу на войне. Теперь мне хотелось бы достойно наградить вас. Могу дать вам денежную награду или представить вас к митре.
201
Выбирайте сами!» Я ответил, что его внимания ко мне никогда не забуду, но от наград — и одной, и другой — решительно отказываюсь: деньги мне не нужны, так как на войне я получал большое содержание, а для митры я очень молод и она причиняла бы мне больше огорчений, чем радостей. «Тогда дайте мне слово, что вы найдете возможность погостить у меня в Шешурине», — сказал Куропаткин. Я обещал исполнить его желание.
За год службы с генералом Куропаткиным я хорошо узнал его. Меня особенно трогало его отношение к духовенству. Однажды во время завтрака один из адъютантов сказал, что он только что видел в городе какого-то священника. «Что же вы не пригласили его сюда? Батюшка же может не найти себе еды», — забеспокоился Куропаткин. Лично мне оказывалось Куропаткиным внимания гораздо больше, чем я заслуживал. Но Куропаткин был чрезвычайно внимателен и к простецу, бесплодному о. Захарии. Когда тот на вопрос Куропаткина: «Как поживаете, о. Захария?» — отвечал: «Сахарку маловато. Ваше Высокопревосходительство», Куропаткии тотчас приказывал своему архитриклину капитану Орлову: «Капитан! У о. Захарии сахарку нет. Пошлите ему из наших запасов!» Час спустя о. Захария получал кулек сахару. Особым благоволением Куропаткина пользовался священник Иван Авксентьевич Голубев. «Это же мой старый сослуживец по Каспийскому краю, — объяснял мне Куропаткин. — Правду сказать, не всегда легко с ним, неспокойный он и всегда, бывало, в ссоре с о. Иваном Ремизовым, чуть не до драки у них доходило. Тогда я принимал на себя роль протопресвитера. Один раз ссора у них достигла такой степени, что вот-вот могли в косы друг другу вцепиться. Тогда я вошел в алтарь, приказал им обоим стать на колени и просить друг у друга прощения. Каялись... просили... поцеловались». «Думаю, ненадолго, водворялся между ними мир. Их и теперь ни на минуту нельзя оставить вдвоем. Мне приходится разводить их», — сказал я. «Вот видите, — засмеялся Куропаткин, — а оба недурные люди и священники полезные».
Хлебосольство Куропаткина было исключительное: кто только не угощался за его столом! Исключительной была и его заботливость обо всех своих подчиненных. Приятно было служить с таким просвещенным, благородным, сердечным начальником. И так обидно было, что не имел он полководческого счастья.
По долгу своей службы и по своему положению в ставке я должен был входить в общение со всеми военными начальниками в армии. Не возьму на себя смелости оценивать их боевые способности, качества и успехи. Упомяну лишь о том, как оценивали их другие, более меня сведущие в военном деле. Лучшими генералами в армии считались: командир 1-го Восточно-Сибирского корпуса генерал Гернгросс, многие хорошо отзывались и об его предшественнике генерале Штакельберге: хвалили командира 3-го
202
корпуса генерала Николая Иудовича Иванова, но генерал Куропаткин однажды сказал: «Хваленый Николай Иудович... В бою на реке Шахе 1-й Восточно-Сибирский стрелковый корпус истекал кровью, а он пальцем не двинул, чтобы своим в 3 километрах от линии боя стоявшим корпусом помочь соседу». Очень хвалили начальника 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерала В.Н. Данилова и еще более — командира этой бригады генерала П.А. Лечицкого. О генерале Ренненкампфе отзывались как о способном и лихом, но испорченном балаганною войною (1900-1901 гг.) с китайцами начальнике. Командира 1-го армейского корпуса генерал-адъютанта Богдана Феофиловича Мейендорфа считали благороднейшим, добрейшим стариком, но не были уверены в его боевых талантах. В общем, не блистала 1-я Маньчжурская армия большими талантами своих военачальников.
Два года пребывания на войне — девять месяцев в должности полкового священника и дивизионного благочинного и более года в должности главного священника армии — дали мне возможность близко узнать и понять душу армии с ее действительными духовными нуждами и наметить все детали пастырской службы на поле брани. Кратко резюмирую свои наблюдения.
Русское офицерство. Огромное большинство офицеров проявляло на поле брани полную храбрость, некоторые, как поручик Хомяк, безрассудно бравировали своею храбростью. Посмотреть в глаза смерти и не моргнуть глазом считалось большой доблестью офицера, быть готовим умереть за Родину — высшим проявлением офицерского долга. Увлеченные красотой таких подвигов, офицеры как будто забывали, что их главный долг не умирать, а побеждать. Во время войны эта особенность офицерской психики проявлялась в том, что в боях офицеры держали себя доблестно, а в промежутки между боями предавались безделью, менее должного заботясь об обучении солдат и совсем не подготовляя позиций, на которых им придется вести бой.
Нижние чины. Они были выносливы, жертвенны, добрым офицерам преданны и заботливы о них, даже ко врагам, если они обезоружены, сострадательны, милосердны. Я много раз наблюдал, как наши солдаты отдавали последние куски хлеба пленным, измученным голодом японцам и при этом убеждали их: «Кушай, дурачок! Ты ж голоден». Под руководством хорошего офицера они способны были творить чудеса, но без руководителя они представляли стадо, на которое нельзя было полагаться. Одной из причин этого было и то, что большинство их были неграмотными.
Полковые и госпитальные священники. Большинство из них до войны не служили в армии, а по мобилизации поступили из епархий, причем епархиальные начальства, как сказано выше, далеко не всегда выбирали для армии достойных и пригодных.
203
Эти священники не были знакомы ни с духом, ни с традициями тех воинских частей, к которым они назначались, и часто не могли уразуметь своих обязанностей на поле брани. Но это последнее не всегда давалось и кадровым священникам, иногда не умевшим ориентироваться в новой для них обстановке военного времени. Для тех и других требовались точные и ясные указания их обязанностей во время боя, в дни затишья, особые для полковых и особые для госпитальных, которые поощряли бы трудолюбивых и усердных, а бездеятельных и ленивых лишали бы возможности незнанием оправдывать свое бездействие. Мои указания и требования во время войны нередко возбуждали неудовольствия и нарекания. Когда я требовал от госпитальных священников, чтобы они не только исповедовали и причащали больных, хоронили умерших, но и совершали богослужения и для этого запаслись всеми необходимыми принадлежностями, меня обвиняли в нарушении высочайше утвержденного положения. Когда я требовал, чтобы госпитальные священники ежедневно обходили палаты и старались всячески служить больным, утешая их, писали для них письма на родину, чтобы полковые и госпитальные священники сообщали родственникам умерших воинов точные сведения: когда и от чего умер их сродник, где и как погребен, завещал ли сообщить им что-либо и тому подобное, меня обвиняли, что я перегружаю священников излишней работой. Когда я обязывал полковых священников не удаляться во время боя дальше перевязочного передового пункта, от времени до времени посещать окопы и ни в каком случае не забираться в обозы второго разряда или в другие укромные места, меня жестоко обвиняли в том, что я подвергаю смертельным опасностям жизни священников. Даже не у всех вызывало сочувствие сделанное штабом армии по моему настоянию распоряжение, чтобы каждый чин имел маленький металлический жетончик с обозначением его личного номера, вызванное тем, что лица убитых нередко бывали так изуродованы, что самые близкие не могли узнать убитого. Но все причинявшиеся такими и иными нареканиями и обвинениями огорчения с избытком компенсировались многочисленными трогательнейшими ответными письмами родственников погибших воинов, как и полным одобрением моих начинаний командующим армией, мнением которого я очень дорожил.
В нашей армии мне также не все казалось нормальным. Вот, например, полковое знамя. Потеря знамени — величайший позор для воинской части. Во время боя оно охраняется ротой или, самое малое, полуротой. Значит, приблизительно восемнадцатая часть участвующих в бою полков бывает занята охраной знамен. А между тем иногда один лишний батальон решает участь боя. Время, когда полки с развернутыми знаменами ходили в
204
атаку, кануло в вечность. В Русско-японскую войну воины видели свое знамя и во время боя, и при передвижениях всегда свернутым. После долгих наблюдений скажу, что как нахождение знамени в полку не вдохновляло воинов, так и отсутствие его не сопровождалось бы упадком их духа. Вероятно, с этим именно считаясь, некоторые командиры полков на время боя отправляли свои знамена в безопасные места, например в обоз второго разряда. Но и там требовалась охрана. Не лучше ли было оставлять знамена на месте и лучше всего — в полковых храмах в местах мирных стоянок полков? Но никто не решался нарушить традицию или, вернее, пережиток времени.
Затем бригадные генералы. Их было по два в каждой дивизии. У меня создалось такое впечатление, что во время войны и им было трудно, и с ними было трудно. Не только командир полка, но и самый младший офицер полка, и полковой священник, и полковой врач опекались полком, заботившимся и об их питании, и об их помещении. А командир бригады как некий изгой во время передвижения своей бригады бродил со своим ординарцем и двумя вестовыми, не зная, где главу преклонить. Я с искренним состраданием смотрел на командира нашей бригады генерала Краузе, достойного военачальника и прекрасного человека, когда он просил полковника Лисовского разрешить ему поместиться в районе нашего полка. Начинался бой, и бродячего бригадного генерала придумывали куда поместить и часто создавали искусственные отряды, чтобы только такой генерал не остался без дела. В мирное время, как я потом замечал, для них тоже придумывали работу. А они, просиживая в этой должности по шести и более лет, отвыкали от дела.
Наконец, Георгиевский крест. Беленький крестик, из всех орденов самый простой, но и самый красивый, самый изящный, служивший лучшим украшением офицерской груди, заветной мечтой каждого офицера. Да и как было не мечтать об этом крестике, когда он сразу вводил награжденного в сонм бессмертных: для георгиевского кавалера не существовал предельный возраст; георгиевский кавалер получал право на лишний чин, который он мог потребовать в любое время: георгиевский кавалер беспрепятственно повышался в чинах и двигался вверх по служебной лестнице, когда его армейские товарищи, не георгиевские кавалеры, заканчивали свою службу в капитанских иль в подполковничьих чинах. Пример генерала Линевича показывает, что для георгиевского кавалера не был недосягаемым и пост главнокомандующего. Но горе было в том, что эта соединенная с огромными правами награда не делала награжденного ею ни более умным, ни более талантливым, ни даже более храбрым. Получить же ее мог и очень глупый человек, ибо в числе подвигов, за которые давался Георгиевский крест, значились и такие; кто первым вошел в
205
неприятельский окоп, кто взял неприятельскую пушку... а тут дело иногда зависело не от воинской доблести и таланта, а от счастья, от господина случая — о худшем умолчим... Бывали и такие случаи, что жаждавшие Георгиевского креста начальники жертвовали тысячами человеческих жизней, чтобы заслужить этот крест. Не редкостью было и то, что георгиевские кавалеры совсем не оправдывали предоставленных им прав.
Смущал, наконец, мою совесть и порядок назначения на должности командиров полков. Треть кандидатских мест на эти должности предоставлялась армейским офицерам, треть — офицерам Генштаба и треть — гвардейцам. «Где же правда? — думал я. — Армейских дивизий пехотных 52, да еще дивизии Сибирские, Кавказские, Туркестанские, Финляндские, а гвардейских пехотных всего четыре, считая и стрелковую. Армейцев, значит, почти в 20 раз больше, чем гвардейцев. В салонах и на балах гвардейцы, конечно, оказываются более счастливыми победителями, чем армейцы, но на полях сражений бывает и обратное. Почему же им предоставляется такое огромное преимущество?..»
Все такие думы я вынашивал в сердце, не решаясь поделиться с другими, дабы не быть обвиненным в новаторстве, верхоглядстве, а то и в святотатстве, в посягательстве на освященные веками военные традиции и устои.
После Мукденского боя настоящих боев не было, а случались лишь маленькие стычки. В августе же 1905 г. в Портсмуте был заключен мир, более взволновавший, чем успокоивший армию. Это была оригинальная война, в которой большинство полков не потерпели ни одного поражения, а отступали только по приказанию свыше. Между тем позорный мир опорочивал всех. Естественно, очень и очень многие продолжали думать о реабилитации, о победе, жаждали новых боев, надеялись на успех. Мирное продолжительное сиденье на войне морально утомляло, нервировало войска, заключенный мир разбил надежды на снятие позора. Всех потянуло на Родину, где у многих остались семьи, у всех — родные, близкие. Я не избежал общего настроения: и меня потянуло к дочке, к родным, к Суворовской церкви с академией, и я искренно обрадовался, когда мне сообщили, что во второй половине января Управление главного священника 1-й армии будет расформировано, после чего и я освобожусь от службы в действующей армии.
Мне было предложено избрать один из двух маршрутов возвращения на Родину: или на пароходе от Владивостока, или по железной дороге. По времени второй путь был более чем в два раза короче первого, и я, чтоб скорее увидеть родную землю, избрал его, хотя морское путешествие очень прельщало меня. Простившись с генералом Куропаткиным и прочими чинами штаба,
206
я в конце января 1906 г. с эшелоном 145-го Новочеркасского пехотного полка двинулся в путь.
Предстоял путь не только длинный, но и сопряженный с особого рода трудностями. Только что прокатилась революционная волна, а за нею следовали карательные экспедиции — с севера генерала Меллер-Закомельского, с юга Ренненкампфа. Когда последний прибыл к своему поезду на ст. Шуанченпу, адъютант доложил ему, что начальник станции не может сейчас отправить поезд. «Скажите ему: я приказываю, чтобы поезд был немедленно отправлен», — грозно сказал Ренненкампф. Скоро адъютант вернулся с прежним же ответом: начальник станции отказывается отправить поезд, так как путь занят. «Скажите ему, что я его немедленно повешу, если поезд тотчас же не будет отправлен», — еще строже сказал Ренненкампф. Не прошло и пяти минут, как паровоз был прицеплен и поезд тронулся.
В нашем поезде для офицеров был дан вагон третьего класса. Было тесновато. Поезд шел медленно, пропуская пассажирские поезда. Но и у нас было одно преимущество. Много станций было полуразрушено, станционные буфеты не работали, частных продавцов на вокзалах не было — ехавшим в пассажирских поездах могла угрожать голодовка, если они не запаслись достаточным количеством провианта. А мы были обеспечены пищей из солдатского котла, сытной и вкусной. Кроме того, мы могли не страшиться возможности каких-либо неприятных инцидентов, так как наш эшелон смог бы отразить их. Медленное движение поезда, скучнейшая маньчжурская природа, разоренные станции удручающе действовали на нас. Но вот ст. Маньчжурия, вот мы выехали на родную землю, у меня из глаз покатились слезы, я готов был выскочить из вагона, припасть к родной земле и целовать ее. Я не могу забыть чувства, охватившего меня тогда. Долго еще природа напоминала маньчжурскую, но сознание, что мы едем по русской земле, приближало к родным очагам, утешало, бодрило нас.
Кроме нескольких офицеров Новочеркасского полка моим спутником оказался офицер Генштаба капитан Федор Иванович Ростовцев, сын попечителя Оренбургского учебного округа, очень образованный и интересный человек. На каждой остановке мы совершали с ним прогулки. На одной из станций Кругобайкальской, тогда уже действовавшей железной дороги, на самом берегу Байкала мы залюбовались этим чудным озером с высокими берегами, с прозрачнейшим воздухом. «Как вы думаете, Федор Иванович, сколько тут верст до другого берега?» — спросил я. «Не более четырех». — ответил Ростовцев. «Хоть и должен я верить вам как офицеру Генштаба, обязанному уметь определять расстояния, а все же проверим-ка, спросим вот этого, здешнего служащего — он, несомненно, знает», — сказал я. Мы спросили. «37 верст», — ответил тот.
207
В г. Иркутске наш эшелон сделал остановку. Я воспользовался этим случаем, чтобы свидеться со своим академическим товарищем Алексеем Никифоровичем Гайдуком, служившим здесь секретарем консистории. Узнав, что я еще в октябре 1905 г. награжден Святейшим Синодом саном протоиерея и доселе не возведен в этот сан, он предложил мне просить благочестивейшего Иркутского архиепископа Тихона возвести меня в протоиерейский сан. Мне приятнее было прибыть в Санкт-Петербург протоиереем, чем прибывши туда, там посвящаться. Я согласился. Согласился и владыка Тихон. В праздник Сретения Господня в Иркутском кафедральном соборе состоялось мое посвящение, после которого я угощался обедом у посвятившего меня. По своему благочестию и благостности архиепископ Тихон был одним из самых лучших архиереев того времени.
В тот же день наш поезд двинулся дальше.
Опять душный вагон, частые и продолжительные остановки. По пути мы теряем своих спутников. В Самаре оставил нас Ростовцев, направившийся в Оренбург, чтобы свидеться с отцом. И тоскливо на душе, когда, оглядываясь назад, вспоминаешь несчастную войну, и радостно, когда представляешь предстоящие с родными, со знакомыми встречи. Вот и Москва, за нею Тверь, а потом и родной Петербург.
X. Опять в Суворовской церкви.
Моя церковно-ведомственная, научно-литературная, педагогическая и общественно-благотворительная деятельность
За время войны в Академии Генштаба произошли большие перемены: вместо генерала В.Г. Глазова, занявшего должность министра народного просвещения, начальником академии был назначен профессор академии генерал Николай Петрович Михневич, а правителем дел стал вместо генерала С.Д. Чистякова полковник Генштаба Алексей Константинович Байов. И генерал Михневич, и полковник Байов были людьми верующими, добрыми и приветливыми, ко мне питавшими наилучшие чувства. «Очень, очень все мы рады вашему возвращению, — встретил меня генерал Михневич. когда я явился представиться ему. — Хоть вы служили в действующей армии, но мы не переставали считать вас своим. Конечно, вы поспешите начать у нас службу». Еще радостнее встретил меня полковник Байов. Такой встрече в значительной степени помог мой заместитель священник П.А. — питомец Казанской духовной академии, большой оригинал, не сумевший расположить к себе ни профессоров. ни учащихся-офицеров. ни посторонних посетителей
208
церкви, ни даже своих милейших сослуживцев по церкви — генерала Даниловского, В.П. Крутова, псаломщика А.В. Львова. Сейчас же академией было отправлено протопресвитеру ходатайство о восстановлении меня в должности священника Суворовской церкви.
Протопресвитера А.А. Желобовского я застал сильно постаревшим, не по годам своим одряхлевшим — ему тогда шел 73-й год. Из короткого разговора с ним я вынес впечатление, что этот еще сравнительно недавно блиставший умом, остроумием, красноречием, уменьем очаровывать людей протопресвитер пережил себя и сейчас представлял полуразвалину, ничем, кроме покоя, не интересующуюся и фактически ничем и никем не управлявшую. Жаль было бывшего человека и обидно было за ведомство, выпавшее из рук протопресвитера и впавшее в руки неответственных лиц. Протопресвитер отдал распоряжение о восстановлении меня в должности настоятеля Суворовской церкви и разрешил мне двухнедельник отпуск для свидания с родными. Я немедленно отправился в Витебск.
Дочурке моей кончался одиннадцатый год. Это была очень добрая, умненькая, наблюдательная, но немножко избалованная девочка. В последнем ее качестве были повинны ее воспитатели, души в ней не чаявшие и решительно ни в чем ей не отказывавшие. Нехотя, но все же они согласились отпустить ее на месяц в Петербург, чтоб она и столицу увидела, и ко мне попривыкла.
Маленькой моей провинциалочке в Петербурге все было дивно: и широкая, с каменными набережными Нева, и красавец Невский проспект, и величественные дворцы с памятниками, и соборы, и даже кладбища с их памятниками. На каждом шагу она сравнивала Петербург с Витебском, и все сравнения оказывались не в пользу Витебска. Не обходилось дело и без курьезов. Осматриваем мы с нею Казанский собор, девочка моя так залюбовалась серебряным иконостасом, великолепными иконами и всем внутренним видом собора, что столкнулась с колонной. Осматриваем мы Никольское Александро-Невской лавры кладбище. Я остановился у могил своих академических профессоров, а она продолжала рассматривать памятники. «Папочка! — подбежав ко мне, воскликнула она. — Какой молодой был генерал Кондратенко! Всего на один год старше меня». «Откуда ты взяла это?» — с удивлением спросил я. «Разве ты не знаешь, он же тут похоронен и на памятнике написано, что ему 12 лет», — сказала она и, взяв меня за руку, привела к могиле, где действительно был похоронен Кондратенко, только не сам генерал, а двенадцатилетний сын его. Забавнее же всего вышло с телеграммой о рождении моего племянника Всеволода. В конце апреля или в начале мая я получил от своего брата Василия, служившего в то время священником в Улазовичах в Витебском уезде, телеграмму о рождении
209
сына, причем брат просил меня крестить его, а Марусю — быть крестной матерью. Я тотчас сообщил дочке. «Как хорошо! Сын! Маленький мальчик!» — запрыгала она. «Ты не прыгай, а ответь мне: согласна ты быть крестной матерью?» — спросил я. «А что от меня потребуется?» — серьезно спросила она. «Сейчас требуется только твое согласие. Все прочее я сделаю. А потом, когда он начнет подрастать, ты должна будешь учить, наставлять его, вообще заботиться, чтоб из него вышел хороший человек. Что же ответить мне: согласна ты?» — сказал я. «Неудобно же Васе отказать, когда он просит. Сообщи, что согласна!» Оставив телеграмму на своем письменном столе, я ушел в город. При возвращении из города я был встречен восклицанием дочки: «Папочка, у Васи еще один сын родился, и Вася опять просит меня быть кумой. Иди прочитай телеграмму, она лежит в твоем кабинете на столе!» На столе в моем кабинете лежала телеграмма, полученная мною. «Выходит так, — сделав серьезный вид, сказал я. — Что же ответить мне: согласна ты или нет?» «Я уж не знаю, что делать», — смущенно ответила она. «Но должен же я и на эту телеграмму дать ответ. По-моему, не стоит отказом обижать Васю», — посоветовал я. «Тогда отвечай, что согласна... Только чтоб не так часто...» — хоть и с оговоркой, но согласилась моя дочка.
Чрез недельку мы с дочкой выехали на крестины. В Витебске к нам присоединились дядя Сеня с женой, а от Витебска рукой подать до с. Улазовичи, где священствовал мой брат: двадцать верст по железной дороге до станции Старое Село и оттуда около 15 верст на лошадях до Улазовичей. В Улазовичах мы застали тестя брата, моего бывшего благочинного и друга о. Владимира. Я совершил крещение: кумом был дядя Сеня, кумой -— моя Маруся: назвали новокрещенного Всеволодом. Маруся чувствовала себя героиней дня. В Витебске я оставил Марусю, а сам с о. Владимиром отправился в его село Топоры, чтобы два-три дня погостить в его семье.
Жена о. Владимира Матрена Дмитриевна с семьей встретили меня с распростертыми объятиями: я же не видел их более двух лет. Начались расспросы и в первую очередь о крестинах: окрестили внука, кто был кумом, кто кумой, какое дали имя. О. Владимир молчал, отвечал я: «Решительно все было хорошо. Вот только насчет имени ваш зять, по моему мнению, немножко перемудрил...» — «Как же, как назвали?» — «Да не совсем удобным именем... Павсикакием...» — «Ах, Боже мой! С ума вы сошли! Таким именем назвать несчастного мальчишку... Почему же вы не переубедили зятя?» — уже плача, обратилась ко мне Матрена Дмитриевна. «Я убеждал. Ничего не вышло. Почему-то понравилось вашему зятю это имя» — «А ты, старый, что смотрел?» — обратилась она к мужу. «Чего ж тут было смотреть: имя как имя», — спокойно ответил о. Владимир. «Павсикакий, Павсикакий! Боже
210
мой, мальчонку на всю жизнь оскандалили!» — уже заголосила Матрена Дмитриевна. Но о. Владимир не унялся: «Глупая баба! Подумаешь, внук ее не может носить такого имени! Святые носили, а он не может носить...» «Святые носили!.. Святым все сходило. а ему каково будет с таким именем? Он вам никогда не простит этого», — продолжала причитывать бедная бабушка. Мне стоило большого труда убедить ее, что ее внук не Павсикакий, а Всеволод. И смеялась же она потом.
Так в жизни и чередуются радость с горем, красивое с безобразным, серьезное со смешным. Горе дает возможность сильнее чувствовать радость: не будь безобразного, не восхищались бы так красивым; шуточное и смешное разгоняют скуку жизни, оживляют жизнь. Однако я очень отступил от нити рассказа.
Использовав свой двухнедельный отпуск, я вернулся в Петербург, чтобы начать служение в Суворовской церкви. Насколько помнится мне, первую литургию я служил 12 марта, в 4-е воскресенье Великого поста57. Церковь не вмещала народу, услышавшего о моем возвращении. Но меня особенно удивило то, что в церковь пришло много профессоров академии с начальником во главе, и все они были в парадных мундирах. Когда после отпуста по русскому обычаю я поднес крест для целования народу, начальник академии, а за ним все профессора подошли к амвону и начальник обратился ко мне с речью, в которой, восхвалив мои заслуги до войны и на войне, просил меня принять от сослуживцев по академии и от прихожан церкви крест с драгоценными украшениями. Генерал Михневич был известен как интересный, остроумный собеседник, как красноречивый профессор, своим красноречием увлекавший слушателей. Но тут он был неузнаваем: подбирал слова, не договаривал мысли, путался. Потом он сам сознавался мне, что непривычная для него церковная обстановка так смутила его, что он боялся, что не сможет сказать ни единого слова. Надо ли говорить, что такое внимание академии ко мне тем более тронуло меня, что я искренно считал его не заслуженным мною. Так началось второе мое служение в Суворовской церкви, продолжавшееся до конца апреля 1911 г. Чтобы полнее представить его, я в своей деятельности этого периода отмечу четыре стороны; церковно-ведомственную, научно-литературную, педагогическую и общественно-благотворительную. Начну с первой.
Как и до войны, я продолжал служить без дьякона и не стремился к тому, чтобы получить дьякона, так как считал, что только благоговейный, с хорошим голосом и музыкальным слухом дьякон может украшать богослужение, а дьякон кое-какой, слабый в музыкальном отношении, не умеющий выражать смысл произносимого им, отбывающий номер и не вдохновляющий молящихся, может не украшать, а портить богослужение. Совершая
211
богослужения, проповедуя, я старался, чтобы каждое мое слово достигало до слуха и до сердца богомольцев, чтобы и непривычные для них славянские слова и выражения становились понятными. Каждую воскресную и праздничную литургию я обязательно сопровождал поучением. Мои поучения не длились более 8-10 минут, но в них я всегда старался развить определенную, отвечающую дню мысль, изложив ее ясно и доказательно. Я был очень утешен, что мои поучения были понятны не только взрослым, но и детям, и что от моих проповедей никто и никогда не уходил из церкви. Я и теперь считаю, что церковная проповедь на литургиях не должна продолжаться дольше 8-10 минут, дабы не утомлялись нашим многоглаголанием богомольцы. Не количеством, а качеством своих проповедей, чуткостью в выборе тем для них мы должны привлекать своих церковных слушателей. Раскрытие и углубление христианского учения должны быть нами принимаемы во внимание, освещение разных сторон жизни верующих светом Христова учения, внедрение в их жизнь вечных начал этого учения должны служить целью всего нашего благовествования. По вечерам раз-два в неделю я беседовал с членами академического эскадрона, беседовал, не мудрствуя лукаво, а избирая доступные для их понимания житейско-христианские темы.
Число требоисправлений увеличивалось у меня с каждым днем. В Болгарии. Сербии, Греции и других восточных странах вторжение священника в чужой приход считается тяжко наказуемым преступлением. Там права приходского священника в отношении обслуживания его прихожан строго охраняются58. В Петербурге было иначе. В районе каждого прихода там имелось 10-20, а то и более бесприходных церквей: школьных, больничных, домовых в аристократических дворцах и так далее. Каждая из таких церквей имела посторонних прихожан, а священники этих церквей не отказывали в требоисправлениях всякому, кто к ним обращался. Рассказывали мне, что петербургские приходские священники, недовольные тем, что их бесприходные собратья отбивают у них доходы, жаловались на них митрополиту Антонию (Вадковскому). а тот им ответил: «Вы сами виновны в том, что ваши духовные дети обращаются не к вам. а к ним. Постарайтесь, чтобы они к вам обращались». В таком ответе митрополита проглядывало гуманнейшее отношение к совести и нуждам верующих, естественно желающих иметь своим духовным врачом, целителем их душ, судьею их совестей пастыря, ими самими избранного, которого они чтут и которому они верят. Кроме того, митрополит знал, что такое вмешательство бесприходных священников не разорит приходских пастырей, сверх меры пресыщенных, как знал и то. что одним приходским священникам без помощи бесприходных не справиться со всеми требами. Надо здесь заметить, что петербургские приходы были весьма много-
212
людны. Вот пример. Троицкий лейб-гвардейского Измайловского полка собор, причт которого состоял из трех священников, должен был обслуживать не только полк, но и огромный, с 85 тысячами населения приход. Для трех священников это было совершенно непосильной работой. Во имя духовного блага митрополит, таким образом, жертвовал буквой закона.
Ко мне обращались разные люди с разных концов города, и я никому не отказывал в требоисправлении, всеми силами стараясь служить им, а не обогащаться от них. Я не был бессребреником, но я зорко следил за собой, чтоб не стать сребролюбцем. Самыми трудными для меня днями бывали те дни, когда стекалось множество исповедников. Больше всего говеющих собиралось на Страстной неделе. Случалось, что в Великие среду и пятницу [накануне Великого четверга и Великой субботы] я кончал в церкви исповедь во 2-м часу ночи, проведя целый день в церкви, совершив не только исповедь, но и все прочие положенные в эти дни службы. Когда физические силы человека подкрепляются духовной силой, тогда он становится неутомимым.
В отношении своего храма я постоянно вспоминал слова царя Давида, сказанные пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» (2 Цар. 7, 2). Каждый из нас заботится об украшении своего жилища. Я считал великим преступлением иметь храм неблагоукрашенным. Летом 1906 г. на присланные мною с войны 4500 рублей мы — я, генерал Даниловский, назначенный ктитором церкви, и староста В.П. Крутов — с разрешения начальника академии и протопресвитера произвели большие работы в церкви: обновили иконостас, устроили в церкви паркетный, а в галерее вокруг церкви из метлахской плиты пол, снаружи покрасили церковь. Наша церковка стала красавицей. Благодаря крупным жертвам В.П. Крутова и его знакомых очень скоро церковь обогатилась ценными облачениями и разными другими предметами церковной утвари. Граф Григорий Милорадович, помещик Черниговской губернии, подарил в нашу церковь драгоценную, считавшуюся чудотворною, древнюю, больших размеров (около двух аршин длины и около полутора аршин ширины), в богатой, украшенной камнями ризе Черниговскую икону Божией Матери, с незапамятного времени хранившуюся в их роде. Всякое приобретение для церкви. всякое украшение ее бесконечно радовало меня. Особенным же утешением для меня было редкое единодушие между мною, ктитором и старостой церкви, согласно завету апостола старавшихся в почтительности предупреждать друг друга (Рим. 12, 10). Да, мы трое были истинными друзьями, ни разу и ничем не огорчившими друг друга. Начальник академии видел это, ценил и, со своей стороны, помогал нам в наших заботах о церкви. То же и другие профессора. Даже старообрядец полковник Генштаба
213
профессор Баскаков пожертвовал несколько предметов в нашу церковь. Старец генерал-лейтенант А.А. Зейфарт, лютеранин, часто приходил в нашу церковь. Я несколько раз слышал от него; «Мы профессора для офицеров, а вы наш профессор». Божия милость явно не оставляла нас, христианская любовь нас объединяла. Приятное было время!
Одновременно с церковной работой я должен был участвовать и в ведомственной работе. За время войны протопресвитер
А.А. Желобовский убедился в моей работоспособности и теперь начал привлекать меня к участию в разных ведомственных комиссиях и заседаниях. Тут я скажу о своем участии в ведомственной Комиссии по пересмотру высочайше утвержденного положения о военном и морском духовенстве. Кто был виновником учреждения этой Комиссии, не знаю. Возможно, что и мои рапорты с войны, в которых я неоднократно указывал на отсталость многих параграфов высочайше утвержденного положения, натолкнули протопресвитера на мысль о необходимости пересмотреть все положение, устранив из него все устаревшее, лишнее и дополнив его назревшим, нужным. Уже тот факт, что в Комиссию по пересмотру положения были включены все четыре бывших главных священника, показывает, что пересмотр был вызван только что закончившейся войной. Председателем этой Комиссии был назначен 73-летний настоятель Адмиралтейского собора Алексей Андреевич Ставровский, кандидат богословия, питомец Санкт-Петербургской духовной академии выпуска 1861 г. Членами Комиссии, кроме четырех бывших главных священников, были назначены все члены духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства и несколько священников, считавшихся выдающимися среди петербургского военного и морского духовенства, в числе них священник Кавалергардского полка, профессор протоиерей Евгений Петрович Аквилонов, будущий протопресвитер военного и морского духовенства. Мое участие в этой Комиссии сыграло большую роль для дальнейшей моей службы.
Назначение протоиерея А.А. Ставровского председателем Комиссии было знаменательным. Его несомненными украшениями были его старость и вопреки его старости чрезвычайная энергия, подвижность, предприимчивость. В житейских делах это был «сын века сего» (Лк. 16, 8). Об его умении пользоваться своими правами свидетельствовало большое нажитое им богатство. По душе это был человек незлой, немстительный, по службе не только аккуратный, но и усердный, исполнительный, умевший одновременно служить и Богу, и мамоне (Мф. 6, 24). Когда в 1911 г. я был назначен протопресвитером, он принес мне большую связку своих сочинений. Тут был удачно им составленный и давший ему большую прибыль «Молитвослов», а все остальные
214
брошюры относились к военноморско-иерейским чреву и карману: о суточных, о приварочных, о дровяных и прочих в мирное и в военное время, во время похода иль плавания, на местах стоянок и в лагерях. И так далее. Его идеология как председателя Комиссии сводилась к одному: надо так составить положение, чтобы у военных и морских священников оказалось насколько возможно больше прав. Огромное большинство членов Комиссии были единомысленны с ним. Я со своим взглядом, что в первую очередь надо обстоятельно и честно определить обязанности священника, при самоотверженном исполнении которых права придут сами собою, при рассмотрении большинства пунктов положения оставался бы одиноким, если бы протоиерей Е.П. Аквилонов, внимательно прислушивавшийся к каждому моему выступлению, не поддерживал меня. Моя и профессора Аквилонова квартиры находились вблизи одна от другой: он жил в полковом доме, около церкви своего полка, я — на углу Таврической и Тверской улиц. С происходивших в квартире протоиерея Ставровского (на Мойке) заседаний мы всегда возвращались вместе и почти всегда ужинали у него. Во время этих путешествий и ужинов мы все более сходились в своих взглядах на положение нашего ведомства, на службу военных и морских священников. Как уже сказано выше, студенты академии невысоко ценили профессора Аквилонова, не прочь даже были издеваться над ним. Узнав теперь его ближе, я совершенно изменил свой взгляд на него: это был очень образованный, честный, благородный человек, ученый в настоящем смысле этого слова, но житейски неопытный, нечуждый многих странностей, делавших его иногда смешным и малоприятным. Он тоже узнал меня, понял меня и привязался ко мне. Только после его преждевременной смерти я убедился, что он очень высоко ценил меня.
Давались мне протопресвитером и другие ответственные поручения. Однажды он возил меня в Святейший Синод на миссионерское заседание под председательством Ярославского архиепископа Тихона (Беллавина), в 1917 г. ставшего Патриархом. Там я давал разъяснения по касавшимся армии и флота миссионерским вопросам.
Теперь скажу несколько слов о своей научно-литературной деятельности. Еще до войны мною было собрано довольно много материала для магистерской диссертации. Теперь я продолжил эту чрезвычайно интересовавшую и увлекавшую меня работу. Благодаря своему близкому знакомству с директором Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода Виктором Ивановичем Яцкевичем я получил доступ к секретным делам архива этой Канцелярии, давшим мне возможность многие раньше добытые сведения проверить, исправить, установить более правильный взгляд и на исторических лиц, и на события. Одновременно с
215
этим я продолжал изучать униатские дела Синодального Архива, перечитывать относящуюся к моей теме литературу, критически проверять «Записки» деятелей воссоединительной эпохи — митрополита Иосифа Семашко, архиепископа Василия Лужинского, архиепископа Антония Зубко и других. Я с наслаждением вспоминаю процесс этой исторической работы, когда я переносился в далекий старый мир. проникал в мысли и намерения деятелей, подмечал их достоинства и недостатки, мудрые действия одних и ревностные не по разуму других и тому подобное. Пред моим мысленным взором проходили один за другим воссоединители: талантливый и волевой, но самоуверенный и упрямый епископ Смарагд (Крыжановский): неуравновешенный, то очертя голову рвущийся вперед, то падающий духом, своими повадками польского пана смущающий совесть православных людей епископ Василий (Лужинский): умный и осторожный, всегда мудро действующий епископ Исидор (Никольский); талантливый администратор, верный сын России, пользовавшийся полученною им в иезуитской школе мудростью для разрушения возведенной иезуитами постройки, но иногда для удовлетворения своего славолюбия приписывающий себе чужие подвиги59 архиепископ Иосиф (Семашко); витебский губернатор немец Шредер, пользующийся отрядом казаков для научения Бескатовских, Городокского уезда прихожан православной вере. И так далее. И интересно, и скорбно было наблюдать, как деятели, воодушевленные одной и той же идеей, стремившиеся к одной и той же цели, не хотели понять др5гг друга, подозревали друг друга, возмущались друг другом, ссорились, враждовали и так далее. Потом это изучение характеров и типов воссоединителей белорусских униатов чрезвычайно пригодится мне, когда Волынский архиепископ Евлогий в 1914 г. на театре военных действий в Галиции начнет копировать все ошибки епископа Смарагда, а я, знавший последствия Смарагдовых ошибок, смогу, совсем не обладая пророческим даром, безошибочно предсказывать, к чему приведут Евлогиевы действия.
Великий Гете сказал: «Die Menschheit schreitet immer fort undder Mensch fleibt immer derselbe» («Человечество все идет вперед, а человек всегда остается тем же»), В истории человечество как будто только тем и занимается, что потомки постоянно повторяют ошибки предков. И одной из самых главных причин этого служит небрежное отношение к урокам истории. Если бы деятели в своих мероприятиях и начинаниях руководились историей, считались с прецедентами и их последствиями, было бы предупреждено множество ошибок, всегда ненужных, иногда роковых.
Свои архивные изыскания я настойчиво продолжал в летние месяцы в витебских архивах, не брезгуя даже маленькими и малосодержательными архивами сельских церквей. А летом 1907 г. я
216
посетил далекий Пожайский (возле г. Ковно) монастырь, до 1840 г. принадлежавший Полоцкой епархии. Архивом этого монастыря пользовался биограф митрополита Иосифа Семашко Г.Я. Киприанович. Я надеялся найти там богатый материал и для своей диссертации, а нашел жалкие обрывки деловых бумаг, сваленных в одну кучу. Я не смог найти даже некоторых писем, которыми совсем недавно пользовался Киприанович. Такова была участь большинства наших провинциальных архивов: их не охраняли или охраняли очень небрежно, предоставляя «любителям» оставлять у себя «на память» и отдельные документы, и даже целые дела, или распродавая как ненужный хлам архивные бумаги разным мелким торговцам, покупавшим их для обертки продаваемых товаров. То же надо сказать и о предметах старины. Умелые коллекционеры составляли целые музеи, скупая за гроши или получая на память древние Евангелия, кресты, иконы, рукописи и прочее. Наш север с раскольничьими и православными монастырями и церквями в особенности привлекал таких коллекционеров. Иные из них потом спекулировали, продавая приобретенные таким образом предметы старины за большие деньги, а другие, как известный московский коллекционер Остроухов, оказали большую услугу и науке, и Родине, составивши ценные музеи и спасши от гибели драгоценные остатки старины.
В 1908 г. я представил свою диссертацию на суд родной академии. Академический совет назначил рецензентами профессоров П.Н. Жуковича и Н.К. Никольского. Оба дали добрый отзыв, П.Е. Жукович — дЕ1же блестящий. Началось непривычное для меня печатание, с корректурами, с составлением указателя имен и местностей, упоминаемых в книге. Потом второе представление, уже печатной книги, в академию для вторичного прочтения ее рецензентами. Вместо оставившего академию профессора Н.К. Никольского совет назначил вторым рецензентом профессора П.С. Смирнова, расколоведа и совсем не специалиста по униатскому вопросу. Наконец, назначен день публичной защиты мною диссертации — 9 мая 1910 г.
Защита магистерских диссертаций всегда носила у нас торжественный характер. Она происходила в рекреационном академическом зале в присутствии всех профессоров, членов Святейшего Синода и многочисленной публики. Право возражать диспутанту предоставлялось не только официальным оппонентам, но и каждому желающему, диспутант должен был отвечать на возражения, доказывать правоту своих взглядов. При такой обстановке едва ли какой диспутант чувствовал себя совершенно спокойным. У меня же был особый повод к волнению.
Незадолго пред выходом в свет моей книги профессор Н.Н. Глубоковский выпустил свою объемистую книгу о Смарагде Крыжановском. Наши точки зрения на этого деятеля совершен-
217
но разошлись: профессор Н.Н. Глубоковский превознес деятельность Смарагда, а я признал, что Смарагд не понял лежавшей на нем воссоединительной задачи и наделал много крупных ошибок. Надо сказать, что милостивейший в эмиграции профессор Глубоковский в то время славился своею грубостью, резкостью и беспощадностью в споре. Состязаться с ним на диспуте мне совсем не улыбалось. А профессор Жукович предупредил меня, что профессор Глубоковский собирается оппонировать мне. «Вы не пугайтесь этого и держите себя смелее. Помните, что в своем взгляде на воссоединительную работу Смарагда Глубоковский совершенно не прав, а вы правильно поняли и оценили действия Смарагда. Если потребуется, и я помогу вам». Ободренный профессором П.Н. Жуковичем, я решил: если выступит моим противником профессор Глубоковский, буду защищаться самым решительным образом: если он разобьет меня в девяти пунктах, в том не будет ничего удивительного, что знаменитый Глубоковский разбил своего ученика Шавельского; если я разобью его и на одном пункте, это будет большой моей победой.
Беседуя со мной о Глубоковском, П.Н. Жукович коснулся и назначенного советом второго рецензента, профессора П.С. Смирнова: «Петр Семенович сделал вам одолжение, согласившись быть рецензентом вместо ушедшего от нас профессора Никольского. Имейте в виду, что он совсем не специалист по вашему вопросу, не вполне здоров и может сделать вам неудачные возражения. Вы уж не конфузьте его».
По установившемуся в академии порядку диспутант за несколько дней пред защитой лично вручал старейшим профессорам свою диссертацию. Дня за три до защиты я понес свою книгу профессору Глубоковскому. Он. по-видимому, не забыл моего экзаменационного ответа и встретил меня ласково. «Благодарю, благодарю, — сказал он, когда я вручил ему свою диссертацию. — Интересная книга. Я-то с вами не во всем согласен. У меня другой взгляд на Смарагда, который вам не понравился. Но, конечно, не может быть никаких сомнений в присуждении вам магистерской степени». У меня отлегло на душе.
Вот и диспут. Секретарь академического совета Иван Алексеевич Уберский прочитал мое Curriculum vitae, я наизусть произнес речь, как говорили, удачную. Меня воодушевляло то, что зал был переполнен и среди публики находилось несколько профессоров Академии Генштаба. Мои профессора-оппоненты более хвалили, чем опровергали меня. Профессор Глубоковский не выступал, а выступил профессор Академии Генштаба полковник Байов — историк, очень сочувственно отозвавшийся о моей диссертации. Совет академии без всяких совещаний признал мою защиту удовлетворительной и присудил мне степень магистра богословия. Раздалось мощное студенческое
218
«Многая лета...» Поздравления... Начальник Академии Генштаба с В.П. Крутовым поднесли мне от имени академии и прихожан золотой магистерский значок, который я ношу и в настоящее время.
Если бы меня спросили, какой день я считаю самым счастливым, самым радостным в своей жизни, я, не задумываясь, ответил бы: 9 мая 1910 г. Мне трудно описать свое настроение, свои чувства, с которыми я возвращался домой после диспута. Я чувствовал себя как бы другим человеком. Мои научные труды увенчались успехом, моя способность к научной работе апробирована Академической коллегией, я причислен к сонму ученых — мне открывается теперь более широкая дорога и на ученом, и на административном поприще: в духовном мире магистерская степень значила много, так как магистров было совсем мало. Вечером, по традиции, в своей небольшой квартире я угощал добрым ужином моих судей — профессоров духовной академии и моих сослуживцев — профессоров Военной академии, как и некоторых своих близких знакомых.
Профессор П.Н. Жукович представил мою книгу со своим отзывом Академии наук, и та присудила мне 1-ю Макарьевскую премию с денежной наградой в 500 рублей60. В «Трудах Киевской духовной академии» вскоре после этого была напечатана большая статья профессора Федора Ивановича Титова, знатока униатского вопроса, посвященная моей книге. Профессор Титов считал мою книгу выдающимся произведением нашей духовной литературы, а о некоторых ее страницах отзывался, что они не уступают писаниям знаменитейшего нашего историка профессора В.О. Ключевского.
В 1909 г. мой бывший семинарский учитель Петр Павлович Зубовский, занимавший большой пост в Министерстве внутренних дел и одновременно редактировавший журнал «Сельский Вестник», выходивший раз в неделю, предложил мне принять на себя ведение духовного отдела в этом журнальчике, распространявшемся главным образом в крестьянской среде. Я согласился. Оконченная магистерская работа не мешала мне уделять несколько часов для составления статьи для каждого номера журнала. Все мои статьи были посвящены раскрытию высочайшего Христова учения и приложению его в жизни. Часть их потом была издана отдельной брошюрой под заглавием «Евангелие и жизнь». Много благодарностей я получил от читателей за свои статьи.
Моя педагогическая деятельность началась в сентябре 1906 г. и развивалась в двух областях — сначала в гимназической, а потом и в академической. В конце августа 1906 г. законоучитель Императорского воспитательного общества благородных девиц (Николаевской половины Смольного института) священник
219
Иоанн Федорович Егоров предложил мне восемь уроков в этом институте. Он только что получил предложение преподавать Закон Божий детям великого князя Константина Константиновича и поэтому должен был сократить свои занятия в Смольном институте. Одновременно с этим мне были предложены уроки и в гимназии принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Меня привлекала педагогическая работа, и я согласился принять оба предложения.
Николаевская половина Смольного института и гимназия принцессы Ольденбургской — два разных мира: первый — аристократический, второй — мир разночинцев. В первом — богатство, простор, изысканные манеры, разговоры на французском и немецком языках, выдержанный тон во всем; во второй — провинциальная простота, непринужденность, непосредственность, более семейный, чем школьный, тон во всем. Во главе института стояла начальница — княгиня Елена Александровна Ливен, одна из умнейших и влиятельнейших женщин того времени, подруга императрицы Марии Феодоровны. По букве закона над нею стояли два почетных опекуна: по учебной части — Александр Сергеевич Ермолов и по хозяйственной части — гофмейстер Де-Карьер. Но на деле княгиня Ливен управляла и институтом, и опекунами, беспрекословно ей во всем подчинявшимися. Инспектором института был величественный, обаятельнейший в обращении немец Максим Карлович Прейс, преподававший немецкий язык царствовавшему императору в бытность его наследником престола. Преподаватели разных предметов были один другого лучше. Каждый, как основной, так и параллельный, класс имел две классных дамы — «немецкую», дежурившую по понедельникам, средам и пятницам, и «французскую», дежурившую по вторникам, четвергам и субботам. Первая разговаривала с воспитанницами только по-немецки, вторая — только по-французски. Дежурная дама не оставляла своих питомиц ни на минуту, присутствуя и на всех уроках. В гимназии начальницей была Екатерина Михайловна Плотникова, маленькая плотненькая старушка, добрейшее существо, неспособное никого обидеть. Инспектором был Иван Васильевич Скворцов, питомец Московской академии, уже приближавшийся к старческому возрасту, человек добрый, мало обращавший внимания на строгость дисциплины и вообще на внешний строй гимназической жизни. Характер начальницы и инспектора отражался на всей гимназии: мне казалось, что все в гимназии шло как случалось, кое-как: случайно избирались туда преподаватели, случайно и задерживались они там. Престарелый. глухой и подслеповатый учитель математики с каждого урока возвращался в учительскую с разрисованной мелом спиной: когда он, объясняя урок, чертил на доске задачу, проказница-девчонка на его спине повторяла объяснения, так что можно было бе-
220
зошибочно определять, из какого класса возвращался этот зритель. От всего в гимназии веяло ветхостью, Сама гимназия казалась случайно уцелевшим от прежних веков пережитком. Но все ее недостатки в значительной степени искупались добротою, сердечностью ее начальницы и инспектора, по-родительски относившимся к своим питомицам.
Княгиня Е.А. Ливен при первом же моем представлении ей произвела на меня неотразимое впечатление своей величественностью, аристократической простотой и деликатностью, серьезностью своих взглядов и жизнерадостностью. За четыре года службы в институте мое первое впечатление только усилилось. Это была начальница в безусловном смысле этого слова. Ее все уважали, пред ее разумом и волей все склонялись. Ее рука всегда была в бархатной перчатке: она приказывала, улыбаясь, мягко, дружески; выговоры и внушения она делала в форме материнских добрых советов и предупреждений — как бы не случилось что-либо худшее. В каждом ее слове и движении чувствовалась и рассудочная, и моральная сила. Неудивительно, что на заседаниях институтского совета ее начальники-опекуны прислушивались к каждому ее слову и при решении каждого сколько-нибудь важного вопроса терпеливо ждали, что скажет начальница. Авторитет княгини Ливен еще более усиливался тем, что она была очень близка к вдовствующей императрице, высшей начальнице всех учебных заведений ведомства императрицы Марии. Насколько она была близка к императрице, покажет следующий случай. Точно не помню, в 1912 или в 1913 г. это было. Будучи уже протопресвитером, я получил письмо от княгини Ливен, в котором она, извиняясь, что по болезни не может сама приехать ко мне, просила меня возможно скорее навестить ее, так как она очень нуждается в моем совете. Я поспешил исполнить ее просьбу. Княжна была действительно больна и. кроме того, очень взволнована предстоящим разговором со мной. Извинившись, что обеспокоила меня, княгиня просила ответить ей: должна ли она сообщить вдовствующей императрице, что главноуправляющий ведомством нечист на руку? «А у вас имеются несомненные доказательства этого?» — спросил я. «Совершенно точные, документальные», —ответила княгиня. «Тогда ваш долг — осведомить об этом императрицу. Если у нас и министры начнут заниматься хищничеством, то до чего же мы можем докатиться?» — ответил я. На следующий день княгиня была у императрицы, а на третий день был назначен новый главноуправляющий.
Когда я представлялся почетному опекуну Ермолову, он спросил меня: «Вы в какой же гимназии до этого времени преподавали?» И ему очень не понравилось, что я впервые буду преподавать в среднем учебном заведении. «Как же вы преподавать будете, если раньше не преподавали?» — спросил он. Я ответил ему, что каждый преподаватель когда-нибудь начинает.
221
Преподавание в институте и увлекало, и удовлетворяло меня: обстановка прекрасная, начальство приятное, ученицы воспитанные, внимательные, почтительные. На первых порах несколько смущало меня обязательное присутствие и на моих уроках классной дамы, следившей не только за ученицами, но и за каждым словом учителя. Но потом я привык к этому, вернее перестал обращать внимание на присутствие классной дамы. Был всего один случай столкновения — и то молчаливого — с классной дамой. Объясняя в 5-м классе вторую половину 4-й заповеди Закона Божия: «Шесть дней делай и сотвориши в них вся дела твоя», я коснулся вопроса о труде. «У нас, — разъяснял я, — совершенно неправильно различают труд белый и труд черный, под первым разумея умственный, а под вторым всякий ручной, физический труд, причем к первому относятся с почтением, а ко второму — с презрением. Между тем по христианскому учению всякий честный труд, будет ли он умственным или физическим, заслуживает уважения. Иисус Христос занимался плотничеством. апостол Павел делал палатки. Надо по-иному различать труд: труд полезный и честный — его надо считать благородным и почтенным, труд вредный и бесчестный — он всегда заслуживает отвращения, кто бы и как бы им ни занимался». В классе в это время сидела пожилая и совсем незлая классная дама — Толстая. Ей мои рассуждения не понравились. Сначала она строго посмотрела на меня, а после того, как я не обратил внимания на ее взгляд, нервно вскочила со стула и выбежала из класса. Это она побежала жаловаться начальнице. Но княгиня Ливен ни единым словом не обмолвилась мне об этом. Тогда мои суждения не одной Толстой могли показаться революционно-преступными. А теперь вот все смолянки, оказавшись в эмиграции, не брезгуют черным трудом и не считают, что он позорит их.
Не ограничиваясь преподаванием уроков в классах, я почти во все воскресные и праздничные дни часам к семи вечера приходил то в один, то в другой класс и там вел со своими ученицами беседы на разные житейские темы. Я садился на стул, а они усаживались на полу около меня. После беседы я обыкновенно ужинал с ними. Мои беседы очень нравились моим ученицам. Начальница и классное дамы благосклонно относились к ним, и классные дамы даже не присутствовали на них.
В 1910 г. я отказался от уроков в Смольном институте по двум причинам: во-первых, я получил лекции в Санкт-Петербургском филологическом институте, а во-вторых, новый штатный законоучитель священник Василий Константинович Серебренников, ничем, кроме института, не занятый, мог обходиться без моей помощи.
В начале мая 1910 г. скончался одряхлевший протопресвитер А.А. Желобовский. На его место был назначен протоирей
222
Е.П. Аквилонов. По внешнему виду атлет — высокого роста, плотного сложения, широкоплечий, с громовым голосом, он мог производить впечатление человека с несокрушимым здоровьем. На самом же деле страшный недуг подтачивал его. За два месяца пред его назначением известный петербургский хирург Карл Антонович Вальтер удалил сильно безобразившую его лицо саркому. Лет десять перед тем молодая жена Аквилонова скончалась от саркомы.
Отношение протоиерея Е.П. Аквилонова ко мне после назначения его протопресвитером не изменилось. Не иначе как по его указанию депутация Кавалергардского полка просила меня перейти на службу в их полк, прельщая меня тем, что место настоятеля церкви их полка является этапом к протопресвитерству: оба протопресвитера — и Желобовский, и Аквилонов — вышли из настоятелей их церкви. Я ответил депутации, что совесть моя не позволяет мне изменить Суворовской церкви, а если же будет на то воля Божия, чтобы я стал когда-либо протопресвитером, то и Суворовская церковь может послужить этапом к протопресвитерству.
В июне 1910 г. протопресвитер Е.П. Аквилонов предложил мне место нештатного члена Духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства. «К сожалению, — сказал он, — штатные места членов правления заняты. Удовлетворитесь этим. Мне нужно, чтобы вы были поближе ко мне. А быть штатным или нештатным — это не имеет значения. Они во всем равны». Я согласился.
Вскоре после этого начальник канцелярии Духовного правления, несомненно, с ведома протопресвитера, спросил меня, соглашусь ли я занять место настоятеля Троицкого лейб-гвардейского Измайловского полка собора. Это место могло прельщать меня: обширное поле работы, огромный, требовавший больших забот храм, прекрасная готовая квартира, наконец, настоятельское место в столичном соборе, сверх меры материально обеспечивавшее меня. Но меня такие крепкие духовные узы связывали с Суворовскою церковью и Военной академией, что я и на это предложение ответил отказом.
В конце августа того же года протопресвитер Аквилонов обратился ко мне с новым предложением: занять его место преподавателя богословия в Императорском историко-филологическом институте, от которого он, по своему новому положению, должен был отказаться. Предложение это было очень заманчивым: место профессорское, жалованье — за две лекции в неделю 2000 рублей в год. Но предложение было слишком неожиданным, я считал себя неподготовленным к чтению лекций и заявил протопресвитеру, что не могу принять этого почетного и лестного предложения, так как не считаю себя достаточно сильным, что-
223
бы оправдать его рекомендацию. «Тогда вот что! — сказал мой покровитель. — Вот вам бумага и перо! Садитесь и пишите прошение на имя нашего общего друга директора института академика Василия Васильевича Латышева о предоставлении вам лекций по богословию в институте! Я лучше вас знаю, достаточно ли вы сильны для этого дела. Завтра же лично передайте прошение Латышеву!» Мне пришлось подчиниться.
Академик, большой знаток греческого языка и греческой литературы В.В. Латышев был моим добрым знакомым. Ласково встретив меня и приняв мое прошение — это было 29 августа, — он сообщил мне, что на богословское место в его институте просятся пять магистров, что для него лично Самым желательным являюсь я, но что окончательный выбор зависит не от него, а от профессорской коллегии института, которая 31 августа произведет выбор. Я ушел от Латышева, молясь в душе, чтоб Господь избавил меня от намеченной мне моим начальником участи.
1 сентября пред обедом я получил телеграмму: «Поздравляю с избранием. Прошу начать чтение лекций 3 сентября. Латышев». Холодный пот покрыл мое тело. Когда я, вспоминая охватившее тогда меня настроение, пытаюсь найти нечто другое подобное в моей жизни, то мне вспоминается жуть, пережитая мною в ночь на 1 мая 1904 г. в железнодорожной опочивальне на ст. Ташичао. Совершенно разные причины и разные ощущения, но жуть, произведенная ими, приблизительно сходная. Моя неготовность к чтению лекций приводила меня в ужас. Я тотчас отправился к В.В. Латышеву, чтобы поблагодарить его за назначение — этого требовал долг — и просить у него отсрочки. Он разрешил мне через две недели начать свою ответственную службу.
Начавшийся учебный год был самым трудным во всей моей жизни. При множестве других занятий еженедельно приготовлять две лекции — это требовало от меня неимоверного напряжения и усидчивости. Большинство моих слушателей были окончившими курс духовных семинарий, следовательно, достаточно подготовленными к слушанию серьезных богословских лекций. И я на каждую лекцию шел с замиранием сердца. Только в эмиграции от одного из своих институтских слушателей, Ивана Федоровича Абрамова, я узнал, что студенты института были довольны моими лекциями.
Когда я поблагодарил протопресвитера за состоявшееся назначение, в котором было большое его участие, и при этом заявил, что новая моя должность будет мешать мне аккуратно исполнять обязанности члена Духовного правления, так как совпадают часы заседаний правления и моих лекций, он утешил меня, что это не заслуживает внимания. Каково же было мое удивление, когда после его кончины, разбирая его бумаги, я в его записной книжке нашел записи решительно всех моих опозда-
224
ний на заседания правления, когда на 20, когда на 25 минут. Оригинальный человек был о. Евгений Петрович!
Моя общественно-благотворительная деятельность проявлялась в моем участии в двух организациях: в 10-м столичном Попечительстве о бедных и в Скобелевском комитете для оказания помощи раненым и увечным воинам.
Председателем 10-го отдела столичного Попечительства о бедных был гофмейстер Борис Михайлович Якунчиков. женатый на княжне Варваре Александровне Ширинской-Шахматовой, служивший обер-секретарем в Канцелярии Государственного Совета, бездетный, религиозный, добрый и очень богатый человек. живший в собственном особняке на Кирочной улице, напротив Мариинского института, вблизи от Суворовской церкви. На членах правления нашего отдела, кроме участия в заседаниях. обсуждения нужд и распределения пособий, еще лежало обследование нужд просителей, проверка их прошений и изложенных там обстоятельств. Последнее являлось не особенно приятной, но крайне интересной работой, дававшей возможность знакомиться с бытом столичной бедноты, с уловками столичного босячества, чрезвычайно изобретательного в выпрашивании подачек, в обманах добродушных благотворителей, в инсценировании своих бед и несчастий. Обследуя прошения, я постоянно наталкивался то на трогательные примеры смиренного терпения и незлобия при самой ужасающей нужде и нищете, то самого нахального жульничества, тунеядства, особого ухарства в выкачивании монет из карманов милосердных россиян. Приведу несколько примеров.
Мне поручено обследовать степень нужды супругов X, подавших прошение о помощи. Они живут на Тверской улице почти рядом со старообрядческой церковью, занимая маленькую сырую подвальную комнатку. Оба старенькие, одетые бедненько, но чисто. Чистенько и в их убогой комнатке. В восточном углу иконостасец, пред которым круглые сутки горит лампадка. А у самих не хватает постного масла, чтобы подправить свою нищенскую еду. Живут на гроши, выручаемые от продажи щеток, делаемых ими. Живут впроголодь, но утешают себя тем, что другим живется еще хуже. Они удивлены, что от них поступило прошение, которого они не подавали. «Это, наверное, написал и подал наш знакомый П. Хороший человек, а как некрасиво поступил», — оправдывалась старушка. Когда дня через три я принес им пособие, они сначала отказывались принять его, «потому что есть более бедные», а потом со слезами благодарили меня.
А вот иного рода экземпляры. Суворовскому, Литейному и Невскому проспектам хорошо известен был «несчастный» Ванька безногий, сновавший по этим улицам. Он передвигался, сидя на низенькой, специально для него устроенной, на маленьких коле-
225
сиках платформе, поджав под себя ноги и упираясь деревяшками. Все сочувствовали этому несчастному, по лицу и туловищу здоровеннейшему мужчине. Наше попечительство ежемесячно выдавало ему пособие. Однажды, идучи в церковь, я увидел, что Ванькина тележка у самых академических ворот попала в выбоину, из которой он не может выбраться, и поспешил к нему на помощь. Когда я нагнулся к нему, на меня пахнуло сильнейшим спиртным перегаром. Ванька мой еще не отрезвел после вчерашней попойки, а был уже 10-й час утра. На первом же заседании попечительства я доложил об этом, после чего было поручено молодому и энергичному члену правления произвести самое тщательное расследование о Ваньке. Расследование установило интересные факты. Ванька каждый день возвращался в свою квартиру (№70 или 72 на Суворовском проспекте) вечером с хорошей добычей, собрав за день не менее трех рублей, а чаще гораздо больше. К его возвращению собирались его знакомые обоего пола, и начинался пир с обильной закуской, возлиянием и танцами. Ванька переставал быть безногим и лихо отплясывал русскую, казачка и другие танцы. Пир продолжался за полночь, а утром Ванька опять отправлялся на добычу. Попечительство прекратило помощь Ваньке, а он, опасаясь иных последствий расследования, переселился в отдаленный район.
Мне было поручено произвести расследование о материальном положении «семейного, безработного и больного» В., жившего на той же Тверской улице. Я поспешил отыскать его квартиру. Чердачное убогое помещение. Он благообразный, очень худой, ни кровинки в лице, чрезвычайно убого одетый. Она миловидная истощенная женщина лет 25. Двое миленьких, тоже истощенных деток. Он объяснил мне, что проболел шесть месяцев и был уволен со службы, хоть и считался очень хорошим мастером, теперь его приняли бы на службу, но у него нет ни одежды, ни обуви. Жена, потупив глаза, молчала. Сознаюсь, что и он произвел на меня очень хорошее впечатление. В тот же день о своем расследовании я доложил Б.М. Якунчикову. Он пообещал из собственного гардероба одеть и обуть несчастного человека, о котором я производил расследование. На следующий день я получил от Якунчикова большой узел, в котором находились совсем новенькие пальто, костюм, нижнее белье и ботинки. Я немедленно отослал узел нашему бедняку, а дня через три пошел осведомиться, поступил ли он на службу. Самого В. не оказалось дома. Увидев меня, жена его заплакала: «Батюшка! Он обманывает вас, — обратилась она ко мне. — Он не был болен. Уволили его со службы за леность и картежную игру. Все проигрывает. Ваши вещи уже проданы и, наверное, проиграны — со вчерашнего дня его нет дома. Дети сидят без хлеба, а ему хоть бы что. Несчастные мы!» Попечительство помогло несчастной женщине.
226
Каждый день можно было видеть стоящего с протянутой рукой на углу Инженерной и Садовой улиц благообразного старичка, низко кланявшегося проходящим. Сердобольные русские люди щедро наделяли его. Он тоже просил попечительство о помощи. Расследование установило, что этот «беднячок» на Малой Охте имел два собственных каменных дома и в одном из них собственный же ренсковой погреб. Взрослые приличные сыновья умоляли его бросить свое ремесло. Но оно стало для него спортом, от которого он не мог отвыкнуть.
Да! Трудное это благотворительное дело. К нищете и горю очень часто присосеживаются ложь, обман, жадность и всякая фальшь, и требуются большие внимательность и проникновенность, чтобы отличать истину от лжи, действительную нужду от страсти к наживе. И все же я с особым удовлетворением вспоминаю о своей работе в 10-м столичном Попечительстве, которым было утерто много горючих слез.
Гораздо серьезнее было мое участие в работах Скобелевского комитета помощи увечным и раненым воинам. Председательницей этого комитета состояла родная сестра генерала М.Д. Скобелева — княгиня Надежда Дмитриевна Белосельская-Белозерская. Фактически же возглавлял комитет товарищ председательницы — начальник Академии Генштаба генерал-лейтенант Дмитрий Григорьевич Щербачев, в конце 1906 г. заменивший генерала Михневича, назначенного начальником 24-й пехотной дивизии61.
Генерал Генштаба Д.Г. Щербачев не был мужем науки. Это был строевой начальник, хороший администратор и обаятельный человек, всегда благодушный, открытый, приветливый, ко всякому внимательный и отзывчивый. В его лице Скобелевский комитет нашел энергичного и талантливого руководителя. Я в Скобелевском комитете до 1909 г. не принимал участия. В этом же году генерал Щербачев сообщил мне, что Скобелевский комитет избрал меня своим членом. По тому времени, этим было оказано мне большое внимание. Когда я сказал генералу, что такая честь не заслужена мною, он ответил: «Вы сумеете заслужить».
Деятельность Скобелевского комитета состояла в том, что разными путями собирались членские взносы по 25 рублей в год и собранные деньги раздавались разным пострадавшим на войне воинам. Беседуя однажды с генералом Щербачевым, я сказал ему, что такого рода деятельность я считаю недостаточной и малополезной: 10-20 рублей ненадолго могут облегчить несчастную участь воина, которому надо так помочь, чтобы он прочно стал на собственные ноги. «Что же вы сделали бы?» — спросил генерал Щербачев. «Большинство наших воинов — безземельные или малоземельные, их надо наделить землею и помочь им обзавестись всем необходимым для хозяйства. Для неспособных к
227
сельскому хозяйству надо устраивать инвалидные дома с разными мастерскими, в которых эти воины могли бы зарабатывать себе кусок хлеба», — ответил я. «Легко это сказать; наделять землею. А где же взять землю?» — возразил генерал Щербачев. «А мало ль у нас на Руси помещиков, которые без всякого ущерба для своего благосостояния могли бы пожертвовать для этой цели по 200, 300, 500 и даже по тысяче десятин? Взять, к примеру, зятя нашей председательницы князя Кочубея. Что стоило бы ему отрезать хороший кусочек от своей Диканьки?» — ответил я. «Надейтесь! Если б вы знали, какого труда мне всякий раз стоит выуживать у него членский взнос — 25 рублей. А вы хотите, чтоб он пожертвовал сотню-две десятин земли. Мало я надеюсь и на других помещиков. Попробуйте-ка получить от кого-либо!» — ответил генерал Щербачев.
Летом 1910 г. я более недели провел в местечке Паричах Бобруйского уезда Минской губернии у своего сродника Семена Александровича Гнедовского, в то время состоявшего инспектором Паричского женского епархиального училища. Там я познакомился с богатейшей паричской помещицей, уже пожилой и. насколько помню, бездетной женщиной. В ее имении было около 60 тысяч десятин земли. Все местечко стояло на ее земле. Я в беседе с нею завел речь о Скобелевском комитете, о его высокопатриотической работе, о его плане обеспечивать пострадавших на войне воинов не только денежными пособиями, но и земельными наделами. о надежде комитета, что русские помещики откликнутся на его призыв и отделят от своих больших имений кусочки земли для жертвовавших своей жизнью воинов и так далее. Своей речью я разжалобил помещицу. «А сколько вы хотели бы получить от меня земли для комитета?» — спросила она. «Комитет был бы очень благодарен вам. если бы вы подарили ему 100-150 десятин», — ответил я. «Хорошо! Скажите комитету, что я даю 150 десятин земли», — сказала она. «Маху дал! Она дала бы и 500 десятин, если б я назвал такую цифру», — подумал я.
Генерал Щербачев был в восторге, когда я. вернувшись в Петербург, сообщил ему о паричской жертве. Ему в мое отсутствие также удалось выпросить два участка земли, один в 15, а другой в 20 десятин. Таким образом было положено начало земельному фонду Скобелевского комитета. В скором времени мне удалось гораздо большее.
В начале сентября 1910г. учительница французского языка в гимназии принцессы Ольденбургской обратилась ко мне со следующей просьбой. Ее родственница, очень богатая помещица Симбирской губернии Варвара Александровна Веретенникова, желает пожертвовать свое имение в Симбирской губернии в 1350 десятин земли со всем живым и мертвым инвентарем на какое-либо доброе дело. Монахи соседнего монастыря убеждают ее
228
отдать имение монастырю. Веретенникова — очень религиозная женщина: вся ее комната уставлена иконами: она не прочь пожертвовать свое имение монастырю, но ей хочется узнать мое мнение по этому вопросу. Я обещал дать ответ чрез два-три дня.
В назначенный день опять явилась ко мне учительница. Я представил ей все доводы в пользу того, что В.А. Веретенникова должна отдать свое имение только Скобелевскому комитету. Монастыри наши не умеют пользоваться как следует имеющимися у них богатствами. Если, получив Веретенниковское имение. монахи того монастыря начнут питаться не простой рыбой, а осетриной, стерлядью и прочими дорогими рыбами, от этого не будет пользы ни для души Веретенниковой, ни для Родины. Скобелевский же комитет делает святое дело: он печется о тех сирых героях, которые приняли раны и увечья, потеряли способность к труду, защищая Родину, а следовательно, и каждого из нас. Долг каждого гражданина своей Родины — заботиться об этих героях. И В.А. Веретенникова сделает святое дело, пожертвовав свое имение для обеспечения наших страдальцев. В заключение я спросил: пожертвование Веретенниковой имения не нарушит ли прав каких-либо ее родственников? Моя собеседница ответила, что у Варвары Александровны имеется только два наследника: дочь, уже обеспеченная ею, и брат, служащий в Петербурге маленьким чиновником, который ничего не имеет против пожертвования этого имения. Мои доводы очень понравились собеседнице, и она обещала мне передать все Веретенниковой и о впечатлении, произведенном на нее, тотчас известить меня.
На следующий день я получил ответ: В.А. Веретенниковой очень понравился мой совет. В ночь пред сообщением ей моих соображений она видела во сне святого Иоанна Воина, который сказал ей: «У тебя нет моей иконы, ты должна приобрести ее». Веретенникова увидела в этом указание, что она именно воинам должна послужить своим имением: теперь она желает познакомиться и лично побеседовать со мной. На следующий день я навестил Веретенникову.
В.А. Веретенникова явно принадлежала к числу тех женщин, которые в большей или меньшей степени страдают истерией на религиозной почве. Их у нас называют свечкодуйками, кликушами и иными странными именами. Они набожны, усердно посещают церковные службы, непременно имеют своих кумиров в духовном мире, чаще всего в архиерейском сане, верят снам и всяким приметам: они жертвенны и фанатичны, мелочны и обрядоверны. Беседуя с Веретенниковой, я заметил, что она, с ног до головы оглядывая, изучает меня. Улыбка ни разу не появилась на ее лице, она более походила на мумию, чем на живого человека. Больше она говорила о снах, об иконах, чем о нашем деле. Но все же обмолвилась, что мой совет ей очень понравился и святой
229
Иоанн Воин одобрил его. Принципиально она согласна отдать свое имение Скобелевскому комитету, но все же хочет предварительно ближе познакомиться с деятельностью этого комитета. На этом закончился наш разговор. От учительницы я потом узнал, что и я, и мои рассуждения Веретенниковой понравились.
Доселе я не сообщал генералу Щербачеву о своих переговорах, теперь же доложил ему. «Вы, вероятно, во сне все это видели», — сказал, улыбнувшись, он. «По совести сказать, и сам я плохо верю, что Скобелевский комитет может получить такое богатство. Но я должен был доложить вам о том, что может сбыться. Пока пусть будет это между нами, чтобы, если Веретенникова раздумает, не смеялись над нами», — сказал я. Так мы и хранили эту тайну, скрывая ее даже от председательницы комитета.
Веретенникова несколько раз уезжала в свое имение и опять возвращалась в Петербург. Возвратившись, она каждый раз встречалась и беседовала со мною, от обещания отдать имение комитету не отказывалась, но передачу все оттягивала. А генерал Щербачев при каждой встрече со мной спрашивал: как обстоит дело с имением? Мне наконец надоела такая медлительность, и я своей горячностью чуть было не провалил дело. В январе 1911 г. у меня в разговоре с Веретенниковой вырвалась неосторожная фраза: «Довольно, Варвара Александровна, водить нас за нос! Если вы не хотите подарить комитету свое имение, скажите нам прямо! А то над нами начинают смеяться». Старуха обиделась, увидев в моей фразе некоторое насилие над нею. Когда я рассказал об этом генералу Щербачеву. тот сразу смекнул, в чем дело, «туг, несомненно, — сказал он, — крутит ее брат, ему хочется сорвать с нас что-нибудь. Придется дать. Вам теперь делать там нечего, вы главное сделали. Теперь надо напустить на жертвовательницу секретаря нашего комитета капитана Левошко. Он сумеет поладить и с нею, и с ее братом». Я познакомил капитана Левошко с Веретенниковой и сам после этого отстранился от дела.
30 марта 1911 г. В.А. Веретенникова совершила купчую крепость на передачу Скобелевскому комитету ее симбирского имения со всем его инвентарем. Ее и меня Скобелевский комитет провозгласил своими почетными членами. 30 марта этого же года я был представлен на должность протопресвитера военного и морского духовенства. Это было как бы наградой за мою заботу о наших сирых героях. По-земному, эти два события не стояли ни в какой связи. Но ведь кроме видимых связей есть невидимые, не замечаемые и не постигаемые нами...
Теперь возвращусь к семейным переживаниям послевоенного времени. Ежегодно по окончании учебных занятий в академии в Суворовской церкви прекращались богослужения, и я получал отпуск до 14 августа, после чего уезжал на родину, в г. Витебск. В 1906 г. я с особым удовольствием отправился в родные края.
230
чтобы там соединить приятное с полезным: увидеть родные места и родные лица и позаниматься в витебских архивах. Пробыв некоторое время в Витебске у «дяди Сени», я отправился в село Верховье Велижского уезда, чтобы навестить своего отца, служившего псаломщиком в этом селе. Крохотное, из пяти или шести домиков, с. Верховье было расположено на правом, высоком берегу реки Западной Двины, в 60 верстах от г. Витебска, в 20 — от Велижа. Сообщение между ним и этими городами пароходное. Отца я с 1903 г. не видел.
Отец встретил меня с чрезвычайной радостью. Мой приезд был не просто приездом сына: по его понятию, я — петербургский протоиерей, георгиевский кавалер — был большим духовным лицом, пред которым стушевывался его начальник, настоятель Верховской церкви. Здороваясь со мной, он не позволил мне поцеловать его руку. Мое прибытие ободрило, воодушевило его. так как перед моим приездом его постигли большие служебные неприятности по поводу неладов со священником.
Священником села Верховья был тогда Николай Осипович Хруцкий, на три класса младший меня по Витебской духовной семинарии, человек незлой, даже, можно сказать, добрый, но в высшей степени беспорядочный и оригинальный, даже дикий. Его любимыми развлечениями и — смешно сказать — занятиями были бешеная верховая езда и речной спорт. То сняв подрясник. в одной рубашке, он верхом на лошади бешено скакал по полю. то в устроенной им самим, двигавшейся при помощи колеса лодке он странствовал по реке Двине, встречая и обгоняя пароходы. К этим двум его увлечениям присоединялось третье: он не был алкоголиком, но не умел соблюдать меру в употреблении хмельного пития.
Отношения между о. Хруцким и моим отцом были весьма странными: то они трогательно дружили, то скандально ссорились. Мой приезд совпал с самым острым периодом их ссоры, в которую вмешалась даже консистория, назначившая расследование. Я хорошо знал о. Хруцкого с дикостью его нрава, но и отца я не мог считать во всем правым. Совсем не надеясь, что можно установить прочный мир между ними, я, однако, попытался прежде всего смягчить гнев отца, но встретил тут решительное противодействие. «Говоришь примириться. Разве можно с ним примириться? Попробовал бы ты послужить с ним! Когда мы не в ссоре, он каждое утро заглядывает ко мне. Не успеет двери открыть, как уже кричит: «Иван Иванович! Налей-ка рюмку водки!» Не нальешь — выругается. А чтоб меня когда-либо угостил — этого никогда не бывает. А в поминальные дни... С каждого поминанья нам остается булка хлеба, и собирается таким образом по сто и более хлебов. Ты же знаешь, что мне полагается четвертая часть. Что же он делает? Разложит хлебы на четыре части и все
231
худшие соберет в одну и эту худшую оставит мне...» «Стоит ли из-за таких пустяков заводить такую ссору? Я вознагражу вас и за хлебы, и за выпитые о. Хруцким рюмки». — сказал я. Отец обиделся: «Ученый ты человек, а не хочешь понять, что дело тут не в хлебах и не в рюмках... А в правде... Не переношу неправды, не могу мириться с нею... Кто не живет по правде, тот для меня не человек...» «Все же он священник, ваш начальник, которому вы обязаны оказывать должное почтение», — продолжал я совестить отца. «Священник... начальник... почтение ему оказывать... Известное дело: поп за попа тянет!» — возмутился отец. Я больше не касался этого вопроса.
В Витебске мне пришлось разрешать более острый и деликатный вопрос. Еще в марте я заметил, что моя дочь воспитывается не в моем духе. И «дядя Сеня», и его жена Мария Ипатьевна души не чаяли в ней. Моя Маруся, или, как они звали ее, Машурка, стала кумиром этой семьи, которому все обязаны были служить. Машурке ни в чем не отказывалось, все разрешалось: приглашавшиеся к ней дети должны были угождать ей. исполнять все ее прихоти. Все это очень обеспокоивало меня. Я страшился мысли, что при таком воспитании моя дочь станет эгоисткой, привыкшей, чтобы ей служили, и не желающей служить другим. Мои опасения подтвердила мать дяди Сени Анна Осиповна.
Вдова священника Анна Осиповна Гнедовская, семидесятилетняя. но физически чрезвычайно здоровая старуха, обращала на себя внимание. Очень плотная, всегда неряшливая, любившая сытно-жирно и сильно поесть, вдоволь поспать, жила на полном иждивении своего сына — дяди Сени. Единственными ее занятиями были раскладывание пасьянсов, чтение сердцещипательных романов и игра в винт. Ради игры в винт она готова была жертвовать всеми прочими своими привязанностями, не исключая сна и еды. Ела Анна Осиповна некрасиво, причмокивая: руками разрывала вареное мясо, отчего руки ее всегда лоснились от остававшегося на них жира. Говорила Анна Осиповна по-простонародному, выражалась очень красочно и метко — в наблюдательности и уме нельзя было отказать ей. Однажды она обратилась ко мне: «Давно собиралась я поговорить с тобой о Машурке. Ты уж не обижайся на меня, старуху, если я скажу тебе что-либо неприятное. Видишь ли ты, что Машурку воспитывают совсем не так, как надо? Я же знаю тебя и твои взгляды: ты хочешь жить не для себя только, но и для других. А дочку твою воспитывают эгоисткой: все для Машурки, все должны служить ей. А она — девочка умная — поняла это и начинает злоупотреблять своим положением. Присмотрись сам и убедишься, что воспитание твоей дочки идет по опасному пути, их дурацкая любовь непременно изуродует ее». И так далее. Бонна-француженка приблизительно то же, только осторожнее высказала мне.
232
Я чрезвычайно ценил все сделанное моими родственниками для моей дочки, видел их необыкновенную любовь и привязанность к ней, понимал, что отнять ее у них значило безгранично огорчить их. Я начал осторожно подготовлять их. высказывая, что мне хотелось бы, чтобы моя дочка получила воспитание в одном из петербургских институтов, что это не лишило бы их общения с нею: каникулы она проводила бы у них и они могли бы от времени до времени посещать столицу, что для них не было бы лишним и скучным. Умный дядя Сеня соглашался с моими доводами, но видно было, что он и его жена чрезвычайно тяжело переживают предстоящую разлуку.
В августе дочка уехала со мной в Петербург. Там я определил ее в Мариинский институт как в самый близкий к моей квартире. Через год у меня явилось желание перевести ее в Смольный институт, где я преподавал Закон Божий. Я высказал свое желание начальнице княгине Ливен. «Батюшка! — ответила она. — Вы знаете, с каким уважением я отношусь к вам, и должны поверить, что мне очень приятно было бы исполнить вашу просьбу. Но... устав нашего института не позволяет мне исполнить ее: по уставу в наш институт принимаются дети штатских отцов не ниже чина действительного статского советника и военных — не ниже полковника, командира отдельной части. Вы не подходите ни под ту, ни под иную категорию». «Нельзя так нельзя, — сказал я. — Меня только одно смущает: я могу учительствовать в вашем институте, а дочка моя не может учиться в нем. Немножко странно это». «Хотите, — поправилась княгиня, — я попрошу императрицу Марию Феодоровну? Она, наверное, разрешит сделать для вас исключение». Но я отказался от всяких исключений.
Осенью в 20-х числах ноября я получил телеграмму, извещавшую меня о смерти отца. Старик умер в Витебской городской больнице. До последней минуты оставался в полном сознании. За несколько минут до смерти завещал брату моему Василию, не отходившему от его постели: «Вы же хорошенько похороните меня. После похорон обязательно закусочку устройте!» Я немедленно выехал в Витебск. Похоронили очень торжественно и, конечно, исполнили предсмертное желание почившего.
Как я сказал выше, после смерти о. А.А. Желобовского в начале мая 1910 г. на должность протопресвитера военного и морского духовенства был назначен протоиерей профессор Е.П. Аквилонов. Хирург К.А. Вальтер за два месяца пред его назначением так удачно оперировал его, что от безобразившей его лицо огромной опухоли не осталось и следа. Но болезнь продолжала делать свое дело. Скоро на лице и на голове появилась опухоль, с каждым днем увеличивавшаяся. Все принимавшиеся лучшими врачами столицы меры оказывались бесполезными. Несчастный больной перешел на знахарские средства. Кто-то посоветовал ему пить
233
как можно больше лимонного соку, постепенно увеличивая порцию. Он дошел до 35 лимонов в день. Помощи и лимонный сок не оказывал. Опухоль все росла: левая щека все больше вздувалась и синела, на правой верхней части головы вырос большой рог, на котором шапка, как на колышке, сидела. Когда мне случалось, что в течение недели я не видел больного, я с ужасом замечал происшедшую за эти семь дней перемену в нем. Ужас был в том, что он понимал свое положение, свою обреченность, чувствовал, что его могучий организм с каждым днем слабеет, физические силы сдают, и бросался на все, что казалось могущим спасти его. Кто-то сказал ему, что в г. Козлове Тамбовской губернии есть какой-то «чудотворец», при помощи каких-то компрессов и припарок исцеляющий больных раком и саркомой. Протопресвитер Аквилонов бросился туда. На Николаевском вокзале собралось масса провожающих. Это было в половине марта 1911 г. С того времени прошло 37 лет, а у меня и сейчас стоит пред глазами страшная картина этих проводов. Вот на перроне вокзала появилась огромная фигура протопресвитера. Он идет бодро, даже улыбается, старается каждому сказать что-либо ласковое. Но вид его ужасен: левая щека синяя, шапка не на голове, а над головой: мальчишки пальцами указывают на него и смеются: у провожающих грустный вид, хоть и стараются они утешать отъезжающего: все понимают, что сочтены дни военного протопресвитера. Раздался третий звонок, запыхтел паровоз, тронулся поезд. Расходясь, провожавшие делились думами, и некоторые убежденно высказывались, что не увидеть нам больше живым своего протопресвитера.
Жизнь идет своим порядком: одни уходят в иной мир, другие пользуются случаем, чтоб лучше устроиться в этом мире. «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий», — этими словами не надо вдохновлять людей: какими бы возвышенными идеями ни вдохновляли живущих, они не перестанут стремиться к пользованию жизнью, к лучшему устройству в ней. Когда для всех стало ясно безнадежное положение протопресвитера Е.П. Аквилонова, к его должности потянулось много рук. Кандидатами выступили: протоиерей С.А. Голубев, до Русско-японской войны бывший председателем Духовного правления, на войне — главным священником, а в данный момент — настоятелем первого в ведомстве собора Преображенского всей гвардии, украшенный митрой и орденом Владимира 3-й степени: председатель Духовного правления, настоятель Сергиевского всей артиллерии собора, магистр богословия Иоанн Васильевич Морев: 76-летний настоятель Адмиралтейского Санкт-Петербургского собора Алексей Андреевич Ставровский, с митрой, орденом Владимира 2-й степени, ставший священником в 1862 г., когда меня и на свете еще не было, и протоиереем в 1875 г., когда я еще
234
был ребенком. Это были ведомственные кандидаты. Но были еще и сторонние. Известный протоиерей Иоанн Восторгов домогался этого места. Наверное, были и другие. Каждый из этих кандидатов имел своих покровителей, сильных мира сего. Я не упомянул еще о сильном претенденте на протопресвитерское место епископе Владимире Путяте, бывшем преображенце, затем военном юристе, наконец, духовном богослове. Ему протежировали императрица Мария Феодоровна и великий князь Константин Константинович. Для всех место протопресвитера военного и морского духовенства казалось завидно-привлекательным. Оно и было в действительности таким.
В табели чинов Российской империи протопресвитер военного и морского духовенства приравнивался в духовном мире — к архиепископу. в военном — к генерал-лейтенанту. Фактически он был влиятельнее всякого архиепископа, так как лишь отчасти был подчинен Святейшему Синоду, непосредственно же — государю императору: в то время как архиепископы и даже митрополиты редко удостаивались чести беседовать с царем, протопресвитер имел возможность докладывать царю при каждой с ним встрече, а встречался он с ним почти каждую неделю: в случае несогласия с Синодом протопресвитер мог апеллировать к царю и царское решение затем сообщать Синоду. Интересна была и протопресвитерская служба: он был духовным главою и армии, и флота: он направлял деятельность всех военных и морских священников, которых в мирное время насчитывалось до 750 человек, а в военное время и несравненно больше. Власти у него было больше, чем у любого архиерея, и служба его была гораздо интереснее архиерейской: он бывал участником всех в высочайшем присутствии парадов и торжеств во всех воинских и морских частях, разбросанных по всей России, он был желанным гостем: каждый архиерей был епархиальным, а протопресвитер был всероссийским: паству протопресвитера составляли все воины, к числу которых принадлежали и все великие князья: для поездок протопресвитера была открыта вся Россия: он должен был объезжать части своей великой паствы, наблюдать, изучать ее нужды, контролировать, направлять работу подчиненного ему духовенства. Обращая внимание на широту и ответственность, на обстановку и условия работы, я решаюсь утверждать, что в духовном Российском ведомстве не было другой более интересной, чем протопресвитера военного и морского духовенства, должности. Правда, любителей тленных благ эта должность могла не удовлетворять материальной своей стороной: в то время как архиепископы виднейших кафедр получали десятки тысяч, а Киевский митрополит — до 100 тысяч рублей в год, при обеспечении их за счет монастырей решительно всем необходимым, протопресвитеру военного и морского духовенства полагалось 10 тысяч рублей в год — 8 тысяч жалова-
235
нья и 2 тысячи квартирных62. Но. во-первых, при нешироком образе жизни этих средств доставало, а во-вторых, если бы протопресвитер начал нуждаться, правительство нашло бы способ помочь ему.
Для военного или для морского священника должность протопресвитера являлась вершиной его достижений, превращавшей его из подчиненного в облеченного всей полнотой власти над целым ведомством начальника. Неудивительно, что самые видные протоиереи тянулись к этой должности, стараясь использовать все свои связи,
О себе искренно скажу, что во время болезни протопресвитера Е,П, Аквилонова мне и в голову не приходило считать себя кандидатом на должность протопресвитера. Правда, я уже имел довольно солидную репутацию: любимого академией и прихожанами пастыря, хорошего проповедника, удачного сотрудника журнала «Сельский Вестник», боевого священника и энергичного главного священника. Начальник академии генерал Щербачев сообщал мне, что государь помнит меня и что ему очень понравилась одна из моих проповедей, напечатанная в «Военном инвалиде»; офицеры Генштаба разных, не исключая и очень высоких, рангов относились ко мне с большим вниманием. Но всего этого недостаточно было для того, чтобы я мог считать себя кандидатом на высокою протопресвитерскую должность. А далее шли минусы: из пяти членов Духовного правления я был последним и притом нештатным, я всего десять лет служил в ведомстве, я был одним из самых молодых петербургских военных священников, мне только что кончилось сорок лет — возраст, тогда считавшийся совершенно недостаточным для занятия протопресвитерской должности; особо сильных покровителей в высших кругах у меня не было. Оказалось же, что тот же о. Е.П. Аквилонов, быстро продвигавший меня вперед, и тут сделал свое дело, чтобы дальше продвинуть меня.
Вечером 25 марта 1911 г., в праздник Благовещения, во время моей беседы с одним из моих классов в институте швейцар доложил. что какой-то священник желает видеть меня по какому-то экстренному делу. Священником этим оказался мой брат Василий, студент последнего курса Санкт-Петербургской духовной академии. Он сообщил мне, что у нас на квартире ждет меня протодиакон церкви Кавалергардского полка Николай Константинович Тервинский, прибывший по поручению великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего Санкт-Петербургским военным округом. Тервинский сообщил мне следующее: «Вчера вечером в санкт-петербургском яхт-клубе великий князь Николай Николаевич, военный министр генерал Сухомлинов и командир лейб-гвардейского Гусарского полка генерал Владимир Николаевич Воейков совещались по поводу безнадежного
236
положения протопресвитера Е.П. Аквилонова, дни которого сочтены. Они признали, что нельзя оставлять ведомство без возглавителя, и решили назначить вас помощником протопресвитера с тем. конечно, расчетом, что после смерти о. Евгения Петровича вы займете его место. Если вы согласны на такую комбинацию, то завтра с восьмичасовым утренним поездом выезжайте в Царское Село. Там будут поджидать вас лошади генерала Воейкова, с которым вы продолжите разговор по этому делу. Имейте в виду, что по должности помощника протопресвитера вы не будете получать». Хоть я отнесся с большим недоверием к сообщению протодиакона, которое было для меня неожиданным и казалось фантастичным, но пообещал быть на следующий день у генерала Воейкова.
В Царском Селе на вокзале меня поджидал чудный пароконный экипаж командира лейб-гвардейского Гусарского полка, быстро доставивший меня в особняк генерала Воейкова. О генерале Воейкове я знал, что, служа в Кавалергардском полку, он состоял ктитором полковой церкви и очень дружил с Аквилоновым, но с самим генералом я ни разу не встречался. Воейков встретил меня очень ласково, выразив радость, что он знакомится со священником, о котором так много хорошего слышал от о. Евгения Петровича. Затем Воейков начал искусно интервьюировать меня о моих взглядах на Ведомство протопресвитера, на его задачи и возможности. Я со всей откровенностью отвечал на его вопросы. Должно быть, около часу продолжалась наша беседа, закончившаяся тем, что генерал Воейков признал мою программу весьма симпатичной и попросил меня помочь ему составить рескрипт великого князя Николая Николаевича на имя военного министра.
туг для ясности я должен сказать несколько слов о порядке назначения протопресвитеров военного и морского духовенства. Дело начинал главнокомандующий войсками Санкт-Петербургского военного округа, рескриптом на имя военного министра рекомендовавший кандидата. Великий князь обращался к военному министру после беседы с царем и одобрения последним избранного кандидата. По получении рескрипта великого князя военный министр просил Святейший Синод о назначении такого-то на должность протопресвитера военного и морского духовенства. Святейшему Синоду оставалось только подписаться под этим представлением. По утверждении государем синодального постановления Святейший Синод извещал нового протопресвитера о его назначении и пожаловании ему митры, если он не имел ее. Важный пост протопресвитера отражался на форме переписки. Святейший Синод, посылая протопресвитеру указы, именовал его по имени и отчеству; «Его Высокопреподобию, отцу протопресвитеру военного и морского духовенства Евгению Петровичу Аквилонову». Протопресвитер в конце своих бумаг к архиереям испраши-
237
вал молитв и благословения только у митрополитов и старейших архиепископов, а в переписке со всеми прочими архиереями пользовался шаблонной формой: «С совершенным почтением и преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою».
Итак, генералом Воейковым совместно со мной был составлен рескрипт великого князя на имя военного министра. Особый курьер тотчас же повез его в Петербург для подписи великим князем. На следующий день от военного министра поступило в Святейший Синод представление меня в помощники протопресвитера военного и морского духовенства.
30 марта, в среду 6-й недели поста (Вербной), во время часов Преждеосвященной литургии, которую я совершал в Суворовской церкви, мне сообщили, что протопресвитер Е.П. Аквилонов скончался. В тот же день военным министром было сделано новое представление меня — уже в протопресвитеры военного и морского духовенства. Как упомянуто выще, 30 марта Скобелевский комитет получил купчую крепость на симбирское имение.
Скончался протопресвитер Е.П. Аквилонов, в последние годы успевший крепко привязаться ко мне. Я потерял честного, верного и сильного друга. Конечно, никем иным, а только им впущено было генералу Воейкову, зятю министра двора генерал-адъютанта В.Б. Фредерикса, одному из очень близких лиц и к царю, и к великому князю Николаю Николаевичу, что я единственно подходящий кандидат для должности протопресвитера. За десять с небольшим месяцев его службы в должности протопресвитера ни подчиненное ему духовенство, ни армия с флотом не успели оценить высоких качеств его благородной души, а он не успел проявить себя и снискать любовь тех и других. Напротив, своими манерами, своими профессорскими привычками экзаменовать и учить каждого, даже своей ученостью он одних смущал, а других отталкивал. Духовенство видело в нем профессора и, чтоб не подвергнуться экзамену, избегало встречи с ним; военным он казался надменным, резким, недоступным, не их круга человеком. А у него были драгоценные для начальника ведомства качества: честность, беспристрастие, доброжелательность и, что являлось совсем не распространенным в тогдашнем духовном мире, стремлением привлекать в свое ведомство сильных, талантливых людей.
В том было что-то симптоматичное, если не сказать роковое, что даже такие безусловно талантливые протопресвитеры, как А.А. Желобовский, в течение 21 года управлявший Ведомством военного и морского духовенства, и еще более талантливый, многоученый и прославленный Иоанн Леонтьевич Янышев, управлявший придворным духовенством в течение 27 лет, оба имевшие полную возможность привлекать в свои ведомства самих лучших людей, после своей смерти оставили ведомство убогим в отноше-
238
нии личного состава. После смерти И.Л. Янышева (в 1910 г.), бывшего протопресвитером придворного духовенства, духовником Их Величеств и законоучителем царских детей, не оказалось в ведомстве придворного человека, способного заместить его, и он был замещен тремя лицами: протопресвитерскую должность занял престарелый (род. 9 июня 1836 г.) протоиерей Петр Афанасьевич Благовещенский, кандидат богословия; царским духовником стал протоиерей Николай Григорьевич Кедринский, кандидат богословия, вскоре оказавшийся неподходящим для должности царского духовника и замененный протоиереем Александром Петровичем Васильевым, действительным студентом академии, а законоучителем царских детей — протоиерей Александр Петрович Рождественский, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, в 1914 г. замененный тем же о. Васильевым. Но взятые вместе три заместителя Янышева не составили одного Янышева. Отец А.А. Желобовский также не оставил должным образом подготовленного заместителя. Уже то, что я, молодой, недолго служивший в ведомстве, был назначен на должность протопресвитера, свидетельствовало о безлюдье в ведомстве. Но меня же, как упомянуто выше, А.А. Желобовский лишь по принуждению принял в свое ведомство, хоть и признавал меня способным человеком. Три, так сказать, выращенные им кандидата, протоиереи С.А. Голубев, И.В. Морев и А.А. Ставровский, были безусловно слабы для должности протопресвитера военного и морского духовенства. Чем объяснить, что два столь видных протопресвитера оставили в убогом в отношении личного состава положении свои ведомства? Случайностью ли, или сознательным расчетом: чтобы ярче сиять на тусклом небосклоне? Что они ярко выделялись на фоне безлюдья своих ведомств — это несомненный факт. Но для дела требовалось, чтобы сияли не только эти два светила, но и многочисленные их спутники.
Представление меня в протопресвитеры, посланное военным министром 30 марта, не могло быть рассмотрено Святейшим Синодом, так как он в пятницу Вербной недели, 1 апреля, прекратил свои занятия, оставшийся же Малый Синод в составе четырех членов занимался только текущими делами, а серьезных вопросов, к числу которых относился и вопрос о назначении нового протопресвитера, не разрешал. Заседания Большого Синода должны были возобновиться только на Фоминой неделе. Этим двухнедельным перерывом воспользовались другие кандидаты и их сторонники, чтобы повести самую настойчивую агитацию против моего назначения. Были выдвинуты все протекции: за епископа Владимира Путяту ходатайствовали императрица Мария Феодоровна и великий князь Константин Константинович, за Голубева — очень влиятельный тогда салон графини Игнатьевой и разные кумушки, за Морева — командир царского конвоя
239
князь Юрий Трубецкой. Протоиерей Ставровский сам за себя ходатайствовал, подав рапорт морскому министру с просьбою именно его как старейшего, заслуженнейшего и достойнейшего представить в протопресвитеры. Против меня были выставлены все мои бывшие и небывшие, ведомые мне и неведомые мои грехи, пущены были в ход все влияния на власть имущих лиц и прежде всего на обер-прокурора Святейшего Синода. Если бы в то время обер-прокурором был В.К. Саблер, он, несомненно, оказался бы на стороне моих противников. Но тогдашний обер-прокурор С.М. Лукьянов, серьезнейший и честнейший человек, принял мою сторону.
В 9-м часу вечера пятницы, 22 апреля, директор Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода В.И. Яцкевич приехал ко мне, чтобы поздравить меня с назначением на должность протопресвитера: в портфеле у него лежал только что полученный высочайше утвержденный доклад Святейшего Синода о назначении меня протопресвитером с пожалованием митры. В 9-м часу утра следующего дня явился приветствовать меня мой бывший начальник на Русско-японской войне протоиерей С.А. Голубев. Меня очень тронула его служебная дисциплинированность, и я просил его не изменять наших прежних добрых отношений.
Итак, в моем служебном положении произошла колоссальная перемена. Слишком большая дистанция отделяла должность священника Суворовской церкви, как и самого заслуженнейшего протоиерея военного или морского духовенства, от должности протопресвитера. Протопресвитер был полновластным начальником всего военного и морского духовенства, большим духовным сановником, с которым считались и все архиереи, и даже Святейший Синод. Академия Генштаба гордилась, что первый настоятель ее церкви вознесен на такую высоту. Чрез несколько дней она чествовала меня прощальным обедом, за которым было произнесено много сердечнейших тостов. Мои друзья ликовали, прихожане скорбели, что я покидаю их. Деловые люди... Одни находили, что именно такого молодого, энергичного протопресвитера надо было назначить, чтобы он омолодил одряхлевшее ведомство. Другие не стеснялись мне говорить, что я слишком молод и потому незрел для должности протопресвитера. Я отвечал им: кто к сорокалетнему возрасту не созрел, тот никогда не созреет. Мой бывший профессор Антон Владимирович Карташов сказал мне, что я так шагнул, как не шагал и Московский митрополит Филарет.
Я лично не мог быть не польщен высоким назначением. Но меня чрезвычайно смущали предстоявшая мне широкая и ответственная протопресвитерская деятельность, к которой я не считал себя подготовленным: возможность противодействия мне со стороны распущенного и зазнавшегося петербургского военного и
240
морского духовенства, в огромном большинстве с завистью и недоброжелательством встретившего мое назначение, неизбежность упорной и небезболезненной борьбы с беспорядками и неустройствами, укрепившимися в ведомстве; наконец, опасение, что, будучи одним из самых младших петербургских военных священников, я не сумею установить должных отношений с подчиненным мне духовенством. Жаль мне было, кроме всего этого, покидать свою Суворовскую церковь, мною благоустроенную, академию и паству, с которыми у меня установились прочные духовные узы, расставаться со своими удивительными сослуживцами: ктитором церкви генералом А.А. Даниловским, старостой В.П. Крутовым, псаломщиком А.В. Львовым, которые за десять лет совместной службы стали для меня родными, дорогими людьми.
26 апреля мною был получен синодальный указ о моем назначении. 27 апреля я вступил в должность, посетив Духовное правление (военно-морскую консисторию), в котором до вчерашнего дня я числился нештатным пятым, последним членом. Оставалось переехать в протопресвитерскую квартиру.
Огромная протопресвитерская квартира помещалась в доме вдов и сирот военного духовенства, на углу Воскресенского проспекта и Фурштадской улицы. Мои предшественники пользовались ею бесплатно, квартирные деньги (2 тысячи рублей) оставляя у себя. Ремонт квартиры, освещение и отопление производились за счет сиротского капитала. Заведовал сиротскими домами протоиерей Иван Иванович Невдачин, настоятель Троицкого лейб-гвардейского Измайловского полка собора, тотчас же предложивший мне произвести полный ремонт квартиры и особенно настаивавший на нем, «потому что протопресвитер Аквилонов жил в ней, будучи больным заразительной болезнью». Я решительно отказался от какого бы то ни было ремонта, так как на собственные средства произвести его не мог, а тратить сиротские деньги на ремонт протопресвитерской квартиры не мог позволить. 1 мая я переехал в протопресвитерскую квартиру, после моей небольшой, но уютной квартирки на Суворовском проспекте, против академии, показавшуюся мне несуразно великой и бездомной.
5 мая я представлялся государю императору в Александровском царскосельском дворце. Это была третья моя встреча с ним. В первый раз я встречал его 8 марта 1903 г. в Суворовской церкви при посещении им академии и давал ему объяснения о хранившихся в церкви суворовских предметов. Между прочим, к внутренней правой стене церкви была прикреплена мраморная белая плита с надписью: «Здесь лежит Суворов». Эта плита, кажется, при юбилейном в 1900 г. чествовании Суворова была снята с его могилы и заменена другою, с подробным обозначением титулов великого полководца. «Напрасно сменяли — этак лучше
241
было», — сказал император. Во второй раз я представлялся государю по возвращении из Маньчжурии в марте 1906 г. Тогда мне бросились в глаза две особенности в обращении государя с представлявшимися: 1) он легко вспоминал самые незначительные подробности и 2) его вопросы были слишком шаблонными и малоинтересными; задавая их, государь как будто стеснялся, конфузился. Тогда нас представлялось 16 человек— сухопутных офицеров и моряков, бывший начальник санитарной части 3-й Маньчжурской армии доктор Склифосовский и я. Все мы пред выходом государя были выстроены в шеренгу, и государь, обходя, беседовал с каждым из нас. После высочайшего приема нам была предложена закуска. Таков был обычай у хлебосольных русских царей.
Теперь государь принял меня в своем кабинете в том же Александровском дворце. Когда я вошел в кабинет, государь, ласково улыбаясь, поздоровался со мной. «Вот как вы шагнули!» — сказал он мне. «Так угодно было Вашему Величеству». — ответил я. «Желаю Вам полного успеха в предстоящей вам большой работе. Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие», — сказал государь. «Буду стараться. Ваше Величество, — ответил я. — Но не могу скрыть от Вас, что мне потребуется мощная Ваша поддержка. Вашему Величеству, вероятно, известно, что один из моих предшественников, протопресвитер А.А. Желобовский, в последние годы своей жизни страдал старческой дряхлостью, а другой — Е.П. Аквилонов — тяжкой неизлечимой болезнью. За время их управления ведомство пришло в значительное расстройство, потребуются большие, может быть, небезболезненные реформы, которые я провести без Вашей поддержки не смогу». Тут я указал как на одну из неотложных реформ на необходимость замены во флоте полуграмотных, невежественных иеромонахов штатными образованными священниками. «Могу ль я рассчитывать на Вашу поддержку?» — спросил я. «Можете вполне рассчитывать на мою поддержку», — ответил государь. Вспомнив затем о прекрасных отзывах, которые ему приходилось слышать о моей службе при Военной академии и в Маньчжурской армии, он обратился ко мне: «Вас ждет Ее Величество — представьтесь ей!» Простившись с императором, я тотчас был принят императрицей.
С императрицей Александрой Феодоровной я до того времени ни разу не встречался и знал ее только по слухам. А слухи были самые неблагоприятные: петербургское высшее общество враждебно относилось к ней, считая ее злым гением, поработившим безвольного царя, распутинкой, ведущей Россию к гибели; ее обвиняли даже в таких отвратительных грехах, в которых она безусловно была неповинна, как, например, в сожительстве с Распутиным. Даже в огромном царском окружении она имела только двух несомненных ее сторонников: фрейлину А.А. Вырубову и
242
флигель-адъютанта капитана 1-го ранга Николая Павловича Саблина. О ней говорили как о женщине чрезвычайно властной, настойчивой, упрямой, фанатичной. Мне чрезвычайно интересно было увидеть эту повелительницу великой русской земли.
Императрица стояла посреди своего большого кабинета, когда я вошел в него. Внешний вид ее был царственным: высокого роста, стройная, с очень красивым лицом, приятным голосом, она так подходила к своему положению царицы великого народа. Несколько не гармонировало с ее красотой скорбное выражение ее лица. Поздоровавшись со мной по установленному этикету, царица выразила удовольствие, что слышала самые лучшие отзывы о предшествующей моей службе, и выразила уверенность, что и в новом своем положении я оправдаю доверие ее супруга. Заверив царицу, что мною будут приложены все силы, чтобы оправдать доверие Его Величества и с пользой послужить для Родины, я — как сейчас помню — сказал ей: «Я, Ваше Величество, не дипломат и смотрю на дело прямо: все окружающие государя должны помнить, что и он человек и может ошибаться. Их поэтому долг — предохранять своего государя от ошибок и для этого говорить ему правду не только тогда, когда она ему приятна, но и тогда, когда она неприятна». «Если бы все так рассуждали, как рассуждаете вы! — ответила царица. — А то у нас каждый думает только о себе и о своей личной выгоде, а не о государе и благе Родины». После я не раз вспоминал эти красивые слова императрицы, когда она сама ополчалась на говоривших правду.
Так произошло мое вступление в должность протопресвитера военного и морского духовенства.
XI. В должности протопресвитера военного и морского духовенства в мирное время
Чтобы начальник мог более или менее удачно управлять порученным ему ведомством, ему необходимо: 1) ясно представлять цель и назначение своего ведомства; 2) достаточно быть знакомым с достоинствами и недостатками управляемой им машины. Первое было для меня совершенно ясно: военные и морские священники существуют не только для исполнения церковных треб в своих частях, но и для воспитания в воинских чинах разнообразных качеств, необходимых для доблестного воина. С достоинствами и недостатками ведомства я успел значительно ознакомиться, когда состоял в должностях главного священника армии, члена Духовного правления и участвовал по назначению протопресвитеров в разных комиссиях: в комиссии протоиерея А.А. Ставровского, в комиссии по ревизии свечного завода и других.
243
Несомненным преимуществом военного и морского духовенства являлось то, что оно по своему образовательному цензу и интеллигентности могло конкурировать с самыми лучшими епархиальными ведомствами. Не получивших среднего богословского образования в нем было очень немного, а интеллигентная офицерская среда, в которой вращались военные священники, естественно, облагораживала и тех, кому недоставало ранее приобретенной интеллигентности. Хуже обстояло дело в составе судового духовенства, где нештатные священники-иеромонахи по своей развитости нередко стояли ниже не только морских офицеров, но и матросов. Бывали, конечно, и исключения, но они не были частыми. Не блистало своим составом и столичное духовенство. Оно могло быть составлено из орлов, так как и служба в столице, и прекрасное материальное обеспечение большинства петербургских военных и морских священников63 могли привлекать самых сильных кандидатов. А между тем его состав оставлял желать многого лучшего. О причинах этого удобнее иметь молчание.
Вторым недостатком ведомства был присущий большинству наших епархиальных ведомств недостаток — отсутствие нужного руководства, состоящего во внимательном направлении и исправлении пастырской работы военных и морских священников. Протопресвитер А.А. Желобовский был дряхл для этой нелегкой работы, протопресвитеру Е.П. Аквилонову мешали проявить себя в этой работе его болезненность и недостаточное знание условий службы подчиненного ему духовенства, как и всех воинских нужд. А между тем самое внимательное и разностороннее руководство стоящего во главе ведомства в особенности требовалось, так как специальной военно-духовной школы, которая подготовляла бы священнослужителей для армии и флота, не было, и протопресвитеру приходилось набирать священников из разных епархий, священников, незнакомых с бытом и условиями военно-духовной службы, во избежание неверных шагов и разных промахов нуждавшихся во множестве указаний и советов.
Кроме подобных общих вопросов имелись и частные, разрешение которых было намечено протопресвитером Аквилоновым и разрешить которые помешала его преждевременная кончина: о приведенном почти к краху свечном заводе ведомства, о крайне запущенном величественном Троицком соборе лейб-гвардейского Измайловского полка. Были и другие проблемы.
Меня в особенности смущало бесплатное пользование принадлежавшими вдовам и сиротам ведомства помещениями для Духовного правления, для квартир — протопресвитерской, начальника канцелярии Духовного правления и двух дьяконов домовой протопресвитерской церкви: для помощи несчастным вдовам и сиротам иногда не находилось каких-либо 5-10 рублей, а срав-
244
нительно большие деньги квартирные оставались в руках пользовавшихся сиротскими квартирами.
Со свойственным мне неуменьем откладывать дела в далекий ящик я тотчас принялся за разрешение наиболее болезненных вопросов. 6 мая праздновался день рождения государя императора. Утром я отправился в Троицкий собор. Троицкий лейб- гвардейского Измайловского полка собор был вторым по величине в столице собором. Иконостас его был кисти Боровиковского и раньше украшал Исаакиевский собор, пока не был заменен там мозаичными иконами. Троицкий собор обслуживал не только Измайловский полк и 2-ю лейб-гвардейскую Артиллерийскую бригаду, но и огромный прилегавший к нему район с 85-тысячным населением. Он мог бы быть одним из богатейших петербургских храмов, так как пользовался даровыми от полка хором певчих и отоплением, когда в епархиальных храмах на то и на другое расходовались церковные средства. Но собор находился в самом плачевном состоянии: он давно был ремонтирован, крыша его заржавела, белые внутренние стены покрылись копотью, утварь обветшала; большой долг в 60 тысяч рублей лежал на соборе. Всем этим собор был обязан своим нерадивым пастырям, не проявлявшим никакого попечения о нем и не старавшимся привлекать к нему сердца его прихожан. Протопресвитер Е.П. Аквилонов, по-видимому, имел намерение заняться судьбою этого собора: не иначе, как по его поручению начальник канцелярии Духовного правления М.П. Журавский в сентябре 1910 г, спрашивал меня, согласен ли я занять место настоятеля Троицкого собора. Зная запутанное положение соборных дел, я ответил решительным отказом. Теперь я решил в первую очередь осуществить намерение моего предшественника.
Я вошел в собор, когда настоятель собора протоиерей И.И. Невдачин в алтаре совершал проскомидию, а псаломщик на клиросе читал часы. Не замеченный никем, я стал в уголку, чтобы наблюдать за происходящим в соборе. Обидно мне было смотреть на этот величественный, но запущенный, засоренный, неубранный храм. Беспорядок виднелся во всем: псаломщик небрежно что-то бормотал на клиросе, в это время дьякон расхаживал по собору, приставая с разговорами то к одному, то к другому богомольцу. По прочтении часов старший дьякон, служивший с настоятелем, небрежно, озираясь по сторонам, вышел на амвон и, не потрудившись даже перекреститься, начал литургию: «Благослови, Владыко!» Настоятель же, также вышедши на амвон и ставши пред иконой Богоматери, начал исповедовать женщин. Другой же разговорчивый дьякон продолжал странствовать по собору и беседовать с богомольцами. Я, наконец, не выдержал и, когда он проходил мимо меня, сказал ему: «Вам следовало бы теперь стоять в алтаре и молиться, а не путешествовать по собору».
245
Он недружелюбно посмотрел на меня, но ушел в алтарь. Тотчас я заметил, что настоятель чрез царские врата смотрит на меня. Я был узнан, и сразу служба изменилась: и настоятель, и старший дьякон начали служить благоговейнее, певчие тоже подтянулись, Вышедший из алтаря тот же говорливый дьякон подошел ко мне под благословение и от имени настоятеля попросил меня пожаловать в алтарь. В алтаре я застал новые беспорядки: около алтарной стены между жертвенником и престолом стояла вешалка, на которой висели рясы священнослужителей; на столике около жертвенника, рядом с блюдом, на котором лежали просфоры, красовался настоятельский цилиндр: соборные священники протоиереи Ф.М. Ласкеев и Д.А. Селецкий отсутствовали. Я приказал пригласить священников пожаловать в собор. После литургии я со всем соборным духовенством отслужил установленный молебен, предварив его небольшою речью. «Однако и запустили же вы свой прекрасный собор!» — сказал я настоятелю после молебна. А он, как будто не расслышав моего замечания, обратился ко мне: «Очень прошу Ваше Высокопреподобие пожаловать в мою квартиру на чашку чаю». За настоятельским чаем я ни одним словом не затронул вопроса о соборе и лишь, прощаясь с настоятелем, попросил его утром следующего дня пожаловать ко мне.
7 мая в 9 часов утра протоиерей И. Невдачин явился ко мне. Я высказал ему со всей откровенностью свои впечатления прошлого дня: собор запущен до последней степени; духовенство недисциплинированно, небрежно; богослужения совершаются неблагоговейно; порядка ни в чем нет; сам настоятель роняет свое звание «заслуженного» протоиерея, настоятеля столичного собора, служа наемным священником в одном столичном похоронном бюро и за небольшую плату провожая разных неизвестных ему покойников от их квартир до кладбищ. Из всего этого я заключаю, что он не годен для занимаемой им должности и должен получить иное назначение, тем более что он и прав на занимаемую им должность не имеет, так как не получил высшего образования.
Невдачин оправдывался тем, что при настоящем составе причта он не может поставить как следует соборное дело: протоиерей Ф.М. Ласкеев — умный и ученый человек, но не годится для приходской службы, так как панически боится заразы и поэтому никогда не целует креста. Евангелия, престола, икон, отказывается от причащения больных и всем этим смущает прихожан; священник Д.А. Селецкий — никуда не годный священник, больше времени проводит в полковой бильярдной, чем в соборе, выпивает лишнее, завел «уважаемых» дам, для которых по его настоянию в соборе ставятся стулья и подстилаются коврики, служить не любит, в службе небрежен; диаконы ленивы и непослушны и так далее. Выходило так, что в Троицком соборном причте
246
все грешники и один только праведник — о. настоятель. Терпеливо выслушав все такие кляузы, я отпустил о. Невдачина64, пообещав ему внимательно рассмотреть дело.
После этого разговора у меня окончательно созрела мысль дать Троицкому собору новых священников, способных выполнить свое назначение. Я ждал случая, когда окажется возможным дать иные назначения отцам Невдачину, Ласкееву и Селецкому. О. Невдачин, по-видимому, угадал мою мысль и начал принимать разные меры, чтобы снискать мое благоволение, а заодно и показать свою деятельность.
Дня через три после упомянутого разговора со мной он явился ко мне с докладом о состоянии вдовье-сиротских домов, которыми он заведовал. «А как вы распорядитесь относительно вашей квартиры? — спросил он меня. — Ваши предшественники удерживали у себя квартирные деньги 2 тысячи рублей в год, чтобы покрывать расходы по частным служебным поездкам, не оплачиваемым казною». «До моих предшественников мне нет дела. А я не могу позволить себе пользоваться и бесплатной квартирой, и квартирными деньгами. Эти деньги должны быть расходуемы на помощь вдовам и сиротам, — ответил я. «Но это же будет невыгодно для вас», — возразил о. Невдачин. Я поблагодарил его за заботу о моем интересе, но от удержания квартирных денег отказался. На следующий день о. Невдачин снова явился ко мне с вопросом: как же быть с квартирными деньгами начальника канцелярии Журавского и двух дьяконов, занимающих квартиры в сиротском доме и до сего времени не плативших за них? Я приказал удерживать и их квартирные деньги. Само собой, понятно, что они не благодарили меня за это, но возражать не решились, тале как эту операцию я начал с самого себя. К о. Невдачину я опять вернусь. Теперь же коснусь несколько иных событий, имевших место до развязки с ним.
9 июня, в понедельник, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, лейб-гвардейский Кирасирский Ее Величества государыни императрицы Марии Феодоровны полк праздновал свой полковой праздник. Мне предстояло совершать молебен в высочайшем присутствии. Не будучи знаком с этикетом совершения богослужений в присутствии императора, я не без смущения ехал в Гатчину на парад. Протодиакон Сергей Демин, с 1907 г. состоявший штатным диаконом при протопресвитере, наставлял меня, как надо здороваться с государем, как совершать богослужение и прочее.
Парад этого полка имел ту особенность, что он происходил в Гатчине, а молебен служился в полковом манеже; угощала гостей завтраком императрица в своих покоях; на молебне и завтраке присутствовали императрица со своими фрейлинами и полковые дамы.
247
Первый виденный мною парад в высочайшем присутствии произвел на меня потрясающее впечатление. На Гатчинском вокзале нас ждали придворные кареты. Никто из приезжих гостей не был забыт, и каждому была назначена соответствующая его чину и положению карета: для высших чинов — с кучером и лакеем в красных с черными орлами ливреях, дли низших чинов — с кучером и лакеем в зеленоватых с золотыми галунами ливреях. Мне как чину 4-го класса была подана карета первого разряда. Когда мы с протодиаконом Деминым прибыли в манеж, полк уже был выстроен и начальник дивизии обошел фронт. Начало прибывать высшее начальство. Прибыл командир корпуса, а за ним помощник главнокомандующего войсками Петербургского военного округа генерал от кавалерии Газенкампф. Облачившись, мы вышли к аналою, поставленному против (ложи) возвышения, на котором были приготовлены места для императрицы — шефа полка и других высочайших особ. Генерал Газенкампф был протестантом, но, обойдя фронт, он подошел ко мне и принял благословение. Минут через пять после него прибыл главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Поздоровавшись при обходе фронта с полком, и он подошел ко мне. чтобы принять благословение. Затем прибыл военный министр генерал Сухомлинов, также обошедший фронт. За несколько минут до прибытия государя прибыла императрица-мать с двумя дочерьми, Ксенией и Ольгой, и поднялась в убранную для нее ложу. Я приветствовал ее поклоном. Но вот раздался звучный голос сторожевого: «Их Величества изволят следовать!» «Смирно!» — скомандовал генерал Бернов, командовавший парадом. Фронт сразу замер. Приняв рапорт генерала Бернова, государь начал обход фронта. Склонялись знамена. музыка играла «Боже, царя храни», солдаты и офицеры на приветствие государя отвечали громовым «ура», за государем следовала многочисленная блестящая свита. Обойдя фронт, государь подошел ко мне и поздоровался по этикету: он поцеловал мою, а я его руку. Раздалась новая команда: «На молитву!» Горнисты проиграли положенный призыв «Шапки долой!» Все сняли головные уборы. Кивком головы государь показал, что можно начинать молебен. Целуя крест после многолетия, государь тихо сказал мне: «Вы же матушке не забудьте поднести крест!» Я с крестом поднялся в ложу императрицы, чтобы и она приложилась ко кресту. Затем я обошел фронт, окропляя его святой водой. Государь и его свита следовали за мной. Поклонившись затем государю, я с духовенством удалился, чтобы разоблачиться, а в манеже началось прохождение полка церемониальным маршем пред государем. Для меня феерически прошел этот парад.
В дни полковых парадов обыкновенно государь угощал завтраком служащих и служивших в парадировавшей части офицеров. туг же угощала императрица, шеф полка. Особенностью
248
завтрака было то, что к нему были приглашены не только офицеры, но и их жены. Завтрак был обильный и изысканный. Императрица не посрамила себя.
Государь, как известно, отличался большой памятью на лица и события. Но в этот день память немножко изменила ему. После молебна он спросил командира полка: «Какой это священник служил молебен?» «Новый протопресвитер», — ответил командир. «Ну конечно! — спохватился государь. — Он же на днях представлялся мне. Странно, что я теперь не узнал его!» А дело объяснялось просто: я представлялся государю не в облачении и не в митре, и не было в том ничего удивительного, что во время молебна государь не узнал меня.
19 мая, в день Вознесения Господня, был полковой праздник лейб-гвардейского Уланского императрицы Александры Феодоровны полка, 29-го — в день Святой Троицы — праздники лейб-гвардейского Измайловского полка и лейб-гвардейского Саперного батальона, в первое воскресенье после Троицы — лейб-гвардейского Гренадерского полка. Особенно величествен был Троицкий парад во дворе Петергофского дворца. На молебне в этот день читались троицкие молитвы. Кроме царицы с дочерьми и фрейлинами присутствовали все полковые и батальонные дамы — в белых платьях, с роскошными букетами в руках. Это был, пожалуй, самый нарядный из всех полковых высочайших парадов. За каждым из парадов следовал завтрак во дворце.
Относительно царских завтраков я 3аметил, что качество, или, точнее сказать, пышность завтрака, зависело от ранга парадировавшей части. Самыми лучшими завтраками угощались чины 1-й гвардейской дивизии; слабее были завтраки для чинов 2-й гвардейской дивизии и еще проще — для армейских частей. Пред последним сладким блюдом государь с бокалом шампанского возглашал здравицу за празднующую часть. Всегда подавалось русское шампанское «Абрау-Дюрсо». Закуска подавалась отдельно перед завтраком. Государь с великими князьями закусывал в особом помещении, а собравшимся в зале гостям лакеями на подносах разносились водка (простая — английская горькая, рябиновая) и тартинки с икрой, семгой, колбасой, сыром. За завтраком, начинавшимся по приходе государя, после каждого блюда предлагались разные вина. За столом гости рассаживались по старшинству. Так как мой чин приравнивался к генерал-лейтенантскому, то мне отводилось место между генерал-лейтенантами. Все это на первых порах и занимало, и развлекало меня.
Возвращусь к Троицкому лейб-гвардейского Измайловского полка собору. В пятницу пред праздником Святой Троицы командир Измайловского полка Генштаба генерал-майор Николай Михайлович Киселевский и протоиерей И. Невдачин явились ко мне
249
с приглашением на их полковой праздник. Таков был порядок, что командир полка и полковой священник приглашали протопресвитера на парадный молебен. С генералом Киселевским я встречался в семье его родного брата, товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Евгения Михайловича Киселевского, а в половине мая имел обстоятельный разговор с ним о Троицком соборе и его причте. Прощаясь со мной. о. Невдачин заявил, что для моего и протодиакона проезда на Балтийский вокзал им будет прислана карета. Как ни отказывался я от этой услуги, Невдачин настоял на своем: в день праздника к моменту моего выезда на праздник притащилась карета. Пришлось воспользоваться ею. «Каретишка-то, Ваше Высокопреподобие, так себе, не иначе как из похоронного бюро, где о. протоиерей служит», — лукаво подмигнув, сказал протодиакон, усаживаясь в карету. «Что, милый, карета-то твоя небось из похоронного бюро?» — обратился он к кучеру. «Так точно, Ваше Высокопреподобие!» — ответил тот. Я едва удерживался от смеху.
После завтрака государь обыкновенно обходил своих гостей, беседуя с каждым них. Я же с протодиаконом уезжал домой. Теперь пожелал сопровождать меня участвовавший в служении молебна протоиерей С.А. Голубев, раньше служивший священником лейб-гвардейского Саперного батальона. Невдачину я советовал остаться на обходе государем чинов полка, но и он пожелал сопровождать меня. Придворная карета доставила нас на вокзал. Невдачин не переставал лебезить предо мной. Голубев недавно был сослуживцем Невдачина в Преображенском соборе и всегда иронически относился к нему. О моем посещении Троицкого собора и следовавшей затем моей беседе с Невдачиным откуда-то было известно ему. Теперь он наблюдал Невдачина и лукаво улыбался. Когда к вокзалу подошел поезд, я. Голубев и протодиакон заняли купе 1-го класса. Около нас же присел и Невдачин. «Ох, о. Иван, напрасно ты льнешь к начальству, лучше подальше быть от него». — сказал Голубев. Невдачин промолчал и только злобно взглянул на Голубева. Как только тронулся поезд, Невдачин начал доказывать мне, что у него есть права на настоятельскую должность, что он настоятель усердный, умелый и прочее. Тогда я, только в более резкой форме, повторил ему уже ранее сказанное. Голубев лукаво улыбался, что особенно распаляло Невдачина. Когда мы, прибыв в Петербург, вышли из вокзала, нас уже ждала та же злополучная карета. Мы все уселись в ней: я с Голубевым на задних сиденьях, Невдачин с протодиаконом против нас. «Это ты, о. Иван, нашел такую каре- тину? Она не иначе как из твоего похоронного бюро», — влезая в карету сказал Голубев. «Оставьте, о. Сергий, ваши неуместные шутки!» — огрызнулся Невдачин. «Чего же ты сердишься? И спросить тебя нельзя», — ответил, улыбаясь, Голубев. Наш путь лежал по Измайловскому проспекту. Когда мы поравнялись с Троицким
250
собором, лошади без всякого понуждения остановились. «И кони из похоронного бюро знают, что около церкви надо остановиться: сейчас мы проверим это. «Вечная память, вечная память..,» — пропел Голубев, и кони двинулись дальше. «Ты и теперь будешь отрицать, что карета из похоронного бюро?» — спросил Невдачина Голубев. «Я не могу терпеть, чтоб так издевались надо мной... Разрешите мне. Ваше Высокопреподобие, покинуть вас!» — обратился ко мне Невдачин. Я сам рад был расстаться с ним65.
Вскоре освободились места настоятеля Кронштадтского крепостного Владимирского собора и священника лейб-гвардейского Московского полка. «Вот, — решил я, — места для Невдачина и Селецкого. Конечно, кронштадтское место во всех отношениях несравненно хуже, чем при Троицком соборе, для Невдачина это будет, как говорится, разжалованием из попов в дьяконы, но он лучшего места и не заслуживает. Селецкого тоже не порадует назначение в Московский полк, и он будет в обиде, но с ним иной поступил бы и еще строже. О. Ласкеева переведу в лейб-гвардейский Егерский полк, а протоиерея Н. Сахарова, служащего в этом полку, назначу на место Ласкеева. Материально Ласкеев будет немножко обижен, но зато в полку он будет настоятелем, а не вторым священником. После же я устрою его на лучшее место». Задумано — сделано. Вызвал к себе всех трех пастырей Троицкого собора. Уссщив их в своем кабинете, я обстоятельно изобразил катастрофическое положение запущенного ими собора, как и ужасное впечатление, полученное мною при посещении собора в день 6 мая. «Я уже беседовал обо всем этом с о. настоятелем. Он считает вас всецело виновными в этом. Вас, о. Димитрий, он обвиняет в том-то и том-то. О Вас, Федор Михайлович, он докладывал мне то-то и то-то. Я, о. настоятель, кажется, верно передаю ваши обвинения?» — обратился я к Невдачину. Вместо ответа он только поерзал на стуле. «Что же вы скажете в свое оправдание?» — спросил я отцов Ласкеева и Селецкого. «Что же тут скажешь? Я давно считал настоятеля негодным человеком, но не ожидал, что он способен на такую гадость», — ответил Селецкий. То же приблизительно сказал и о. Ласкеев. Выслушав объяснения каждого, я объявил им, что, не надеясь, чтобы они смогли улучшить положение собора, я решил обновить состав причта собора: о. настоятель займет место настоятеля Кронштадтского собора, о. Д.А. Селецкий, доказывающий, что в Троицком соборе он был лишен самостоятельности и не мог поэтому проявить себя, перейдет в Московский полк, где никто не будет мешать ему показать свою работу. О. Ласкеев, которого я не мог не уважать за его честность, благородство и литературные дарования, поменяется местами с протоиереем Н. Сахаровым. Настоятель запротестовал, что он не может принять такого обидного для него назначения. «Это ваше право. Только предупреждаю вас, что в случае отказа вы останетесь без места», — предупредил я Не-
251
вдачина. Протоиерея Ласкеева я просил не огорчаться переводом и вполне надеяться на скорое улучшение его положения. В тот же день я положил резолюцию о сделанных перемещениях. На место переведенных Невдачина и Селецкого были назначены мною: настоятелем — настоятель Батумского собора энергичный Василий Николаевич Грифцов, хорошо известный мне по Русско-японской войне, когда он служил священником 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинным 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, а на место Селецкого — бывший законоучитель Смольного института, идейный, самоотверженный и усердный пастырь священник Иоанн Федорович Егоров.
Беспримерное по быстроте и решительности разрешение троицко-соборного вопроса взбудоражило не только петербургское военное и морское духовенство, но и совершенно посторонние круги. В военных и великосветских сферах одни одобряли решительность «молодого» протопресвитера, другие находили расправу слишком крутой и жестокой. Великий князь Константин Константинович, покровительствовавший Измайловскому полку, прислал воспитателя его детей Мухина, кандидата Санкт-Петербургской духовной академии, чтобы выразить мне свое удивление по поводу произведенной мною расправы и спросить меня: неужели мое решение будет окончательным? Я ответил Мухину, что, к сожалению, не могу изменить своего решения, так как перемещенные священники оказались совершенно неспособными пещись об интересах собора. «Но как же так — уволить сразу трех?» — развел руками Мухин. «Четвертого в соборе нет. Если бы был такой же четвертый, я и его уволил бы», — ответил я. Мне сообщали потом, что будто бы великий князь Константин Константинович жаловался государю, а государь будто бы ответил, улыбаясь: «Да! Он может кого хотите уволить».
Вскоре подобную же операцию я произвел над причтом Колпинской церкви, где между тремя священниками шли беспрерывные острые и неприличные пререкания.
На место настоятеля Батумского собора я перевел протоиерея Н. Каллистова, чтобы освободить Петербург от него. Избалованный протопресвитером Желобовским, он сначала доказывал мне, что по семейным обстоятельствам, хотя он был вдовцом, он не может уехать из Петербурга, потом грозил жаловаться на меня. Я ему ответил, что он может оставаться в Петербурге и жаловаться на меня, но я предупреждаю его, что в случае отказа от Батума он останется без места. Каллистов подчинился.
Все три операции — с Троицким собором, колпинским причтом и протоиереем Каллистовым — оказались весьма удачными. Если бы я начал обновлять запущенное ведомство с низов, с каких-нибудь захолустных полковых или госпитальных священников, это ни на кого не произвело бы впечатления. А тут ущем-
252
ленными лицами оказались митрофорный протоиерей Каллистов, член Духовного правления протоиерей Ласкеев, настоятель столичного собора протоиерей Невдачин, настоятель пригородно-столичного храма (в Колпине) протоиерей Иоанн Соколов; в двух храмах — Троицком соборе и Колпинской церкви — были сменены сразу все священники... Встряхнулось все ведомство. Все поняли, что молодой протопресвитер шутить не любит. Все начали подтягиваться. Начав летом того же. 1911 г. объезд подчиненных мне военных и морских церквей, я обратил внимание, что везде духовенство встречало меня со страхом и трепетом. Я же, заметив, что провинциальные священники были гораздо более преданными своему делу и работоспособными, чем зазнавшееся и затучневшее петербургское духовенство, старался ободрять и поощрять, а не стращать их. Своим простым, братским, сердечным отношением я и удивлял, и пленял их. Один из туркестанских священников за чашкой чаю в дружеской беседе откровенно высказался по этому поводу. «Не скрою от вас, о. протопресвитер, — говорил он, — что мы дрожали, встречая вас. До нас ведь доходили слухи, что новый протопресвитер — зверь, что жестокость его не имеет границ: ни за что перемещает, смещает. гонит, преследует. А тут мы видим такую простоту в обращении с нами, такую ласку, что мы уже забыли, что вы наш высший начальник, и чувствуем, что вы будете нашим добрым отцом, руководителем, братом, другом...» Я ответил на это глубоко тронувшее меня признание, что все честные работники могут быть совершенно спокойны за свою судьбу, не обижать их, а помогать им буду я. а нежелающие работать пусть не обижаются на меня: мой долг — поощрять достойных и освобождать армию и флот от развращающих, а не воспитывающих их.
Между прочим, на священников производило очень сильное впечатление, что я никогда не приказывал, а всегда деликатно просил: «Пожалуйста, сделайте то-то и то-то». «Не исполнить приказание начальника — это обычное дело, но вашу ласковую просьбу как не исполнишь?» — сознавались некоторые священники.
7 мая мне пришлось еще раз защищать вдовье-сиротский капитал. 6-го объявлялись высочайшие награды чиновникам. В числе награжденных оказались представленные моим предшественником два чиновника — столоначальник А.Э. Боголюбов и другой. Первый из них был пожалован орденом Анны 2-й степени, второй — орденом Станислава 3-й степени.
Утром 7-го они явились поблагодарить меня за полученные награды и вместе попросили меня об уплате казне за эти награды 35 рублей сиротскими деньгами. От благодарности я отказался, так как не я, а мой предшественник представлял их. Относительно же уплаты за их ордена сиротскими деньгами объяснил
253
им, что подобное расходование сиротских денег считаю преступным. Но чиновники продолжали настаивать на своей просьбе, ссылаясь на свою необеспеченность и на действия моих предшественников, всегда оплачивавших ордена чиновников сиротскими деньгами: два года тому назад за высочайший подарок М.П. Журавскому было уплачено 600 рублей, «а тут требуется только 35 рублей». Я сдался и на их прошении написал: «Уплатить 35 рублей из сиротских сумм». В 11 часов того же дня явился ко мне с докладом начальник канцелярии Журавский. В заключение доклада он обратился ко мне: «А вот эту вашу резолюцию я затрудняюсь исполнить, резолюцию об уплате за пожалованные нашим чиновникам ордена. Я считаю, что такая уплата была бы незаконной». «Совершенно верно! — ответил я. — Но пред моими предшественниками вы протестовали против подобных уплат? В 1909 г. вы протестовали, когда по резолюции А.А. Желобовского было уплачено из сиротских сумм за пожалованный вам высочайший подарок 600 рублей?» Журавский покраснел, не возразив ни слова. А я перечеркнул свою резолюцию на прошении чиновников, сделав надпись: «Настоящую мою резолюцию считать недействительной». Журавскому же передал 35 рублей собственных денег для уплаты за злополучные ордена. Сейчас же по уходе Журавского ко мне явились награжденные с протестом. Я им коротко ответил: «Раз вы соглашались принять сиротские деньги, вы не имеете права не принять мои. Идите с Богом!» Таким образом, ликвидация больного вопроса стоила мне всего 35 рублей. После того уже никто не протягивал руки к сиротским деньгам.
В мае же я взялся за разрешение больного ведомственного вопроса о свечном заводе. В епархиальных ведомствах свечные заводы были кормильцами своих епархий, дававшими обильные средства на содержание духовных училищ, на помощь вдовам и сиротам духовенства и на удовлетворение других епархиальных нужд. Наш свечной завод быстрыми шагами приближался к катастрофе. «Находившийся вдали от начальнического глаза, в имении родственника протопресвитера А.А. Желобовского X. в Старицком уезде Тверской губернии, беспутно управляемый этим X. и возглавляемый протоиереем лейб-гвардейского Семеновского полка Введенской церкви С.А. Архангельским, завод закончил 1910 год с дефицитом в 9 тысяч рублей и имел долг Люненбургской воскобелильне — 240 тысяч рублей. Этот долг обессиливал завод, так как за него уплачивались проценты (6% в год), и, кроме того, завод обязывался покупать воск только у Люненбургской воскобелильни по диктовавшейся ею цене. Я успел хорошо ознакомиться с положением завода, состоя в 1910 г. членом особой комиссии, назначенной протопресвитером Е.П. Аквилоновым для обследования заводских дел.
254
Изучив основательно все касавшееся работы и материального состояния завода, я, кажется, в июле 1911г. пригласил в свою квартиру на заседание всех членов Духовного правления и правления свечного завода, начальника канцелярии Духовного правления и столоначальника хозяйственного стола, как и нескольких представителей петербургского военного и морского духовенства. Всего собралось 22 человека. Этому «высокому» собранию я представил всю катастрофичность положения нашего завода, тем более печальную, что этот самый завод мог быть нашим кормильцем и поильцем, а теперь нам приходится кормить и поить его. «Я считаю преступною деятельность всех лиц, на попечение которых был отдан завод, и признаю необходимым для спасения его принять самые решительные меры», — закончил я свою речь. Все молчали, потупив глаза. Выступил начальник канцелярии Журавский. «Я должен был бы быть прокурором, но я выступлю защитником нашего свечного завода», — начал он свою речь и пустился самым бесцеремонным образом оправдывать положение завода. Я прервал его: «Ваша защита, Митрофан Петрович, не сделает положение завода лучшим. Меня же очень удивляет, что, состоя уже 10 лет начальником канцелярии Духовного правления, тоже ответственного за положение завода, не смогли вы составить ясного и правильного представления о действительном состоянии его. Я ставлю два вопроса, на которые прошу всех присутствующих ответить мне: признаете ли вы необходимым принятие самых решительных мер для спасения завода и считаете ли вы правление свечного завода виновным за такое его состояние?» — обратился я к заседавшим. Все промолчали, и только протоиерей В.Н. Грифцов ответил утвердительно. «Значит, вы, господа, не желаете помочь мне поставить завод на ноги. Тогда я обойдусь без вашей, помощи», — сказал я и распустил собрание. Мне было очень обидно, что даже мой бывший учитель протоиерей Василий Олимпович Говорский, участвовавший в этом заседании и хорошо знакомый со свечным делом, не только не поддержал, но даже в известном отношении осудил меня, сказав после заседания моей дочке: «Напрасно ваш папа так остро ставит вопрос о свечном заводе». Не нашедши поддержки у своих сотрудников, я отстранил от должности всех членов правления свечного завода и обратился к Святейшему Синоду с просьбою произвести ревизию нашего свечного завода. Святейший Синод назначил ревизором помощника управляющего хозяйственным отделением Синода действительного статского советника Дьяконова. Ревизия установила, что бесхозяйственным, беспутным управлением свечным заводом ведомству причинены колоссальные убытки. После этого я назначил новое правление свечного завода, возглавив его с протоиереем В.Н. Грифцовым, а на место г. X. назначил смотрителем завода лично известного
255
мне, прекрасно поставившего витебский свечной завод священника Онуфрия Шостака. Чрез три года долг Люненбургской воскобелильне был уплачен, завод ежегодно давал ведомству более 200 тысяч рублей.
Приблизительно через год по назначении о. Шостака смотрителем завода, когда для меня стала совершенно ясной блестящая работа нового смотрителя, ко мне зашел член Духовного правления протоиерей Федор Александрович Боголюбов. Смущаясь и волнуясь, он заявил мне, что у него имеются сомнения относительно честности о. Шостака. Я задал ему несколько вопросов: знает ли он, что наш завод, закончивший 1910 г. с дефицитом в 9 тысяч рублей, теперь дает нам очень большой доход: считал ли он прежнее правление завода и смотрителя, доведших завод до катастрофического положения, честно исполнявшими свой долг; докладывал ли он прежним протопресвитерам о беспутном ведении заводских дел? «Вот что, Федор Александрович! — закончил я. — Шостака я давно знаю и убежден в его честности. Вам я заявляю, что он блестяще ведет наше свечное дело. Но если бы о. Шостак и был таким, каким вы его представляете, я предпочел бы иметь его. так как он обогащает наше ведомство, а не тех ваших «честных» свечных управителей, которые разоряли нас». Протоиерей Ф.А. Боголюбов ушел от меня сконфуженным.
Мои решительные действия одобрялись сознававшими необходимость обновления ведомства, а моим противникам давали повод обвинять меня в бессердечии и жестокости и распространять про меня всевозможные, иногда самые нелепые слухи. Тогда именно был пущен слух, что я крещеный еврей, хотя мои деды и прадеды все были духовного рода. Протоиерей С. Архангельский, которому я оказал милость, не отдав его под суд за беспутное управление свечным заводом, нашептывал военным, что я, пользуясь близостью к высшим военным и морским кругам, выведываю государственные тайны и затем выдаю их врагам Родины. Когда я после двух печальнейших инцидентов, явившихся результатом неподобающего поведения священников в офицерских собраниях, обратился к духовенству с напоминанием, что священник, находясь в офицерском собрании, должен помнить, что он священник, и не разделять там развлечений, несвойственных его сану, тогда меня обвинили в оскорблении армии и флота, в поношении всего офицерства. И так далее. Непривычного к разного рода кляузам, избалованного благороднейшей академической атмосферой, меня подобные слухи обижали, волновали. раздражали. Но вскоре я привык к ним и перестал обращать на них особенное внимание, продолжая смело идти по раз намеченному пути.
Оглядываясь теперь назад, я чувствую, что невидимая рука тогда направляла меня. Заняв такой головокружительный по вы-
256
соте пост, я легко мог возгордиться, стать надменным и неприступным. У меня же по вступлении в должность протопресвитера как будто прибавилось смирения. Я почувствовал легшую на меня великую ответственность, обязывающую меня не начальствовать, а служить, помогая своим подчиненным исполнять возложенные на них обязанности. При встрече с каждым из моих подчиненных меня прежде всего осеняла мысль: я его начальник, несравненно высший его по положению в обществе, но по внутренним достоинствам он, может быть, гораздо выше, чище, ценнее меня, если бы не жертвенность моей удивительной матери. я мог бы выйти в жизнь сапожником, а у него, может быть, не было такой матери и не было такого счастливого сочетания обстоятельств, на высокий свешник задвинувших меня. Особенно памятны мне два случая.
Духовное правление осудило одного из псаломщиков ведомства, кажется Брест-Литовского крепостного собора, наложив на него наказание. Доверившись Духовному правлению, я утвердил постановление. Вскоре явился ко мне осужденный. «Я думал, — обратился он ко мне, — что я найду у вас правду как у занимающего такое высокое место. Но я не нашел ее. Вы незаконно осудили меня, не потрудившись разобраться в моем деле. Я для вас слишком маленький человечек, с которым не стоит считаться. С сильным вы не поступили бы так...» И так далее. Сначала я был удивлен смелостью псаломщика, которого я мог одним росчерком пера удалить из ведомства. А потом мое удивление сменилось беспокойством: а может быть, он прав, а я виновен в том, что доверился Духовному правлению и не потрудился со всем вниманием отнестись к его делу: а вдруг он прав и я обидел его. маленького человека: а может быть, он лучше и достойнее меня, но Провидение не благоволило так ему, как мне... И я ласково обратился к нему: «Не волнуйтесь и спокойно объясните мне, почему вы считаете несправедливым наложенное на вас наказание. Только говорите чистую правду. Иначе вы будете еще строже наказаны». После, как мне показалось, искреннего разъяснения псаломщика я поручил перерасследовать дело. Новое расследование установило невиновность псаломщика, после чего я не только освободил от наказания осужденного, но и вознаградил его за пережитое им.
Второй случай был иного рода. Надо сказать, что сыновья военных и морских священнослужителей содержались в духовных школах на средства ведомства. Так как эти средства были очень ограниченны, то при приеме епархиальных священников на службу в армии и флоте протопресвитеру приходилось принимать во внимание и семейное положение принимаемых. В 1912 г. благочинный 3-й кавалерийской дивизии, священник 3-го гусарского Елисаветградского полка Павел Иванович Щеголев обра-
257
тился ко мне с просьбою предоставить место его зятю, молодому священнику Волынской епархии. Я предложил подать прошение. Вскоре было получено прошение с приложением копии послужного списка. Рассматривая послужной список, я вынес впечатление, что зять о. Щеголева подходит для ведомства: молод, с семинарским образованием, имеет уже награду, хотя всего пять лет служит священником. Но пять лет как он женат, и у него уже пять сыновей: каждый год жена награждала его сыном, а в один из этих годов — двумя сыновьями. «А если дальше так же пойдет, да этот же отец может разорить наше ведомство!» — мелькнула у меня мысль. И я, отчеркнув имена ребят, сбоку написал карандашом: «Много!» А на прошении: «Отказать!» Канцелярия же Духовного правления сообщила просителю мою резолюцию, возвратив ему копию послужного списка с моей пометкой. Чрез несколько дней я получил чрезвычайно резкое письмо жены просителя, дочери о. Щеголева. «Вы, — писала она мне, — посажены на такое высокое место и позволяете себе смеяться над чем? Над Божьим благословением, проявляющимся в чадородии. Стыдно вам!» и так дальше. Пожурив столоначальника, не сообразившего, что моя пометка не предназначалась для объявления, я ответил матушке ласковым письмом, прося ее извинить меня за неосторожную пометку, в которой я совсем не намеревался смеяться над Божьим благословением или оскорблять ее. А мужа ее назначил на место священника в крепости Имане, на Амуре, место приятное и обеспеченное. Ей, однако, не пришлось пожить на новом месте: она скончалась до отъезда ее мужа.
Так как пределы моего ведомства простирались от края до края России, я имел подчиненных мне священнослужителей и в Архангельске, и во Владивостоке, и в разных городах далеких Туркестана и Кавказа, и вдоль всей западной границы, где главным образом сосредоточены были русские войска, и во множестве городов средней России, и во флотах — Балтийском, Черноморском и Дальневосточном, то, чтобы облегчить военным и морским священнослужителям общение с протопресвитером, я принимал посетителей ежедневно от 9 до 11 часов утра и от 4 до 6 часов вечера. В экстренных же случаях я принимал во всякое время, не исключая обеденного. Мои домашние очень огорчались. а кухарка роптала, когда я прерывал обед, чтобы заслушать прибывшего издалека священника или дьякона, но я оставался верен своему правилу: служить, не считаясь со своими интересами и удобствами. Принимая духовных посетителей, я старался узнать от них об условиях их службы, о нуждах, испытываемых ими при исполнении служебных обязанностей, о служебной помощи, какую я могу оказать им, и так далее. В простой, душевной беседе с ними я узнавал многое: о настроении армии, о возможных улучшениях в работе священников, о духовных нуждах и во-
258
инских чинов, и самих священников; на первых порах своей протопресвитерской службы я старался не столько учить своих подчиненных, сколько учиться от них.
Служебного дела у меня было очень много: ежедневные приемы посетителей, частые выезды на парады, совершения богослужений в разных церквах, ежедневные доклады членов и чиновников Духовного правления, особенно изнурительные, когда докладывал нудный и многоглаголивый начальник канцелярии Духовного правления, ревизионные, иногда очень далекие поездки; вечером же мне преподносилась огромная кипа разнообразных бумаг: журналов и протоколов Духовного правления, разных прошений и докладов, требовавших моих резолюций. Я был так занят, что у меня не оставалось времени, которое я мог бы уделять своим домашним. Я продолжаю чувствовать себя весьма виновным пред своей единственной дочерью, вспоминая, как она, чтобы получить от меня ответ на какой-либо вопрос, садилась в приемной в ряду моих посетителей и, дождавшись очереди, входила ко мне в гостиную, где я уже не мог отказать ей в краткой беседе.
В первой же месяц моей протопресвитерской службы в один из приемных часов ко мне явился представиться священник 44-го пехотного Камчатского полка Николай Хруцкий, тот самый, который так неудачно делил с моим отцом поминальные хлебы. Войдя в гостиную, он бухнулся мне в ноги. «Вы с ума сошли, о. Николай, — строго сказал я. — Что вы делаете?!» «Простите меня. Я с отцом вашим плохо жил», — ответил он, дрожа и утирая слезы. «Ужель вы думаете, что я, пользуясь своим положением, стану сводить счеты со всеми, кто так или иначе виновен был пред моими родственниками? Вас с моим отцом разбирало епархиальное начальство, а мне нет дела, как вы в епархии жили. Вот ваша жизнь и служба в армии касается меня. Скажите мне по совести; вы продолжаете выпивать?» — «Выпиваю». — смиренно сознался Хруцкий. «Тогда бросьте-ка вы эту музыку! Бросите — первым вашим защитником буду; не бросите — тогда не пеняйте и не думайте, что я начну мстить вам за нелады с отцом». Хруцкий попросил разрешить ему подумать и утром следующего дня явился ко мне с положительным ответом. Я обласкал его. Мы расстались друзьями.
Среди множества дел, ежедневно рассматривавшихся протопресвитером, было много бесплодных, не имевших существенного значения для ведомства и решавшихся, так сказать, автоматически. но требовавших затрат времени и напряжения зрения. Таковы были дела: о разрешении причтам расходов из церковных сумм, превышающих установленную законом сумму; об утверждении избранных к церквам старост; утверждение произведенных исправлений метрических записей: разрешение
259
священнослужителям отпусков и так далее. Чтобы освободиться от такой неинтересной работы, я решил завести у себя помощника. Стоило мне высказать свое желание одному из своих сослуживцев, как оно стало достоянием всего города и к еще не учрежденной должности помощника протопресвитера потянулась руки. Первым заявил о своем желании занять должность моего помощника протоиерей С.А. Голубев, настоятель первого в ведомстве Преображенского всей гвардии собора. Я откровенно ответил ему: «Скажи по совести, Сергий Алексеевич, взял ли бы ты меня в свои помощники, если бы ты был на моем месте, а я на твоем? Ведь ты все время интригуешь против меня, распускаешь самые нелепые слухи, такие-то и такие. Зачем же я возьму тебя? Чтобы ты усилил свои интриги, приблизившись к протопресвитерскому месту?» «Кто тебе сказал о якобы распускаемых мною слухах?» — спросил Голубев. «Твои же сослуживцы и приятели приходят ко мне и рассказывают. Я никогда не выпытываю у них. они сами лезут ко мне с сообщениями о тебе», — ответил я. «Кто же именно сообщал тебе?» — спросил Голубев. «Ты хочешь знать? Хорошо, я скажу тебе: первый — сакелларий твоего собора протоиерей Петр Троицкий», — сказал я. «Вот откормил на своей груди». — возмутился Голубев. «Мой тебе совет: ты занимаешь самое видное в ведомстве место, материально ты обеспечен не хуже меня. Должность помощника протопресвитера потребует от тебя значительной, не дающей утешения ни уму, ни сердцу работы и материально не улучшит твоего положения, так как эта должность будет бесплатной. Сиди ты спокойно на своем месте, и будем мы по-прежнему друзьями! А теперь пойдем-ка лучше чай пить!» Разговор наш происходил в моем кабинете. Мы перешли в столовую и там повели нейтральную дружескую беседу.
Такими откровенными разговорами я достигал сразу двух целей: обезоруживал своих противников, а у шептунов отбивал охоту прислуживаться и нашептывать.
Вторым заявил о своем желании стать моим помощником 77-летний протоиерей А.А. Ставровский. Я прямо ответил ему: «Это, Алексей Андреевич, дело невозможное. Вы на 36 лет старше меня: вы стали священником за 9 лет до моего рождения: вы давным-давно украшены митрой и высокими орденами. Мне совестно было бы распоряжаться вами как своим помощником. Я не могу допустить того, чтобы вы оказывались на посылках. Кроме всего этого, должность помощника ничего не прибавит вам ни в служебном, ни в материальном отношении». Благоразумный и неспособный ни на какие интриги старик согласился со мною.
В помощники себе я избрал председателя Духовного правления. настоятеля Сергиевского собора на Литейном магистра богословия Иоанна Васильевича Морева. Он не был орлом, был вял,
260
не умел показать себя. Но это был человек в высокой степени благородный. честный и неспособный ни на какие интриги. Должность помощника протопресвитера была ему совсем под силу. Материально он не был заинтересован, так как должность настоятеля собора вполне обеспечивала его, и он согласился стать моим помощником. Он был на десять лет старше меня, но это не помешало нам с полным уважением и любовью относиться друг к другу во все время нашей совместной службы.
И у военного министра, и в Военном совете, и в Синоде мое представление об учреждении должности помощника протопресвитера без содержания от казны не встретило никаких возражений. А затем на эту должность, по моему же представлению. 23 февраля 1912 г. был назначен высочайшим приказом протоиерей И.В. Морев. С моих плеч свалилась груда бесплодных дел.
Успех ведомственной работы в значительной степени зависел от тех или иных отношений между протопресвитером и военным и морским начальством, от которого могло получать помощь военно-морское духовенство при несении своей службы. В первую очередь я попытался установить добрые отношения с военным и морским министрами. Оба они встретили мое назначение весьма дружелюбно и у себя приняли меня чрезвычайно приветливо. Оба они не уступали друг другу в деликатности и простоте обращения. По своей же натуре это были совершенно разные люди. Военный министр генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов любил жизнь и не стеснялся пользоваться ею. В служебных делах он не всегда бывал вдумчив, иногда бывал поверхностен и поспешен; его. между прочим, обвиняли в нечистых сделках с поставщиками Военного ведомства и даже в измене Родине. Я этим обвинениям совершенно не верю: он мог стать жертвой приближенных к нему лиц, но не личным участием заслужить подобные обвинения. Его отношение ко мне до конца его службы оставалось весьма доброжелательным. Он всегда ласково встречал меня и никогда ни в одной просьбе не отказал мне. Я не имел ни малейшего повода за что-либо жаловаться на него.
Генерал-адъютант адмирал Иван Константинович Григорович любил службу, в жизни был скромен, в обращении с подчиненными доступен, прост, внимателен, всегда серьезен. Адмирал Григорович мог знать меня только по слухам, так как до моего назначения протопресвитером я ни разу не встречался с ним. Встретил он меня теперь в своем служебном кабинете необыкновенно просто и сердечно. Представившись ему. я высказал надежду, что встречу у него содействие при исполнении своей должности. Чистосердечно сознавшись, что не знаю морской службы и буду затрудняться, что можно и чего нельзя требовать от морского, особенно от судового священника, я попросил его предос-
261
тавить мне возможность провести несколько дней на корабле, если возможно, в плавании.
«Отличная мысль! — воскликнул он. — Сообщите мне, когда у вас окажется для этой цели свободное время, и я прикажу снарядить специальный для вас корабль. Плавайте на нем сколько хотите и куда хотите!» Затем я доложил чрезвычайно тревоживший меня вопрос о судовых священниках, полуграмотных иеромонахах66. Он пообещал мне быстро разрешить и этот вопрос, как только я представлю обстоятельный доклад по нему. Я вышел от него очарованным его деловитостью, ясностью его взглядов, быстротой его мышления. И с этим министром у меня до последних дней оставались самые лучшие отношения.
В конце июня я сообщил министру, что готов отправиться в плавание. На следующий день адъютант морского министра доложил мне. что для моего путешествия назначен транспорт «Океан» и он будет поджидать меня 30 июня в Кронштадте, куда доставит меня моторная лодка, которая будет поджидать меня в 9 часов утра на Неве напротив Воскресенского проспекта, в двух кварталах от моей квартиры. Прибыв на корабль, я объяснил командиру судна, что цель моего путешествия — ознакомление с порядками, с укладом судовой жизни, и просил его везти меня, куда ему заблагорассудится, так как меня интересуют не места и люди, а самая корабельная жизнь. Я с наслаждением вспоминаю это продолжавшееся десять дней плавание. Я был окружен всеобщим вниманием, все на корабле было для меня ново и интересно. За время плавания я достаточно присмотрелся к корабельным порядкам, к распределению времени у матросов, к положению священника в морской семье. В некотором отношении я сам стал моряком. Все это очень пригодилось мне при служебных сношениях с судовыми священниками. Наш корабль с уклонами в море прошел по побережью до Либавы, сделав остановки в Ревеле, Риге, Виндаве. В Либаве, поблагодарив очаровавших меня моряков за их гостеприимство, я по железной дороге 11 июля вернулся в Петербург. Там меня ждал сюрприз, который не могу не отметить.
В 1911 г. кончалась постройка храма-памятника в честь моряков, погибших в войну с Японией. Строительство производилась инженером Сергеем Николаевичем Смирновым. Заведовал же строительством особый комитет, председательницей которого была великая покровительница русских моряков греческая королева Ольга Константиновна, а членами кроме нескольких моряков состояли великий князь Константин Константинович и я. Секретарствовал в этом комитете сенатор Петр Николаевич Огарев.
Дней за пять до моего путешествия сенатор Огарев доложил мне просьбу королевы, чтобы в эту церковь был назначен судо-
262
вой священник иеромонах Алексий. Родом калмык, по внешнему виду настоящий японец, иеромонах Алексий не имел даже среднего образования. Не имел он и особых заслуг. Вся его заслуга, сделавшая его «знаменитостью», состояла в том, что, получив освобождение из японского плена, он умудрился вывезти оттуда русское воинское знамя. Государь наградил его крестом на георгиевской ленте. Но такая награда не могла сделать его ни более способным, ни более образованным. Я ответил сенатору Огареву, что считаю иеромонаха Алексия совершенно неподходящим для столичной, да еще в память погибших наших моряков церкви, и просил его доложить о моем мнении Величеству королеве. На следующий день сенатор Огарев снова явился ко мне с сообщением, что королева настаивает на назначении Алексия. Вступать в борьбу с королевой из-за иеромонаха мне совсем не улыбалось. и я ответил Огареву: «Передайте Ее Величеству, что Алексий будет назначен, но я уверен, что через полгода вы будете просить меня об устранении его». Пред отъездом в плавание я назначил Алексия.
Когда я вечером 11 июля я возвратился домой, мне сообщили, что в мое отсутствие сенатор Огарев несколько раз звонил по телефону. прося немедленно уведомить его, как только я вернусь с поездки. Через час он был у меня. «Вот и ошиблись вы, о. протопресвитер, — сказал он, здороваясь со мной. — Вы говорили, что чрез полгода мы будем просить вас об устранении Алексия, а вышло так, что Ее Величество чрез две недели просит вас вернуть его на прежнее место судового священника, а нам дать другого». Огарев рассказал мне при этом отвратительную историю. Получив назначение, иеромонах Алексий явился на стройку. Там ему приглянулась работавшая в конторе инженера Смирнова миловидная и скромная барышня. Алексий начал совсем бесцеремонно приставать к ней. Возмутившийся инженер Смирнов составил протокол и преподнес его королеве, а та не пожелала больше видеть в своей церкви иеромонаха Алексия. Конечно, я согласился исполнить просьбу королевы.
Вызвав иеромонаха Алексия, я объявил ему, что он должен вернуться на прежнее место судового священника. «Я не поеду... Я откажусь от сана!» — заволновался Алексий. «Это ваше право, — спокойно сказал я. — Но прежде чем решать, вы хорошенько подумайте! Пока вы в рясе, да еще с этим крестом, вы имеете какую-то цену. А без рясы и креста куда вы будете годиться?» «Я настаиваю на снятии с меня сана!» — кипятился Алексий. «Если такое желание у вас созрело, то вы должны подвергнуться трехмесячному увещеванию. Этого требует закон», — опять же спокойно сказал я. «Никаких увещеваний мне не надо, ни с каким увещателем я разговаривать не стану. Прошу о немедленном снятии с меня сана», — гневно ответил Алексий. «Тогда на-
263
пишите заявление, что вы решительно отказываетесь от увещевания!» — предложил я. Алексий написал такое заявление, которое вместе с его прошением я отправил в Синод.
Через неделю я получил указ Святейшего Синода о снятии с иеромонаха Алексия сана. Я вызвал Алексия, чтобы он расписался в получении указа. Алексий прочитал указ, но от подписи на указе отказался, «так как незаконно, без увещевания сняли с него сан». Об его отказе я донес Святейшему Синоду. Обер-прокурором тогда был уже не точный и справедливый Лукьянов, а великий монахолюбец и немалый беззаконник В.К. Саблер. Вскоре я получил новый указ Святейшего Синода, сообщавший мне, что, так как иеромонах Алексий отказался расписаться в чтении первого указа, то сан оставляется за ним. Иеромонах Алексий вскоре перешел в епархиальное ведомство.
Чрез некоторое время встретившись с синодальным членом финляндским архиепископом Сергием, одним из лучших богословов того времени, я спросил его: «Скажите, Владыко, каким актом снимается священный сан — молитвенным ли изъявлением богомудрых архипастырей, составляющих Синод, или простым росчерком пера снимающего сан священнослужителя? Если первым актом, то как же мог аннулировать это отказ иеромонаха Алексия расписаться в прочтении синодального указа? Если вторым актом, то. может быть, излишняя вся эта синодальная процедура; может быть, достаточно было бы ограничиться одной распиской снимающего сан?» Смутившись, многолюбимый мною владыка Сергий сказал несколько несвязных слов и замял разговор.
На место иеромонаха Алексия я назначил умного, скромного и благочестивого 45-летнего священника Владимира Александровича Рыбакова, только что, в 1911 г., блестяще окончившего курс Санкт-Петербургской духовной академии. Освящение храма было назначено: нижней церкви — 30 июля в присутствии королевы Ольги Константиновны и ее брата великого князя Константина Константиновича, а верхней — 31 июля в присутствии царской семьи и всей императорской фамилии.
Освящение церквей — непривычная для духовенства служба, и обычно она не проходит гладко. Я же, кроме того, ни разу раньше не совершал освящения церкви. Чтобы в высочайшем присутствии не произошло путаницы, я заблаговременно назначил состав участников освящения, а накануне собрал их всех в назначенном к освящению храме и распределил между ними роли. Дьяконам и певчим было приказано не спешить, но и не затягивать службы. 30 июля освящение нижней церкви прошло, как говорится, без сучка и задоринки. Служба-освящение и литургия заняли всего 1 час 35 минут. В конце литургии великий князь Константин Константинович, целуя крест, сказал мне: «Пожа-
264
луйста, и завтра так же, не затягивая, в присутствии государя совершите богослужение!»
31 июля верхняя церковь была переполнена моряками. Присутствовали почти вся императорская фамилия и все морское начальство с морским министром во главе. Духовенство было то же. На все богослужение, как и накануне, ушло всего 1 час 35 минут. Это удивило государя. Целуя крест, он спросил меня; «Вы ничего не пропустили при освящении храма? Очень скоро прошло у вас богослужение». «Ничего, Ваше Величество, не пропущено. Скорость же объясняется тем, что все были на своих местах и не было у нас затяжек и проволочек», — ответил я. «Да, так хорошо! А то обыкновенно в алтаре сидят и раговаривают, а мы стой!» — сказал государь. Королева и великий князь Константин Константинович поблагодарили меня за отличную службу.
После военного и морского министров я сделал визиты всем старшим военным и морским начальникам, с которыми протопресвитеру приходилось сноситься по делам ведомства. У всех них я встретил самый теплый прием и после находил полное содействие. За все время моей службы в должности протопресвитера я имел всего два столкновения с генергалами. О них будет сказано дальше. Теперь же скажу несколько слов об отношениях военных и морских начальников к служившим в их частях священникам вообще.
Веками закреплялась связь священника с полковой семьей. С древних времен он стал непременным членом этой семьи, делившим с нею и радости, и горе, и переживания мирного времени, и опасности со страданиями боевой поры. К нему привыкали, с ним роднились не только православные члены этой семьи, но и инославцы и иноверцы. Магометанин по вере, татарин по национальности, доблестный и благородный генерал-лейтенант Али-Ага Шихлинский сознавался мне, что самым радостным событием в его жизни было совершение военным священником напутственного молебна при оставлении им артиллерийского дивизиона. Служившие в полках католики, протестанты, магометане и даже евреи вместе с православными посещали православную полковую церковь и участвовали в проведении православных праздников. Хороший полковой священник был одинаково уважаем всеми ими.
Военное и морское начальство в общем весьма благосклонно и внимательно относилось к священникам. Из откровенных бесед со священниками я убедился, что лучшими командирами для них были магометане, потом протестанты, затем католики и на последнем месте стояли православные. Самыми же несносными оказывались очень набожные православные. Первые трое старались проявить свою заботливость о полковом храме и священнике, чтобы кто не подумал, что они небрежно относятся к право-
265
славной вере. Магометане, кроме того, с уважением относились к нашей Церкви и почитали некоторых наших угодников, в особенности Божию Матерь и Святителя Николая Чудотворца. Набожные же православные командиры оказывались несносными, потому что, считая себя знатоками и ревнителями церковного дела, они кстати и некстати вмешивались во все, не исключая и богослужебные, действия священника и этим часто отравляли его существование. Как, например, мне указывали на известного уже нам генерала С.А. Добронравова, перед Русско-японской войной командовавшего 19-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Очень хороший священник этого полка с ужасом вспоминал о своей службе под начальством Добронравова. После войны ревность не по разуму могла погубить этого генерала, если бы я дал ход возникшему делу. А дело состояло в следующем.
В 1911 г. я застал генерала Добронравова начальником гарнизона в укреплении Иман (на Амуре). Здесь генерал красиво проявил свою церковную ревность: он выстроил прекрасный храм и богато украсил его; очень ценный древний иконостас для нового храма он привез из Киева из Михайловского монастыря: затем побудил меня добиться учреждения штатной священнической должности для Иманского гарнизона. Назначенный мною к этому храму уже известный нам зять благочинного о. Щеголева по прибытии к месту своего служения донес мне, что церковь со всем имуществом им принята, но не оказалось антиминса. Пропажа антиминса считалась в нашей церковной жизни событием криминального порядка, так как бывали случаи продажи антиминсов старообрядцам-беглопоповцам, платившим за православные антиминсы большие деньги. Я поручил благочинному произвести строгое расследование, куда девался антиминс. Скоро получился ответ. «Точно установить, куда девался антиминс, мне не удалось, — писал благочинный. — Но надо думать, что увез его генерал Добронравов, уехавший на должность командира бригады 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Заслуживающие доверия лица утверждают, что генерал иногда на этом антиминсе сам совершает литургию». За такое преступление виновного ожидала каторга. Зная, что генерал тут действует не по злому умыслу, а по неразумию, я скрыл эту бумагу от Духовного правления, а генерала частным письмом предупредил, что его священнодействия мне известны и что за них он может подвергнуться ужасной ответственности.
Крупных столкновений военных священников с военным начальством в пору моего протопресвитерствования почти не было. Мне вспоминаются только два неприятных эпизода. Первый произошел в Омске между благочинным 11-й Сибирской стрелковой дивизии священником Николаем Федоровичем Рождественским и командующим войсками Сибирского военного
266
округа, степным генерал-губернатором, генералом от кавалерии Шмидтом. О. Рождественский был очень дельным человеком, но имел одну слабость: выпивши лишнюю рюмку, он становился вздорным и резким. Генерал Шмидт, бывший офицер лейб-гвардейского Кирасирского полка, любимец великого князя Николая Николаевича, отличался огромным ростом и чрезвычайным самомнением. Столкновение между ними состояло в следующем.
Это было, кажется, в 1912 г., 30 августа (по старому стилю). В этот день один из стоявших в Омске сибирских полков справлял свой полковой праздник: утром — торжественная литургия, под вечер — торжественный обед. Литургию совершал благочинный, приготовивший отвечавшее торжеству слово. Во время богослужения в церковь прибыл генерал Шмидт и тотчас же распорядился сообщить благочинному, чтобы тот поспешил закончить службу. Приготовленное о. Рождественским слово осталось непроизнесенным. Это очень обидело Рождественского. На многолюднейшем обеде присутствовало все военное начальство с генералом Шмидтом во главе. Полковые обеды всегда бывали длинными и многоречивыми: приветствиям, тостам, речам не бывало конца. В числе ораторов всегда выступал и священник как представитель Церкви. О. Рождественскому пришлось говорить в конце обеда, когда и все гости, и сам оратор были в приподнятом от выпитого вина состоянии. Что говорил Рождественский, так и не удалось мне точно узнать. Сам он уверял меня, что он повторил то, что хотел сказать в приготовленной им проповеди: генерал Шмидт объяснял мне, что Рождественский говорил в оскорбительном для него, Шмидта, тоне. Во время речи генерал Шмидт демонстративно оставил собрание, приказав объявить Рождественскому, чтобы он на следующий день утром явился к нему. К явившемуся Рождественскому генерал Шмидт вышел во всем величии своего положения, окруженный большой свитой, и начал разносить несчастного отца, грозя стереть его в порошок, лишить куска хлеба и прочее. А затем я получил телеграмму Шмидта, в которой он просил немедленно убрать как не отвечающего своему назначению о. Рождественского. Раздумывать тут не приходилось: в споре с командующим войсками округа и генерал-губернатором должен был уступить священник, оставлять их вместе для блага же самого Рождественского нельзя было. Я исполнил просьбу генерала Шмидта — перевел Рождественского полковым священником в г. Симбирск —хороший город, считая, что Рождественский будет доволен этим назначением. Но он был связан с Омском какою-то собственностью и неохотно отправился в Симбирск. Вскоре прибывший по делам службы в Петербург генерал Шмидт посетил меня, чтобы «поблагодарить меня за исполнение его просьбы, касавшейся о. Рождественского». «Согла-
267
ситесь, что я должен был просить вас убрать его из Омска. На полковом обеде в присутствии множества моих подчиненных он в своей речи решился оскорблять меня», — начал он доказывать мне справедливость своего требования. «Я не допускаю, чтобы о. Рождественский решился намеренно оскорблять вас. Может быть, под влиянием праздничного обеда он неосторожно употребил неудачную фразу, оскорбившую вас. Я за него извиняюсь пред вами. Но и вы. Ваше Высокопревосходительство, неправы: вы не имели права, вызвав о. Рождественского в свой дворец, в присутствии множества ваших подчиненных, духовных детей о. Рождественского, унижать его. Вы должны знать высочайше утвержденное положение, гласящее, что военный священник подчинен непосредственно только протопресвитеру и никто из военных начальников не имеет права делать ему замечания или внушения», — сказал я Шмидту, который своим огромным ростом, толщиной и разговором произвел на меня впечатление упитанного, неумного и чопорного немца. «Как так? Я — генерал-губернатор и командующий войсками не могу сделать внушение священнику?» — возмутился Шмидт. «Да, не можете! Вы должны были сообщить мне, и я, поверьте, не оставил бы священника без наказания, если бы он оказался виновным пред вами. А так представьте, что вот вы оскорбили священника, унизили его сан; вслед за вами то же сделает командир корпуса, начальник дивизии, командир полка — в каком же положении тогда окажется престиж священника?» — сказал я. «Ну, другие-то начальники и не могут, а я же генерал-губернатор и командующий войсками округа», — пытался оправдаться Шмидт. «И для командующих войсками округов, и для генерал-губернаторов высочайше утвержденное положение не делает исключений». — ответил я. Расстались мы мирно. А о. Рождественского я скоро восстановил в должности благочинного. Во время Великой войны он отлично работал.
Второй случай был печальнее. Летом 1916 г. ко мне в царскую ставку, в г. Могилев, явился молодой священник, из мобилизованных, мой земляк, с жалобой на командира артиллерийской бригады, в которой он служил, 75-й или 76-й, занимавшей тогда позиции в Пинских болотах. Жалоба его состояла в следующем. Раньше у него были очень дружественные отношения с командиром бригады — генералом, сильно выпивающим. Но в последнее время генерал стал невыносимым: напившись, ругает его, священника, самою площадною бранью, издевается над ним. «Почему же произошла такая перемена?» — спросил я. «Потому что я стал отказываться выпивать с ним» — «А раньше выпивали?» — спросил я. «Случалось, — ответил священник. — Вся бригада будет рада, если его сменят» — «Я готов дать ход делу. Но смотрите, чтобы и вам не пострадать: ведь следствие будет производиться
268
не только над генералом, но и над вами. И если и вы окажетесь неправым, то и вас придется наказать». Священник просил дать ход делу и подал рапорт, подробно описав все выходки генерала. Я передал его рапорт инспектору артиллерии, великому князю Сергию Михайловичу, а тот предложил главнокомандующему Западного фронта генерал-адъютанту А.Е. Эверту произвести самое строгое расследование. Расследование подтвердило все обвинения, но установило и виновность священника, раньше бывшего собутыльником генерала, а потом поссорившегося с ним по пьяному делу. В результате генерал был уволен со службы, но и мне пришлось временно удалить священника из армии.
Третий случай был более забавен, чем печален. В 1916 г. 11-й пехотной дивизией командовал генерал-лейтенант Михаил Львович Бачинский, образованный (окончил курс двух академий — Артиллерийской и Генштаба), но очень нервный, раздражительный, желчный человек. В 1904-1906 гг. он командовал 36-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. 31 августа (старого стиля) 1916 г. я получил от него телеграмму: «Прошу немедленно убрать из моей дивизии священника 44-го пехотного Камчатского полка, не отвечающего своему назначению». Это был священник Николай Хруцкий — тот самый, что ссорился с моим отцом и злоупотреблял выпивкой. «Ну, — подумал я, получивши телеграмму, — наверное, опять начал выпивать и скандалить». Телеграммой я вызвал Хруцкого в ставку. «Опять принялись за старое?» — встретил я Хруцкого, когда тот явился ко мне. «Честное слово, нет!» — ответил он. «Рассказывайте же честно, по совести, за что начальник дивизии обрушился на вас?» — сказал я. «Честно, ничего не скрывая, все расскажу вам, — заявил Хруцкий. — 30-го, на Александра Невского, наш полк справлял свой полковой праздник...» «И вы за обедом хватили лишнее, а потом наглупили», — вставил я. «Клянусь вам, что за обедом я выпил всего пять рюмок водки, а вина совсем не пил. Для меня пять рюмок все равно что ничего. После обеда были игры, скачки с препятствиями. Наши пехотные офицеры — какие же они скакуны... Поскакал один — не взял препятствия, поскакал второй — тоже без успеха; также и третий, и четвертый, и пятый. Разгорелось у меня ретивое. Эх, думаю, скакуны!.. «Господин полковник, — обратился я к командиру полка, — разрешите мне попробовать счастье!» «Как будто это не к лицу вам... Но если хотите, скачите!» — ответил командир полка. Сел я на своего серого и... взял препятствие. Вот и вся моя вина», — закончил Хруцкий. Потом добавил: «Когда я слез с коня, начальник дивизии набросился на меня: «Вы не умеете держать себя, вы позорите свой священный сан...» Тоже нашелся защитник священного сана... Ему сан мой дорог... Стыдно ему было, что его офицеры не умеют ездить, что я лучший, чем они, кавалерист. А какое преступление я сделал? В походе я же не в коляске, а всегда вер-
269
хом езжу» «Хоть вы и взяли препятствие, я не похвалю вас. Не идет священнику скачками заниматься. Но и преступления большого в вашем деянии не вижу. Однако предупреждаю вас; если оставить вас в полку, начальник дивизии отравит вам существование. Лучше я переведу вас в другой полк», — посоветовал я. Хруцкий с радостью принял мое предложение.
Для успеха своей работы мне необходимо было заручиться благоволением великого князя Николая Николаевича, пользовавшегося тогда неограниченным влиянием на государя. Как-то само собой случилось, что этот великий князь воспылал большой симпатией ко мне, хоть до назначения меня протопресвитером я ни разу не встречался с ним. Вступив в должность, я должен был представиться ему. Мне сообщили, что сам великий князь назначит день для встречи со мной. В половине июня мне сообщили, что великий князь просит меня 19 июня, в воскресенье, отслужить литургию в церкви его имения (Отрадное, в 6 верстах от станции Стрельна) и затем позавтракать у него.
Утром 19 июня я выехал из Петербурга. На станции Стрельна меня поджидал автомобиль великого князя, быстро доставивший меня в Отрадное. Великий князь встретил меня на крыльце своего дома словами; «Очень рад видеть вас у себя. После назначения вас протопресвитером я внимательно следил за прессой. К моему большому удовольствию, ни одна газета не отозвалась о вас плохо». Побеседовав несколько минут с великим князем, я отправился в церковь. На литургии присутствовало все великокняжеское семейство. По окончании литургии последовал завтрак, на котором кроме великого князя и его жены Анастасии Николаевны (Черногорки) присутствовали сын и дочь последней, Лейхтенбергские, и несколько лиц великокняжеской свиты.
Я впервые был гостем великокняжеской семьи. О великом князе Николае Николаевиче ходили самые ужасные слухи — о его грубости, жестокости, невоспитанности. Признаться, я не без смущения ехал к нему. Но тут и великий князь, и великая княгиня очаровали меня своей простотой в обращении и чрезвычайно сердечным гостеприимством. Я был посажен за стол между ними; оба они наперебой старались угощать меня. Я сразу почувствовал себя непринужденно, точно я попал в дом своих близких знакомых, и, не стесняясь, поддерживал разговор. Между прочим, великий князь обратился ко мне с вопросом; «А в случае войны где полагается быть протопресвитеру?» «По положению, в Петербурге, но, думаю, что не оказалось бы препятствий быть протопресвитеру и на фронте, если бы во главе действующей армии стояли вы», — ответил я. «Да, я тоже так думаю», — согласился великий князь. «Это великолепно! — воскликнула великая княгиня. — Запомните это и не оставляйте великого князя, если он окажется главнокомандующим на фронте!» Из этого
270
коротенького разговора я заключил, что на верхах убеждены в неизбежности войны с Германией и для великого князя уже определена роль. После завтрака мы пили кофе в гостиной, продолжая задушевный разговор. Глядел я на великого князя и глазам своим не хотел верить, что это тот самый страшный князь, о котором ходили самые ужасные слухи. После мне объяснили, что женитьба на Анастасии Николаевне и года совершенно изменили его характер.
Откланявшись после кофе милым хозяевам, я выехал вместе с пасынком великого князя молодым морским офицером Сергеем Георгиевичем, герцогом Лейхтенбергским. На вокзале он любезно спросил меня, не буду ли я против того, чтоб он сел со мною в одном купе. На любезность я ответил любезностью. Мы поместились в отдельном купе первого класса. Когда поезд тронулся и разговор наш за шумом поезда не мог быть слышен в коридоре и соседнем купе, герцог спросил меня: «Что вы, батюшка, думаете об императорской фамилии?» Вопрос был слишком острым и неожиданным, так что я смутился. «Я только начинаю знакомиться с Высочайшими Особами: большинство из них лишь мельком видел. Трудно мне ответить на ваш вопрос», — сказал я, с удивлением посмотрев на него. «Я буду откровенен с вами, — продолжал герцог. — Познакомитесь с ними и убедитесь, что я прав. Среди всей фамилии только и есть честные, любящие Россию и государя и верой служащие им — это дядя (великий князь Николай Николаевич) и его брат Петр Николаевич. А прочие... Владимировичи — шалопаи и пьяницы, Михайловичи — торгаши, Константиновичи — идиоты. Все они обманывают государя и прокучивают российское добро. Они не подозревают о той опасности, которая собирается над ними. Я. переодевшись, бываю на петербургских фабриках и заводах, забираюсь в толпу, беседую с рабочими — я знаю их настроение. Там ненависть все растет. Вспомните меня: недалеко время, когда так махнут всю эту дрянь (великих князей), что многие из них и ног из России не унесут...»
Я с удивлением и ужасом слушал эти откровения, лившиеся из уст все же члена императорской фамилии. «Что это такое? — думал я. — Чистосердечная ли откровенность человека, которому я внушил доверие? Подвох ли какой? Или экзамен мне?» Сознаюсь, что я очень обрадовался, когда поезд наш подкатил к Петербургскому вокзалу и мы должны были прекратить этот революционный разговор.
После я убедился, что императорская фамилия была на редкость недружественной семьей. Каждая из четырех ветвей — Владимировичей, Николаевичей, Константиновичей и Михайловичей — отрицательно, а иногда неприязненно и даже враждебно относилась ко всем прочим. А императрица в последние годы ненавидела всех их. И главное, они не скрывали перед посторонни-
271
ми своих чувств. Только государь по мягкости своего характера и деликатности продолжал ровно относиться ко всем своим родственникам, не поддаваясь, однако, влиянию ни одного из них. По вступлении его в должность Верховного главнокомандующего и великий князь Николай Николаевич утратил всякое влияние.
Содержание великокняжеских семейств стоило больших денег: каждый из них имел свой дворец с большим штатом служащих, молодежь тратила огромные средства на кутежи и любовные связи. Управлявший двором великого князя Николая Николаевича генерал М.Е. Крупенский говорил мне, что бюджет этого великого князя равнялся 900 тысяч рублей в год, и эти огромные деньги проживались без остатка. А таким кутилам, какими были Владимировичи, не хватало получавшихся ими от казны и с имений денег, и государю приходилось уплачивать их долги.
Пользы же для Родины и государя от великих князей было немного. Правда, Николая Николаевича военные считали знатоком военного дела, в особенности много сделавшим для расцвета нашей кавалерии. Сергей Михайлович понимал и любил артиллерийское дело и значительно улучшил нашу артиллерию; но его очень серьезно обвиняли в больших хищениях по артиллерийскому ведомству. Великий князь Константин Константинович состоял президентом Академии наук и начальником военно-учебных заведений. В России его, кроме того, знали как поэта. Но и его обвиняли в том, что он своими мягкотелостью и амикашонством подрывал в военно-учебных заведениях дисциплину и скорее развращал, чем воспитывал будущих офицеров. Александр Михайлович понимал морское и воздухоплавательное дело, но, как говорили, предпочитал увлекаться торговлей. Теперь о прочих князьях. Петр Николаевич, скромный, кроткий и незлобивый, увлекался архитектурными проектами церквей и сторонился от всякого начальствования. Простой и добрый Георгий Михайлович увлекался нумизматикой и не делал никакого ответственного дела — во время войны он посылался для раздачи крестов и медалей. Его брат Николай Михайлович, очень способный историк, даже во время Великой войны, состоя при штабе главнокомандующего Юго-Западным фронтом, занимался не военным делом, а интригами. Это сообщал мне сам главнокомандующий этим фронтом генерал-адъютант Николай Иудович Иванов. На назначенного в 1916 г. походным атаманом казачьих войск великого князя Бориса Владимировича начальник штаба верховного главнокомандующего генерал М.В. Алексеев несколько раз жаловался мне, что этот князь, «мотаясь без толку по фронту, своим целым поездом только затрудняет движение воинских поездов, а у железной дороги отнимают целый состав, когда там дорог каждый вагон». При Ставке Верховного главнокомандующего в местечке Барановичи долгое время бро-
272
дил без всякого дела ни к чему не способный принц Петр Александрович Ольденбургский, женатый на сестре государя Ольге Александровне. Другие князья от времени до времени показывались в ставке, не неся никакой ответственной работы. Вообще, обществу великие и малые князья были более известны своими похождениями и беспутством, чем полезными для Родины или даже для трона деяниями. Они не укрепляли, а все более расшатывали трон.
Отношение великого князя Николая Николаевича ко мне до самой войны оставалось весьма сердечным, и он подчеркивал это при всяком удобном случае. Встречаться с ним мне приходилось весьма часто — на всех высочайших парадах. Тут он подходил ко мне принять благословение, справлялся о моем здоровье, задавал вопросы, свидетельствовавшие, что он живо интересуется моей работой. Несколько раз он приглашал меня к себе, чтоб посоветоваться со мной по разным вопросам.
Между прочим, однажды, после выхода пьесы великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский», он вызвал меня, чтоб узнать мое мнение об этой пьесе. Мне она не понравилась. По прочтении у меня получилось впечатление: к святыне прикоснулись неосторожными руками. Особенно не понравился мне любовный элемент (сцена во дворе Пилата, где воины ухаживают за служанкой), внесенный в пьесу. Я чистосердечно высказал свое мнение великому князю. «Очень рад, что вы думаете так же, как и я», — сказал он мне. Из тона речи и отдельных выражений нельзя было не заключить, что вообще он очень отрицательно относился к своему двоюродному брату великому князю Константину Константиновичу. Когда пьеса эта была поставлена капитаном лейб-гвардейского Измайловского полка Данильченко на сцене в офицерском собрании этого полка, Николай Николаевич с супругой отказались присутствовать на ее представлении. хотя присутствовали государь, великий князь Константин Константинович и другие князья.
Для своей протопресвитерской работы я поставил две цели: 1) насколько возможно улучшить состав военного и морского духовенства и 2) сделать пастырскую работу в армии и флоте более серьезной и плодотворной. О той и другой цели я сказал во вступительной своей речи.
Мое вступление в должность протопресвитера петербургское военное и морское духовенство отметило молебном в моей домовой церкви. Когда я вошел в церковь, один из собравшихся in corpore священников, кажется протоиерей С.А. Голубев, встретил меня приветственною речью. В своей ответной речи я, помнится, сказал: «Что мне сказать вам, братья? Я знаю, что многие из вас в первую очередь ждут от меня улучшения материального положения нашего духовенства. Удовлетворение этого вашего желания будет
273
зависеть не столько от меня, сколько от вас: если наши пастыри будут самоотверженно и плодотворно работать для армии и флота, предержащая власть не допустит, чтобы они нуждались в куске хлеба. Я лично обещаю вам, что отдам все свои силы на служение Родине, армии, флоту и вам. В то же время я употреблю все меры, чтобы пастырская работа наша отвечала своему назначению, а для этого — чтобы наши кадры были достойнейшими. Если я достигну того, что все мои подчиненные своими достоинствами будут превосходить меня, я сочту свою задачу блестяще исполненной». И так далее. Конечно, не всем моя речь понравилась: у нас любили говорить о правах и обижались, когда им напоминали об обязанностях. Но многие поняли, какого курса буду держаться я.
Чтобы успешно управлять, надо хорошо знать и дело, порученное тебе, и людей, вместе с тобою работающих над этим делом. Моему ознакомлению с нуждами и запросами армии и флота, как и с личным составом военного и морского духовенства, послужили мои поездки. Тут, конечно, большим препятствием служило то, что военные и морские церкви с их священнослужителями67 были разбросаны по всей необъятной России: были они и в Архангельске, и во Владивостоке, и на Кушке, и в Карсе, и на всех западных окраинах, и внутри почти во всех российских городах. Молодые годы, крепкое здоровье и энергия помогали мне преодолевать и это препятствие.
ХII. Мои служебные поездки, встречи и впечатления
Петербургское военное и морское духовенство я знал довольно хорошо. Кроме того, я продолжал с ним встречаться, а накануне полковых праздников совершал в полковых храмах всенощные бдения с панихидами по почившим чинам полка. Свои служебные поездки я начал с пригородных полков и госпитальных церквей, посетив полковые церкви в Царском Селе. Петергофе, Ораниембауме, в лагере Красного Села. В последнем у меня произошел небольшой инцидент.
Должен сказать, что, будучи главным священником 1-й Маньчжурской армии, я начал вводить в полках и госпиталях небольшие походные библиотечки. Во время своей службы в полку я осознал крайнюю необходимость таких библиотечек, которые могли бы заполнить солдатский досуг, дать солдатам, да и офицерам разумное чтение, отвлечь их от неподобающих занятий. Особенно необходимы такие библиотечки для госпиталей, где, само собой разумеется, больные остаются без всякого дела.
В огромном Красносельском госпитале на большой мраморной доске было отмечено золотыми буквами, что государь импе-
274
ратор, посетив такого-то числа этого года госпиталь, остался чрезвычайно доволен виденным и выразил персоналу госпиталя свою благодарность. Меня встретили священник Василий Федорович Словцов, известный мне по Русско-японской войне, где он не блестяще зарекомендовал себя, будучи священником 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, и госпитальное начальство. Я обошел палаты, беседуя с больными. Порядок в госпитале, действительно, был образцовый, придраться не к чему было. Потом меня повели в госпитальный сад. Там бродило множество выздоравливающих больных. Я вступил в разговор с ними. «Чем же теперь занимаетесь вы?» — спросил я между прочим. «Да ничем; лежим или, как сейчас, бродим», — ответил один из них. «А время-то, ребята, дорого — ни одна пропущенная минута не вернется. Надо им пользоваться. Почему бы вам теперь, пользуясь свободном временем, одним не почитать, а другим не послушать? Разумные книжки могли бы многому хорошему научить вас и скуку вашу разогнать», — сказал я. «И рады бы мы были почитать что-нибудь. Да что будешь читать, когда книг не дают», — ответил больной. «Разве нет у вас больничной библиотеки?» — обратился я к главному врачу. «Мы книг не держим, чтоб с книгами не передавалась зараза», — сказал главный врач. «Не все же у вас отделения заразные. Для заразных могли бы иметь особые книги. Вот похвалил вас государь, а я не все похвалю. Надо вам завести госпитальную библиотеку, чтоб ваши выздоравливающие не томились от скуки», — посоветовал я.
Длинные поездки я мог делать лишь в те месяцы, когда не бывало высочайших парадов, то есть когда государь пребывал в Ялте или, что реже случалось, в Спале. Первую из таких поездок я совершил в июне 1911 г. по Виленскому и Варшавскому военным округам.
В Вильне стояла 27-я пехотная дивизия. 105-й пехотный Оренбургский полк справлял праздник — освящение пожалованного ему нового знамени. Я с сопровождавшим меня протодиаконом С. Деминым и местным духовенством совершал богослужение и затем присутствовал на пышном обеде, возглавлявшемся помощником командующего войсками Виленского округа генералом Шкинским: сам командующий округом генерал-адъютант Павел Карлович Ренненкампф был в отпуску. Я обратил тогда внимание, что тост за здоровье Ренненкампфа вызвал бурные овации, а тост за Шкинского был встречен почти молчанием. «Не особенно любят этого генерала», — подумал я. На богослужение и обед был приглашен и разумный и очень важный архиепископ Агафангел, но он, думаю, чтобы не ставить меня на второе место, отсутствовал. Конечно, я сделал ему визит.
275
Эти визиты отнимали у меня много времени. В каждом городе я должен был сделать визиты военным начальникам, кончая командирами полков, а также архиерею, губернатору, посетить если не всех, то большинство подчиненных мне священников и так далее. В больших городах на визиты у меня уходили почти целые дни. Но для дела это было необходимо: благодаря визитам устанавливались знакомства и связи, добывались необходимые сведения.
Закончив торжество в Оренбургском полку, я побывал во всех полковых и госпитальной виленских церквах, провел дружескую беседу с собранными священниками (войска были в лагере) и затем отправился дальше — в Гродно. По пути я сделал остановку на станции Ораны, вблизи которой находился большой лагерь. Там я совершил богослужение в лагерной церкви, побеседовал с войсками, в лагере Виленского военного училища по просьбе начальника училища провел специальную беседу «Бог в природе». Дивизия чествовала меня обильным обедом и задушевными речами. которые были бы для меня гораздо более приятными, если бы я не чувствовал себя усталым.
В Гродно стояли 101-103-й пехотные полки, бывшие в то время в лагере. Благочинный этой дивизии, дельный и интеллигентный священник Михаил Иванович Радугин, обстоятельно ознакомил меня с положением духовного дела в дивизии и с работой священников, представившихся мне. Сделав нужные визиты, осмотрев военные церкви и обстоятельно побеседовав со священниками. я отправился дальше — в Варшаву.
В Варшаве в это время архиерействовал очень способный, стихийно-бурный, невыдержанный, резкий и грубый архиепископ Николай (Зиоров). Когда я вступил в должность протопресвитера военного и морского духовенства, он прислал мне письмо: «Ваше Высокопреподобие! Если вы так же редко, как ваши предшественники. будете посещать войска Варшавского военного округа, то я должен буду доложить об этом государю императору. Ваш доброжелатель архиепископ Николай». Письмо было в высшей степени бестактным. Архиепископу Николаю я не был подчинен ни в каком отношении: ему до моего управления не было никакого дела: у архиереев даже в самых маленьких епархиях некоторые приходы в течение многих лет оставались не посещенными архиереем: несмотря на свой священнический сан, по рангу я был приравнен к архиепископу. Я ответил ему: «Ваше Высокопреосвященство! Как часто мои предшественники посещали войска Варшавского военного округа, мне до этого нет дела и судьей их я быть не мог. Я буду посещать эти войска по мере надобности. Что же касается докладов Его Величеству, то я буду иметь возможность чаще, чем вы, видеться с ним и докладывать ему о делах вверенного им мне ведомства. Ваш покорнейший слуга...» Больше архиепископ Нико-
276
лай не писал мне. Едучи теперь в Варшаву, я думал: «Как то мы встретимся с архиепископом?» Чуть ли не первому архиепископу я сделал в Варшаве визит. Он встретил меня любезно, как будто никакого недоразумения между нами не было, в разговоре был интересен, в обращении очарователен. Бывают такие люди, что пред овцами они волки, а пред волками — овцы. Не давать им сдачи, они насядут на тебя; дашь хорошую сдачу — они сразу смиряются. Таков был и архиепископ Николай.
В Варшаве стояли четыре гвардейских пехотных полка и два кавалерийских; кроме полковых церквей там были крепостной собор с тремя священниками, двумя диаконами и двумя псаломщиками и военные церкви: при Варшавской артиллерийской мастерской, при штабе Варшавского военного округа, при военном госпитале и военной тюрьме. Полки, конечно, были в лагере. Осмотрев все церкви, вдосталь побеседовавши со священниками, узнавши их и духовные нужды войск Варшавского округа, я отправился в крепость Новогеоргиевск на пароходе по реке Висле. Путь был небольшой и очень приятный, особенно для уставшего от долгих разговоров в Варшаве.
Комендантом Новогеоргиевской крепости в то время был Ген- штаба генерал от инфантерии Николай Павлович Бобырь, человек набожный и не любивший архиепископа Николая за его резкость и грубость. Генерал Бобырь устроил мне грандиозную встречу. От речной пристани до крепости было около 3 верст. Для встречи меня на всем пути до самого собора были выстроены шпалерами войска: в крепости, кроме специально крепостных войск, еще квартировали 5-й Калужский и 6-й Либавский пехотные полки. В соборе я совершил молебствие, закончив его словом. Генерал Бобырь сопровождал меня всюду: при посещении полковых и госпитальной церквей, при осмотре крепости, тогда перестраивавшейся. Осмотрев церкви, обстоятельно побеседовав со священниками, возглавлявшимися достойнейшим настоятелем собора протоиереем-старцем Федором Евдокимовичем Морозовым, посетив затем всех военных начальников, от них и от священников узнав о настроении и духовных нуждах крепости, угостившись, наконец, парадным крепостным ужином, я отбыл в Варшаву, чтобы оттуда прямо проследовать в Петербург.
Из этой первой ревизионной поездки я вынес много впечатлений. Состав духовенства вполне удовлетворил меня; все священники были людьми достаточно развитыми и работоспособными, все с семинарским образованием; жалоб на них от военных начальников мне не пришлось услышать. Но системы в их работе я не заметил: каждый работал по-своему, как Бог на душу положит, не все, вернее, редкие работали жизненно и плодотворно.
Особо приятное впечатление произвели на меня упомянутый протоиерей Ф. Морозов, в Варшаве — лейб-гвардейского Кекс-
277
гольмского полка священник Константин Дмитриевич Введенский, 35 лет, разумный, интеллигентный, приятный, в Гродно — священник Михаил Радугин. В Вильне заслуживал внимания протоиерей Иван Голубев, отличавшийся и великими достоинствами, и огромными недостатками — с ним я хорошо познакомился на Русско-японской войне.
Во второй половине июля я совершил другую довольно продолжительную поездку, посетив г. Ровно, где квартировали два полка 32-й пехотной дивизии, Шубковский лагерь (в 18 верстах от Ровно), обслуживавший 11-й корпус (11-я и 32-я дивизии), которым командовал тогда генерал Владимир Викторович Сахаров, бывший начальником штаба Маньчжурской армии, Дубно (там квартировали: пехотный — Селенгинский и кавалерийский — Чугуевских улан полки и дисциплинарный батальон) и г. Кременец (42-й пехотный Якутский и 11-й драгунский Рижский полки). Драгунский полк квартировал в 6 верстах от Кременца — лагерь для него не требовался. Только тут я и увидел войска. Во всех остальные местах мне приходилось ограничиваться осмотром храмов и беседой со священниками. Зато утешил меня Шубковский лагерь. Генерал Сахаров и прочие военные начальники встретили меня там как родного, как долгожданного дорогого гостя, окружив меня чрезвычайным вниманием. В лагере я пробыл более суток, успев за это время помолиться с войсками, побеседовать и с военными начальниками, и еще больше со священниками.
Особо приятное впечатление произвел на меня благочинный 11-й пехотной дивизии протоиерей Константин Иванович Максимович, за свое благочестие и внимательное отношение к каждому любимый и уважаемый и своим 43-м пехотным Охотским полком, и всем корпусом.
При встрече с ним я первым долгом спросил: «А как о. Николай Хруцкий? Продолжает выпивать?» «После вашей проборки бросил это занятие. Чтоб бутылки не смущали его, все перебил в доме — матушке не во что налить керосину или постного масла. Тяжело ему бывает на праздничных обедах, когда видит всех выпивающими. Но держится», — ответил о. Константин. «Вы уж не оставляйте о. Николая без своей поддержки, пока он не привыкнет к сухому режиму», — попросил я о. Максимовича.
В отношении священников подтвердилось прежнее мое впечатление: все они способные к работе и достаточно образованные. чтобы с успехом работать, но нет у них выучки, нет и системы в работе. Даже совершение ими богослужения не могло удовлетворить меня: каждый служил по-своему, со своими, часто неудачными манерами и движениями: один — по-рязански, другой — по-тобольски, третий — по-полтавски и так далее. Каждый по-своему устанавливал богослужебный чин со своими, часто совсем несуразными сокращениями. Беседы священников
278
с нижними чинами бывали схоластичны, не всегда понятны и почти всегда безжизненны. Отношения между священниками и офицерским составом полков также не всегда бывали ровными и правильными; то они доходили до грубого панибратства, то до нежелательной обособленности.
Тут не все умели найти золотую средину, чтобы священник был для офицеров и добрым товарищем, и уважаемым духовным отцом. То же и в отношениях к нижним чинам. Некоторые священники, подражая офицерам, относились к ним не по-отцовски, а по-начальнически. И так далее. В беседах со священниками я старался обратить их внимание на все такие и иные недочеты в их пастырской службе. Поучая таким образом подчиненных мне священников, я в то же время старался подметить что-либо новое — доброе, мне неизвестное в их работе, в их взглядах и отношениях, чтобы затем воспользоваться им для всего ведомства. Уча их, я сам старался поучаться от них. И всегда старался проверять свои взгляды и свой опыт.
В августе этого же года я уделил несколько дней на поездку в Москву, чтобы познакомиться с московским военным духовенством. В Москве было 18 подчиненных мне церквей: 9 — гренадерских полков, 2 — артиллерийских, 1 — Сумского драгунского, 1 — тюремная, 1 — госпитальная, 1 — лагерная на Ходынском поле и 1 — Измайловской богадельни, 1 — Сергиево-Пантелеимоновского братства и 1 — Сергиево-Елисаветинского убежища для увечных воинов.
Первый мой визит в Москву был не из легких. Пришлось делать визиты множеству духовных, военных и гражданских чинов, побывать во всех церквах, побеседовать со всеми священниками: в каждой церкви надо было сказать собравшимся несколько слов. Труднее же всего было ублаготворить всех церковных старост.
Русское купечество вообще славилось большим гостеприимством, а московское — в особенности. Каждая же московская военная церковь имела старостой какого-либо богатого купца: старостой лагерной церкви был содержатель знаменитого ресторана «Яр» Алексей Якимович Судаков, старостой церкви 4-го Гренадерского полка — крупнейший меховщик Михайлов, старостой церкви 2-го Гренадерского полка — ковровый фабрикант Бренев и так далее. Каждый староста ждал моего визита. А визит состоял в следующем: прибыв в назначенный час, я заставал богато сервированный, уставленный всевозможными яствами и напитками стол, и начиналось угощение, продолжавшееся два-три-четыре часа, с настойчивыми приглашениями и просьбами еще скушать, еще выпить. Особенным гостеприимством отличался Судаков. Он всякий раз встречал меня на вокзале, увозил к себе домой и помещал меня в своем роскошном особняке,
279
предоставляя в полное мое распоряжение огромный кабинет и роскошный, в два света, зал. Угощал же он меня так, что и царский стол пред его угощением меркнул. «Яр» ведь был лучшим рестораном в России, а его повар получал министерское жалованье — 18 тысяч рублей в год при готовом столе и квартире. Привыкши к умеренному питанью, я не мог более трех дней пробыть в Москве и всякий раз возвращался в Петербург отяжелевшим, полубольным.
От духовенства Первопрестольной я ждал большего, чем увидел. Священники не блистали образованием. Из 16 священников только один был с высшим образованием, но и он оказался не без дефектов, иначе не ушел бы в 1887 г. из смотрителей духовного училища в полковые священники и на 25-м году священнической службы не оставался бы он без протоиерейского сана. Выделялся среди них священник 4-го Гренадерского полка о. Рафаил Прозоровский.
Во второй половине сентября я предпринял длиннейшую поездку, начав ее с Киева. Командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Николай Иудович Иванов, мой хороший знакомый по Русско-японской войне, будучи в Петербурге. просил меня посетить войска его округа, причем предложил мне по прибытии в Киев остановиться у него. «Я человек одинокий и скромный, а дом у меня огромный. Дам в полное ваше распоряжение две большие комнаты, а для разъездов свою колясочку вам предоставлю», —убеждал он меня. В этой поездке меня сопровождал начальник канцелярии М.П. Журавский, питомец Московской духовной академии выпуска 1886 г., мой земляк, старая канцелярская крыса, нелегкий человек.
Прибыв в Киев, я поместился у генерала Н.И. Иванова в его дворце, а Журавский — у своих знакомых. Не успел я с дороги выпить стакан чаю, как хлопотливый Николай Иудович вынес мне аккуратно сложенный листок с адресами лиц, которым я должен был сделать визиты: митрополиту Флавиану, генерал-губернатору Шипову, губернатору, викариям, разным военным начальникам. Всего мне предстояло сделать 21 визит. Я взмолился: «Помилуйте, Николай Иудович! Я же приехал сюда не визитировать, а увидеть ваши войска, помолиться с ними, побеседовать со священниками, а вы хотите сделать меня бродящим по Киеву визитером. Для такого числа визитов и суток не хватит. А мне предстоит еще далекий путь» — «Нет уж, батюшка, вы не спорьте! Послушаетесь меня, старика! Вы еще молодой человек, недавно назначены, если не сделаете кому-нибудь визита — тот обидится, врага можете нажить. Я дам вам свою одноконную колясочку, объедете всех. Во всем должен быть порядок» — «Тогда дайте мне автомобиль!» — сказал я. «Что вы, что вы! — ужаснулся мой генерал. — Духовное лицо, важное и на автомобиле... Весь город заго-
280
ворит об этом, сами рады не будете... На колясочке, на колясочке поедете». С длинной бородой, благочестивой осанкой и простоватыми манерами, Николай Иудович был бы более подходящим для должности настоятеля солидного монастыря, чем для высокого военного поста. А я на его одноконной колясочке прыгал по Киевским холмам, более дня потратил на визиты. Николай Иудович умер в 1919 г. Что он сказал бы теперь, когда и митрополиты, и патриархи, забыв о каретах, ездят на автомобилях и летают на аэропланах68?
В Киеве военное духовенство не было многочисленным: при соборе — три протоиерея, три диакона и два псаломщика: четыре полковых священника (33-й пехотной дивизии), священник с дьяконом при госпитальной церкви и священник с дьяконом при Военно-Прозоровской церкви. И тут, как в Москве, не было ни одного священника с высшим образованием69. Все священники киевские не выделялись из ряда обыкновенных: они не блистали ни дарованиями, ни особыми заслугами, ни особым влиянием на свои паствы. Наибольшей любовью и уважением военных чинов пользовался протоиерей 129-го Бессарабского пехотного полка Александр Леонтьевич Дородницын, с 1884 г. служивший в этом полку и вместе с ним проведший войну 1877-1878 гг., ставший как бы священной реликвией полка. Толковый, сердечный и обходительный, он действительно заслуживал уважени70.
Во время пребывания моего в Киеве произошло следующее печальное событие. В ряду других я сделал визит 1-му викарию Киевской епархии епископу Павлу, раньше служившему настоятелем Киевского Софийского собора. Я заехал к нему в Михайловский монастырь в 6 часов вечера. Красивый, приветливый, словоохотливый старичок, епископ Павел произвел на меня весьма приятное впечатление. Угощал меня вкусным чаем и еще более вкусными грушами. В половине седьмого я простился с ним, так как он должен был ехать в Купеческий клуб для служения панихиды: это был 40-й день кончины П.А. Столыпина. «Может быть, и вы примете участие в нашем печальном торжестве?» — обратился он, прощаясь, ко мне. Я обещал принять участие в панихиде.
На панихиду я отправился вместе с генералом Н.И. Ивановым. Когда мы прибыли, клуб уже был переполнен, духовенство стояло в облачениях. Епископ Павел приказал дать мне облачение, я стал около него. Тотчас началась панихида. Протодиакон возгласил: «Благослови, владыко!» Епископ Павел слабым голосом произнес: «Благословен Бог наш»... и, не докончив возгласа, упал к моим ногам. Его унесли в соседнюю комнату. Духовенство начало служить молебен о недужном. Только успели пропеть «Царю небесный», как вышедший доктор сообщил собравшимся, что владыка скончался. Начали
281
служить панихиду, поминая и П.А. Столыпина, и новопреставленного епископа Павла. Такова жизнь человеческая; полчаса тому назад епископ Павел приятно беседовал со мною, хлопотал о земном, прося меня принять в военное ведомство его родного племянника-священника, что я вскоре и сделал (принятый оказался очень хорошим священником), а сейчас владыка лежал бездыханный на столе.
Во все время моего пребывания в Киеве генерал Н.И. Иванов не переставал опекать меня, следя за каждым моим шагом. Признаться, такая опека иногда была и тягостной, но, ценя его добрые чувства, я терпеливо сносил ее.
Начальником штаба Киевского военного округа был тогда мой старый знакомый, бывший профессор Академии Генштаба генерал-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев. Он и тут успел заявить себя работником огромного масштаба, безмерно превосходившим своего патрона. Успела приобрести великие симпатии в Киеве и супруга генерала Алексеева, энергичная, неутомимая вечная печальница о страждущих и бесприютных Анна Николаевна, развившая там большую благотворительную деятельность. Приятнейшей особенностью этой четы было то, что оба они делали большие дела скромно, незаметно, стараясь оставаться в тени. Я несколько раз посетил их.
Простившись с Киевом, я направился в Одессу. В Одессе было всего шесть военных священников: 59-го и 60-го пехотных полков, 15-го и 16-го стрелковых полков, законоучитель военного училища и госпитальный священник. Принят я был в Одессе чрезвычайно сердечно: меня поместили в лучшей гостинице, вечером священники и ктиторы чествовали меня в гостинице же роскошным обедом. На следующий день я посетил все церкви, побеседовал с войсками, побывал на уроках в военном училище и, конечно, расправился с неизбежными визитами. Неотразимое впечатление произвел на меня тамошний архиепископ Димитрий (Ковальницкий).
Я дважды заезжал к нему. В первый раз не застал его. Во второй раз у меня до отхода парохода, на котором я должен был ехать в Севастополь, оставалось около часу. Он встретил меня как родного, хотя я в первый раз видел его. Бывший выдающийся профессор Киевской духовной академии, принявший монашество после того, как жена оставила его, архиепископ Димитрий среди тогдашних российских иерархов представлял крупнейшую фигуру. Величественный по внешнему виду, он отличался большим умом, непреклонной волей, добрым сердцем, большой инициативностью. Бывшие питомцы Киевской духовной академии с восторгом вспоминают о нем как о профессоре, инспекторе и затем ректоре этой академии. Не могу забыть его приема. Усадив меня на диван рядом с собой, архиепископ Ди-
282
митрий обратился ко мне; «В первый раз вижу я вас, а уж очень сразу полюбились вы мне. Погостили бы вы у меня денек! Побеседовали бы с вами, душу отвел бы я...» Мне самому чрезвычайно приятно было бы побеседовать с этим мудрым архипастырем. Но пароход не мог ждать меня. От архиепископа я прямо проехал на пароходную пристань.
Одесское военное духовенство произвело на меня лучшее впечатление. чем киевское. В его работе, отношении к воинским чинам видна была жизнь и даже творчество. Самое лучшее впечатление произвел на меня священник 16-го стрелкового полка Леонид Розанов.
Сравнительно молодой (37 лет от роду), жизнерадостный, энергичный и тактичный, он сумел заслужить и любовь, и уважение в своем полку. Таким он оказался и на войне. Вот другой священник, М. К., в мирное время слыл чуть ли не за святого, а как началась война, отказался идти с полком. Меня тогда чрезвычайно огорчило это.
Но вот я выехал на пароходе из Одессы. В первый раз я совершал морское путешествие. Нептун был милостив ко мне; погода стояла прекрасная, об изнурительной морской качке и помину не было. После беспокойных дней, проведенных в Киеве и Одессе, я отдыхал и телом, и душою. В Севастополе мне предстояла большая работа; там кроме морского собора с четырьмя священниками, двух полковых (13-й дивизии) и морского кладбищенского было еще 11 судовых священников. Мне предстояло увидеть и квартировавшие в Севастополе 49-й и 50-й пехотные полки, побывать на кораблях, на которые никогда не заглядывали мои предшественники, обстоятельно побеседовать со священниками и, наконец, провизитировать начальствующим лицам.
В Севастополь пароход прибыл 22 сентября, под вечер. На пристани меня встретили вместе с духовенством морские и военные начальники и между последними — начальник военной воздухоплавательной школы полковник Генштаба Сергей Иванович Одинцов, окончивший курс академии в 1902 г., мой знакомый. «Вы, о. протопресвитер, должны посетить мою школу и благословить моих летчиков». Мы условились, что 23-го в 6 часов утра он пришлет за мною автомобиль.
На следующий день в назначенный час я был на аэродроме. Там меня встретили все воздухоплаватели с начальником школы во главе. Поздоровавшись со всеми, я сказал несколько слов обучающимся в школе, пожелав им Божьих благословения и помощи в их новом деле. В воздухе стояла полная тишина. Солнышко нежно светило. Офицеры начали полеты. Ко мне обратился с просьбой капитан лейб-гвардейского Саперного батальона, мой сосед в Петербурге (церковь этого батальона стояла рядом с моим домом) полететь с ним. Я без колебаний согласился. Мы сделали
283
несколько кругов над аэродромом на высоте 300-400 метров. Все были очень довольны. Теперь мой поступок никому не может показаться легкомысленным иль странным: летают же теперь на аэропланах и митрополиты, и патриархи. Как же я. благословлявший летчиков на их работу, мог отказаться от полета с ними? Мой отказ могли принять за трусость. Но тогда, как увидим, совсем по-иному отнеслись к моему маленькому воздушному путешествию.
Когда, вернувшись в Севастополь, я похвастался, что не только видел воздухоплавательную школу, но и летал на аэроплане, М.П. Журавский пришел в ужас: «Что вы сделали! Что вы сделали! Что подумают о вас! Не обойтись вам без больших неприятностей» И так далее. Как я ни доказывал, что я не мог поступить иначе, что в моем полете нет ничего зазорного, он твердил свое и, признаться, несколько смутил меня. Мое смущение еще больше усилилось, когда по пути в Батум я прочитал в «Новом Времени» сообщение: «Севастополь. 23 сентября. Протопресвитер военного и морского духовенства летал на военном аэроплане». Первая мысль явилась у меня: «Что-то скажет Н.И. Иванов, не позволивший мне в Киеве ездить на автомобиле?» А Журавский твердил свое: «И надо же было вам соглашаться на полет. Вот видите: уже в Петербурге знают об этом». В Петербурге, действительно, мой полет дал пищу для разговоров. Рассказывали мне. что больше всех возмущался великий князь Константин Константинович, находивший мой поступок легкомысленным, не подходящим для протопресвитерского сана. Даже в любившей меня Академии Генштаба голоса профессоров разделились: одни хвалили, другие осуждали меня. Болгарская пословица говорит: «Всеко чудо за три деня» (всякое чудо на три дня). Скоро забыли и о моем полете. В 1915г., летом в Барановичах, на завтраке у государя я сам напомнил о нем. Государь, между прочим, сказал, что взгляды людские часто меняются: считавшееся раньше неприличным, непозволительным теперь считается обыкновенным, принятым. Я продолжил его мысль, рассказав случай с Н.И. Ивановым, не позволившим мне делать визиты на автомобиле. Государь искренно смеялся: уже в то время духовные лица, ездившие на автомобилях, не вызывали ничьего осуждения или удивления. «А в Севастополе тогда же был такой случай», — сказал я и передал историю с моим полетом. «Кажется, — сказал я, — и Вашему Величеству тогда докладывали осуждавшие меня». «Нет, я об этом не слышал. Но я не похвалил бы вас», — ответил государь. «Почему. Ваше Величество?» — спросил я. «А вы одобрили бы меня, если бы я полетел?» — спросил государь. «Не одобрил бы, потому что вы могли бы разбиться. А если бы я разбился, от этого большого несчастья не произошло бы. Вы избрали бы другого протопресвитера — этим дело и кончилось бы», — ответил я. Больше царь ничего не сказал.
284
В Севастополе я пробыл два дня. Мои впечатления были таковы. Командовавший Черноморским флотом адмирал Эбергардт — чудный человек, приветливый и ласковый, добрый и серьезный. Моряки отзывались о нем как о хорошо знающем свое дело, но считали его слабохарактерным, поддающимся посторонним влияниям. В то время неограниченным влиянием у него пользовался, как рассказывали мне, настоятель Севастопольского адмиралтейского собора протоиерей Роман Иванович Медведь, возглавлявший черноморское духовенство. О. Романа Медведя нельзя обойти молчанием или отделаться от него несколькими словами. В 1898 г. окончивший курс Санкт-Петербургской духовной академии, молодой для своего большого поста, умный и начитанный, о. Медведь отличался одной особенностью: он больше всего любил слушать самого себя. Когда он начинал говорить или докладывать, можно было быть уверенным, что он не кончит, пока не остановят его. Говорил он медленно, тягуче, вкрадчивым голосом, смакуя каждое слово, останавливаясь на мельчайших подробностях. При этом улыбка все время играла на его безусом лице. Когда он приезжал в Петербург, я с ужасом ждал его доклада, всякий раз отнимавшего у меня не менее двух часов и чрезвычайно утомлявшего меня. Небольшого роста, худощавый, безбородый, всем улыбавшийся и в то же время старавшийся придать своей невзрачной фигуре возможно большую важность, о. Медведь на некоторых производил неприятное впечатление — что-то иезуитское просвечивалось в нем. Но он сумел очаровать адмирала Эбергардта и, как рассказывали моряки, оказывал на него большое неблагоприятное влияние. Морские офицеры не любили, даже можно сказать, ненавидели его и не упускали случая, чтобы поиздеваться над ним. Вспоминается один случай.
Услышав, что я для ознакомления с морской службой плавал на корабле, о. Медведь попросил адмирала Эбергардта позволить и ему поплавать на корабле. Адмирал разрешил. Когда о. Медведь вошел в отведенную ему на корабле каюту, он увидел висящего, подвязанного за хвост к потолку медведя. Офицер объяснил, что это постоянное украшение данной каюты. В действительности же медведь появился тут специально для о. Медведя. Дело было осенью, когда Черное море любит шалить. Во время медвежьего плавания начался шторм, а о. Медведь оказался подверженным морской болезни. О бывшем с о. Медведем во время плавания рассказывали офицеры: «Это был единственный в естественной истории случай, что медведь ревел белугой».
Стараясь угодить адмиралу, о. Медведь пустился было в опасную и для священника преступную аферу: он предложил морским священникам выпытывать на исповеди их настроение, их политические взгляды и затем докладывать ему. Когда началась
285
революция, только бегство из Севастополя спасло о. Медведя от жестокой мести.
В 1916 г. по возвращении государя из Севастополя мне пришлось защищать о. Медведя. Был воскресный день; у государя по минутам было распределено время: в 10 часов — литургия во Владимирском соборе, в половине 12-го — прием дворянской депутации, в 12 — прием другой депутации, в половине первого — третьей, в час — завтрак. Медведь же, решив показать царской семье все свое богослужебное искусство, едва к 12 часам кончил литургию. Спуталось все. Всегда точный в расписании времени, государь со своей семьей и приглашенными к высочайшему завтраку вкушали не в час, как было назначено, а в 3-м часу дня. Когда государь вернулся в ставку, генерал-адъютант адмирал Нилов, сопровождавший государя в Севастополе, набросился на меня: «Такого глупого протоиерея, как севастопольский, давно следовало выгнать из ведомства. Нашел время и место показывать свои фокусы... И кому? Царю и его семье. Два часа держал нас в соборе, все запутал нам. Государю пришлось всех принимать с опозданием на целый час. Нигде такого безобразия не случалось». Я решил извиниться пред государем за о. Медведя. «Прошу Ваше Величество, — обратился я к нему, — не поставить в вину севастопольскому протоиерею Роману Медведю. что он, проявив излишнее усердие в соборе, нарушил Ваш порядок дня. Это способный священнослужитель, по тут он не понял, что нельзя Вас и Всппу семью утруждать слишком большой службой». «Да, — ответил государь. — он слишком долго задержал нас в соборе, после него все у нас перепуталось, и мы завтракали, сильно проголодавшись, в третьем часу. Мои дочери очень нападали на него. Я должен был защищать его. Я понимаю, что он хотел доставить нам удовольствие, а вышло иное. Бывает так».
Севастопольское морское и сухопутное духовенство не произвело на меня особенного впечатления. Побеседовав с собравшимися священниками, пригласив, в особенности морских священников, усилить свою пастырскую работу, я на пароходе выехал в Батум. Это было 25 или 26 сентября. Черное море пошаливало, и меня мутило, но все же я мужественно перенес качку. По пути, в Сухуме, я принял священника и командира стоявшего в этом городе 203-го пехотного Сухумского полка и время остановки парохода провел в беседе с ними.
Вот и Батум. Хорошенький городок, с тропической растительностью и очень красивым, хоть и небольшим собором, в который по повелению императора Александра III назначались священники только русской народности. Настоятелем этого собора был переведенный мною из Петербурга протоиерей Николай Александрович Каллистов, бывший главный священник 3-й Маньч-
286
журской армии. Теперь я позавидовал бы о. Каллистову. Чего ему было желать лучшего? Прекрасный храм, приятный город, хороший климат, берег моря, совершенно обеспечивавшее его содержание жалованье по должности настоятеля собора и причтовые доходы. Чем мог Петербург привлекать его? Книжными сокровищами, научными собраниями, лекциями? Но всем этим он не интересовался. Столичной суетой и разнообразием жизни? Но какое разнообразие жизни, какая суета нужны священнику, да еще достигшему преклонных лет — о. Каллистову шел 64-й год? Большими материальными средствами, которые ему предоставляла столичная церковь? Но и в Батуме материальных средств по горло хватало ему: он получал очень солидное жалованье, у него, как говорили, были хорошие сбережения, которых с преизбытком хватало на жизнь одинокого человека: Каллистов был бездетным вдовцом. Жить бы о. Каллистову в Батуме да Бога благодарить за посланное ему после бурной и мятежной жизни место для благоденственного и мирного жития. Но о. Каллистов дулся на меня, а я делал вид, что не замечаю его настроения, и старался утешить старика.
В Батуме кроме о. Каллистова был только один еще военный священник — стоявшего там 204-го пехотного полка, благочинный 51-й дивизии, осетин Мамитов, 63-летний старец. Помолившись в соборе, побывав в полку и отслужив там молебен, побеседовав с о. Мамитовым, я отправился дальше для посещения войск Кавказского военного округа.
В эту поездку я посетил Карс, Александрополь, Кутаис и Тифлис. В Карсе стояли два полка (79-й и 80-й) 20-й пехотной дивизии и 1-й Уманский казачий полк, в Александрополе —два пехотных (153-й и 154-й) 39-й пехотной дивизии и кавалерийский — 18-й Северский драгунский полк, в Кутаисе тоже два полка (201-й и 202-й) 51-й пехотной дивизии и 1-й Хоперский казачий полк. Кроме того, в Карсе и Кутаисе были военные госпитали. Я не оставил без посещения ни одного полка, везде совершая молебны и сопровождая их беседами. В Карсе в церкви 80-го Кабардинского полка и в Кутаисском военном госпитале я совершил литургии. Во всех местах, конечно, уделял много времени сердечным беседам со священниками.
Войска и духовенство встречали меня с необыкновенным радушием, отличающим кавказские нравы. Но тут была и другая причина радушия: ни один из моих предшественников не заглядывал в эти отдаленные от центра России места. Прибытие протопресвитера было беспримерным событием. Чрезвычайное же гостеприимство проявил 153-й Бакинский полк. Там я встретил нескольких своих боевых товарищей, служивших в 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку: Георгия Зедгинидзе, братьев Тихоновых, Арсения Микаберидзе и других, встретивших меня
287
как родного, как дорогого гостя. Командовал этим полком полковник Лесневский (кажется, не ошибаюсь). Поляк и католик, он, однако, проявлял чрезвычайную заботливость о полковом храме. Теперь он принял все меры, чтобы как можно торжественнее и пышнее встретить меня. Ужин в этом полку продолжался за полночь. Излияниям чувств конца не было. Полк готов был чествовать меня и на следующий день, но я поспешил оставить радушный Александрополь.
В Тифлисе мне предстояла большая работа; два собора — Александро-Невский (с тремя протоиереями, протодиаконом, диаконом и псаломщиком) и Николаевский (с протоиереем, диаконом и псаломщиком), 15-й и 16-й гренадерские полки. 5-й Кубанский пластунский батальон, 17-й драгунский Нижегородский полк, военный госпиталь и военное училище. А затем... визиты. Прибыв в Тифлис, я прежде всего представился наместнику графу Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову. Такого вельможи я не встречал ни раньше, ни позже. Наружный вид, изысканность манер, аристократическая простота в обращении делали его величественным и очаровательным. Граф принял меня весьма приветливо, усадил в гостиной, познакомил с графиней, расспрашивал меня о Петербурге, о моих впечатлениях от поездки по Кавказу, о моем дальнейшем маршруте. «Может быть, вам нужен конвой? Тогда я велю, чтобы он сопровождал вас», — предложил он мне. Я, конечно, отказался от конвоя.
После наместника я сделал визит экзарху Грузии архиепископу Иннокентию, которого я знал по Петербургу, где он раньше служил викарием. Величественный, умный и ловкий, он очень подходил наместнику. Кажется, последним он и был выведен на высокий пост экзарха. Обед у него и продолжительная беседа с ним доставили мне большое удовольствие. Потом следовали визиты; помощнику наместника генералу Шатилову, командиру корпуса генералу Александру Захарьевичу Мышлаевскому, бывшему блестящему профессору Академии Генштаба и моему сослуживцу по академии и другим.
На следующий день я начал объезд воинских частей. Генерал Мышлаевский сопровождал меня. Откровенно сказать, это значительно стесняло меня; после каждого молебна я произносил речь, и не сопровождай меня генерал Мышлаевский, прекрасный оратор и строгий критик, я чувствовал бы себя свободнее и мог повторяться в речах, а в его присутствии приходилось напрягать внимание и избегать повторений. Последним пунктом нашей поездки был 17-й драгунский Нижегородский полк, кавказская гвардия, которым командовал бравый полковник гвардеец Гильленшмидт, а священником был о. Павел Вороновский. В этом полку нас ожидал завтрак.
288
Кавказцы отличаются большим гостеприимством и еще большим многоглаголанием — на их парадных завтраках и обедах много выпивается вина и еще более выливается речей. И на нашем завтраке полились речи. Одним из первых говорил старший полковник князь Меликов. В Петербурге я знал его жену, разведенную, а его сыну до назначения меня протопресвитером давал уроки Закона Божия. Самого же его я впервые видел. Весь тост Меликова состоял из прославлений меня: я и такой, и этакий — одним словом, лучшего быть не может. Закончил Меликов свой тост приглашением: «Итак, выпьем за генерала Мышлаевского!» «А я-то тут причем?» — удивился Мышлаевский. После обеда я посетил Тифлисское военное училище, начальником которого был генерал Загю, а законоучителем — очень достойный протоиерей кандидат богословия Михаил Архангельский. Помолился, побеседовал с юнкерами, потом за чашкой чаю провел несколько минут в беседе с начальником и чинами училища, а вечер я посвятил беседе со священниками.
Отличное впечатление произвел на меня священник Нижегородского полка П. Вороновский: 43 лет от роду, умный, воспитанный, тактичный и в то же время весьма благообразный, он пользовался большой любовью полка. Возглавлявший Тифлисское военное духовенство настоятель собора и благочинный тифлисских военных церквей протоиерей Тимофей Веселовский во всех отношениях уступал ему. На меня он произвел впечатление подлаживающегося, заискивающего, неискреннего и не очень умного человека, ласкательством приобретавшего расположение сильных мира, главным образом, дам.
По пути из Тифлиса в Петербург я задержался в г. Баку, где было два объекта для моей цели: бакинская портовая церковь с двумя священниками и диаконом и 206-й пехотный Сальянский полк, которым командовал мой бывший сослуживец по 33-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку, симпатичнейший полковник Кванчехадзе. Полк чествовал меня пышным обедом, а к отходу поезда прислал чуть ли не целый воз чарджуйских дынь, причинивших мне в пути немало хлопот.
Ревизионная поездка Киев — Баку ознакомила меня со значительной частью военного и морского духовенства, с их настроением, работоспособностью, с отношениями между ними и военными начальниками, с нуждами и запросами войск. Она же дала мне возможность закрепить связи с военными начальниками, что для успеха дела оказывалось не лишним. Приглядываясь к работе лучших священников, я почерпнул кое-что и для своего пастырского опыта.
Виноват. Я не упомянул еще об одном пункте, задержавшем меня на один день: о Владикавказе. Там стоял 81-й пехотный Апшеронский полк, находились военный госпиталь и штаб 3-го
289
Кавказского корпуса, с командиром которого генерал-лейтенантом Алексеевым мне нужно было встретиться. Генерала Алексеева я знал по Русско-японской войне, когда он командовал 5-й Восточно-Сибирской дивизией, входившей в состав 1-й Маньчжурской армии. В отличие от бывшего профессора Академии Генштаба его звали Желтоглазым, потому что у него один глаз был черный, а другой желтый. Этот генерал Алексеев был одним из тех военных, которые в разговоре с духовными лицами старались выбирать религиозные темы. «Я человек православный, — начал генерал Алексеев, — люблю религию, в церковь хожу. Но я верую, как царь: царь православный — и я православный: перейди царь в магометанство — и я стану магометанином...» «Это очень оригинально, — сказал я, — такой религиозности я еще не встречал».
Из виденного и замеченного мною во время ревизионной поездки по Киевскому, Одесскому и Кавказскому военным округам я вынес следующие заключения.
1) Во многих местах пастырская работа военных и морских священников оставляла желать лучшего в отношении совершения богослужений, ведения бесед с нижними чинами, отношений священников к офицерам и нижним чинам. Для придания богослужениям большей жизненности и плодотворности священники нуждались в авторитетном руководстве.
2) В больших городах имевшиеся там военные или морские священники принадлежали к разным дивизиям и к разным благочиниям. Объединяющего всех их и ответственного за их работу лица не было, почему не могло быть и объединенной, согласованной работы всего духовенства. В Москве, например, военные священники принадлежали к пяти благочиниям, в Тифлисе — к трем, даже в Карсе, где имелось всего четыре священника, два принадлежали к одному благочинию, казачий — к другому, а госпитальный сам себе подчинялся. Это создавало большие затруднения для военных начальников при их сношениях со священниками гарнизона. Для меня стала очевидною необходимость учреждения должностей гарнизонных благочинных, которым подчинялись бы все священники гарнизона и которые были бы ответственны за их согласованную работу.
3) Для священников требовалась помощь в ведении ими внебогослужебных бесед. Существовавшие пособия были недостаточны. Требовалось нечто новое, более жизненное, отвечающее нуждам и интересам воинства. Требовать от священников, чтобы каждый из них сам изобретал это новое, нельзя было, ведь для того и существует начальство, чтобы помогать подчиненным. Прибыв в Петербург, я поручил священнику кронштадтской морской Богоявленской церкви кандидату богословия Сергею Тихоновичу Путилину, человеку очень спо-
290
собному, составить военно-морской катехизис, дав ему при этом свои зтсазания. О. Путилин вскоре блестяще исполнил заданную ему работу. А я сам составил небольшую книжку «Служение священника на войне», изобразив в ней все возможности для плодотворной работы священника на бранном поле. Эта небольшая книжечка явилась своего рода откровением для публики, считавшей, что вся работа священника на войне сводится к служению молебнов и панихид, погребению убитых и умерших да в редких случаях к хождению священника с крестом в руке в бой впереди полка. Известный публицист В.В. Розанов в «Новом Времени» поместил восторженный отзыв о моей книге.
Осенью 1911 г. командир лейб-гвардейского драгунского Московского полка, квартировавшего в г. Твери, князь Енгалычев пригласил меня прибыть в полк для освящения устроенной им читальни для нижних чинов. Такая читальня была полной новинкой в Российской армии. Я, конечно, согласился.
Московские драгуны обратили освящение читальни в большое торжество. Мне сослужили полковой священник, он же и благочинный 1-й кавалерийской дивизии, толковый и выдержанный о. Василий Дмитриевич Спасский и священник 8-го Гренадерского полка Константин Тихвинский. Очень стройно пел полковой хор. Богослужение происходило в самой читальне — огромной, красиво убранной комнате. После освящения следовал богатый обед, обязанный обилием роскошных яств старосте полковой церкви московскому купцу-колбаснику Григорьеву, чрезвычайно доброму и милому человеку.
Пред самым обедом князь Енгалычев попросил меня уделить несколько минут для разговора с одним из офицеров его полка, нуждавшимся в моем совете. В отдельной комнате наедине офицер изложил мне свою просьбу, которая состояла в следующем. Около двух лет тому назад он повенчался со своей, кажется, двоюродной сестрой. Теперь они ждут ребенка. Но какой-то злой человек донес об их незаконном браке. Началось дело. Предстоит насильственное расторжение брака. «Мы любим друг друга... Расторжение нашего брака будет страшнейшим для нас несчастьем. Спасите нас!» — воскликнул со слезами офицер. «Трудное дело, — ответил я. — Чтобы защищать вас, я должен просить Святейший Синод не исполнять закон. Поймите, что в моем положении это по меньшей мере неудобно! Подумаю, как вам помочь». Вернувшись в Петербург, я попросил военного министра Сухомлинова умолить государя повелеть Синоду прекратить дело этого офицера. Сухомлинов, перед тем очень болезненно перенесший собственный развод, принял к сердцу мою просьбу и испросил у государя нужное повеление. Чета была спасена.
291
Будучи в Твери, я посетил Тверского архиепископа Антония. Благочестивый, но замкнутый, нелюдимый, не для управления ответственной кафедрой, а для монашеской кельи он был пригоден. Это была ошибка, что таких выдвигали на высокие административные посты.
XIII. Наиболее примечательное из пережитого в 1912 году
Когда я теперь, на склоне своих лет. бесстрастно и совершенно объективно оглядываюсь на дореволюционную российскую церковную жизнь и тогдашних церковных деятелей, я всякий раз прихожу к заключению, что самой интересной в российском церковном ведомстве была должность протопресвитера военного и морского духовенства. Читатель согласится со мною, когда я объясню ему преимущества положения этого духовного сановника.
К сказанному в начале XI главы я прибавлю следующее. Протопресвитер военного и морского духовенства не только мог, но и должен был странствовать по всей России, по всем углам которой — земным и морским — была расселена его паства. И везде как высокопоставленный и желанный гость он был принят и военными, и гражданскими начальниками, старавшимися познакомить его с достопримечательностями и достижениями края. Запретных углов для протопресвитера не было. Для своих поездок он во всякое время мог пользоваться бесплатной воинской литерой, предоставлявшей ему место 1-го класса. По распоряжению министра путей сообщения протопресвитеру всегда отводилось отдельное купе 1-го класса. При дальних же путешествиях протопресвитер пользовался прогонными деньгами по 15 коп. за версту, для каковой цели ему отпускался особый кредит по 5 тысяч рублей в год. Часто протопресвитеру предоставлялся отдельный вагон 1-го класса или салон-вагон. Другой особенностью службы протопресвитера было то, что он являлся непременным участником всех великих торжеств, на которых присутствовал государь. Если такие торжества происходили не в Петербурге, то заботу о помещении, питании, передвижении протопресвитера принимало на себя Министерство двора. Мне пришлось быть участником грандиозных торжеств в память Отечественной войны 1812 г. в Москве и на Бородинском поле и в 1913 г. — Романовских торжеств по случаю исполнившегося 300-летия царствования Дома Романовых в Санкт-Петербурге. Костроме и Москве. Постоянные встречи с министрами, военачальниками и разными государственными и общественными деятелями, все новые и новые знакомства и впечатления — это было особенностью протопресвитерского служения. Человека
292
дела не могла не увлекать и роль, отведенная протопресвитеру как церковно-государственному деятелю: ему поручалось религиозно-нравственное попечение об армии и флоте. Опыты предшествовавших войн с очевидностью показали, что российские православные священники могли различными путями содействовать успехам и славе российского воинства. Военный и морской священник мог быть добрым гением своей паствы. Бывали случаи, что священники на поле брани решали участь боя. Зависевшие от протопресвитера подбор военных и морских священников. воспитание их, руководство ими, содействие им в их работе являлись важным для государства делом.
Но чем больше я втягивался в работу, чем более я изучал настроение и нужды разных частей великой Российской армии, чем более я проникал в сложность лежавших на протопресвитере обязанностей, его долга пред Богом и Родиной, тем более я приходил к сознанию собственной недостаточной подготовленности к прохождению протопресвитерской должности, как и несовершенной работы моих предшественников.
Да простят мне глубоко почитаемые мною мои предшественники протопресвитеры А.А. Желобовский и Е.П. Аквилонов мое дерзновение критически отнестись к их протопресвитерской деятельности! Не желание чем-либо омрачить их память и еще менее — возвеличить себя, а чувство долга не утаивать ошибок прошлого, чтоб они не повторялись в будущем, побуждает меня сказать правду об их ответственном стоянии на протопресвитерском посту.
Протопресвитера А. А. Желобовского я застал быстро дряхлевшим стариком. Дряхлость одолевала его, когда ему еще не было 70 лет. Б последние годы своей жизни он был полной развалиной и более всего интересовался собственным покоем. Правда, его служба протекала в то время, когда большинство деятелей предпочитали плыть по течению, шаблонно исполняя обязанности своего звания. Характерно, например, было то, что А.А. Желобовский, прослужив 15 лет в должности протопресвитера, продолжал оставаться с обывательским взглядом на служение священника на войне и даже не пытался разрешить вопросы, возбуждавшиеся современным ходом войны. С одряхлением протопресвитера явно дряхлело и возглавлявшееся им ведомство: в его работе не было воодушевления, огня, размаха, новизны, совершенствования методов и способов деятельности, оно плыло по течению по традиции, а чаще — по воле и усмотрению составлявших его.
Протопресвитер Е.П. Аквилонов, ученый, честный, доброжелательный. благородный, при всех своих высоких качествах был совсем неподготовлен к протопресвитерской должности: он не знал ни армии, ни ее нужд и запросов, ни военного и морского ду-
293
ховенства — его личного состава, обязанного удовлетворять эти нужды. Его манера обращения с людьми была не в его пользу, а быстро развивавшаяся страшная болезнь, саркома, отнимала у него душевный покой и лишала его нужной трудоспособности. Вдобавок ко всему этому он протопресвитерствовал менее одиннадцати месяцев. В такой короткий срок и здоровый человек не смог бы изучить все особенности ведомства.
Теперь я покритикую самого себя. Меня ведь тоже никто не подготовлял к протопресвитерству, а сам я не смел помышлять об этом высоком посте. Правда, я имел значительный стаж: около десяти лет я прослужил в Академии Генштаба, где получил возможность хорошо ознакомиться с рядовым офицерством и высшими слоями армии: затем в течение двух лет я служил в действующей армии — десять месяцев полковым священником и благочинным и более года главным священником армии. В первой должности я познакомился с сибирскими войсками и уразумел службу священника на поле брани, во второй — приобрел некоторый административный опыт. Моим девизом было изречение народной мудрости: «Век живи, век учись». Кто не идет вперед, тот остается позади. Постоянное совершенствование в работе, постоянное творчество были увлекавшей меня стихией. Но я не мог сказать, что в совершенстве знаю и армию, и флот — с их разнообразными нуждами, с их настроениями, с условиями возможной в их среде пастырской работы. Не знал я и огромнейшей части военного и морского духовенства.
Незнакомому с бытом, укладом жизни и настроением разных частей великой Российской армии могло казаться, что все полки как полки. Между тем каждый полк, как и каждая иная воинская часть, имел свой духовный облик, свои традиции, свое настроение. В этом отношении даже между полками одной и той же дивизии замечалась большая разница. К примеру, взять полки 1-й гвардейской дивизии: Преображенский, Семеновский, Измайловский, Егерский. Именно в духовном отношении, в своих взглядах и симпатиях, в своем отношении к делу каждый из этих полков резко отличался от других. Еще большая разница замечалась между войсками внутренней России и окраинных округов — Сибирского, Кавказского, Туркестанского. Пастырская работа священников в значительной степени определялась особенностями местной военной жизни, с которыми должен быть знаком протопресвитер, обязанный руководить работой подчиненных ему пастырей.
Особенность протопресвитерского служения, между прочим, состояла и в том, что протопресвитер был вхож и в солдатские казармы, и в царский и великокняжеские дворцы: он должен был Заметь держать себя по-отечески, доступно и сердечно с нижними чинами и в то же время не ронять своего авторитета при обраще-
294
нии с великими и знатными мира — там он должен был считаться с великосветскими правилами и приличиями жизни, забвения которых не прощало высшее общество. Для меня, выросшего в деревенской глуши, в дьячковском доме, это требование великосветскости являлось немало затруднительным, особенно на первых порах моей протопресвитерской службы. Наконец, при моих встречах с иностранцами большим недочетом оказывалось незнание мной ни одного разговорного иностранного языка, меня очень смущавшее, а некоторых иностранцев удивлявшее.
Моим плюсом было то, что я сознавал недостаточную свою подготовленность и старался ко всему присматриваться, все изучать, подмечать, не стыдясь учиться от каждого из своих подчиненных. А главное — я ни на минуту не забывал, что я призван служить, а не начальствовать, не упиваться властью, а пользоваться ею для общего блага. Последнее было понято большинством военного и морского духовенства и оценено им.
23 февраля 1912 г. высочайшим приказом протоиерей И.В. Морев по моему представлению был назначен помощником протопресвитера военного и морского духовенства. С моих плеч свалились груды бумаг, которые я должен был перечитывать и писать на них свои резолюции, бумаг для дела безразличных, но отнимавших у меня много времени и утомлявших мое зрение. Протоиерей И.В. Морев оказался именно таким сотрудником, какой мне был нужен. Я ценил, уважал и любил его. Некоторая его вялость не мешала делу.
Большим событием 1912 г. были юбилейные торжества 1812г., происходившие в Москве и на Бородинском поле. Съезд на торжества был огромный: вся императорская фамилия, министры, разные депутации и так далее. Фигурировало и несколько ветеранов — участников войны 1812 г., в подлинности которых не без основания многие сомневались. По этому поводу рассказывали следующий случай. Командующий войсками Виленского военного округа и Виленский генерал-губернатор, генерал П.К. Ренненкампф, большой любитель эффектов и сюрпризов, решил, чтобы доставить удовольствие государю, найти в своем генерал-губернаторстве свидетеля событий 1812 г. Всем исправникам генерал-губернаторства было приказано немедленно сообщить, имеются ли в их уездах такие старожилы. Скоро генерал Ренненкампф получил от одного из исправников Минской губернии, чрез которую в 1812 г. проходили войска, известие, что в такой-то деревне живет крестьянин, которой собственными глазами видел Наполеона. Ренненкампф полетел туда, чтобы самому расспросить старика. Пред светлыми очами генерала предстал глубокий, но еще достаточно бодрый старик, бывший николаевский солдат. «Здорово, старина!» — обратился к нему генерал Ренненкампф. «Здравия же-
295
лаю, Ваше Высокопревосходительство!» — браво ответил старик. «Ты помнишь войну 12-го года?» — «Как не помнить. Ваше Высокопревосходительство! Французы ж тут проходили... Видимо-невидимо их было». — «А самого Наполеона видел?» — «Видел, видел! И самого Наполеона видел!» — «Где же ты его видел?» — «Где ж видеть? туг, в энтой самой деревне видел — у соседа на квартире ён жил». — «Интересно! Рассказывай, старина, все, что ты о Наполеоне знаешь! Самому батюшке Царю потом в Москве расскажешь» — «Что ж рассказывать? Бывало, как только рассветает, ён выходит на прогулку, значит. И зачнет, бывало, взад и вперед по улице ходить, этак руки за спину заложивши. И это кажиный день». — «Отлично, отлично, старина! А каков был Наполеон по внешнему виду? Ты ж, небось, запомнил?» — «Как не запомнить. Ваше Высокопревосходительство! Одно слово: ерой! Росту громаденного, в плечах сажень, борода до пояса...» Ренненкампф сразу изменился в лице. «Уберите этого болвана!» — приказал он исправнику и поспешил сесть в свой экипаж.
Командующим войсками Московского военного округа был тогда генерал от кавалерии Павел Плеве. Маленького роста, сутуловатый, близорукий, с некрасивым лицом, на котором резко выделялся большой нос, генерал Плеве не мог производить доброго впечатления своем наружным видом. Замкнутый, необщительный и неприветливый, придирчивый и мелочный, он не был любим своими подчиненными. Говорили тогда, что если бы он не был женат на Вере Александровне, родной сестре военного министра Сухомлинова, надо сказать, женщине чрезвычайно доброй и благородной, генералу Плеве никогда не занимать бы такого высокого поста.
Во время торжеств на Бородинском поле происходил большой парад, в котором участвовали чуть ли не все войска Московского военного округа. Командовал парадом генерал Плеве. На своем великолепном огромном жеребце Плеве был не только невзрачен, но и карикатурен. А тут еще его близорукость. Ведя войска, он не узнал государя и салютовал адъютанту. А когда ему сказали, что государь дальше, он попятился и задом своей лошади чуть придавил царя. Другой за такую оплошность был бы уволен, но зять военного министра только был обойден большой наградой, ожидавшей его.
К чести генерала Плеве надо сказать, что, командуя на Великой войне 5-й армией, он блестяще зарекомендовал себя, показав себя военачальником разумным и волевым, хоть и по-прежнему нудным и тягостным для подчиненных, особенно для ближайших своих сотрудников.
В общем же торжества 1812 г. прошли эффектно, величественно. Хлебосольная Москва не посрамила себя. Ей было что вспоминать о 1812 годе.
296
Во время этих торжеств я близко познакомился с третьим викарием Московского митрополита епископом Серпуховским Анастасием (Грибановским), и доселе продолжающим играть роль в эмиграции в сане митрополита, председателя Архиерейского Синода. На него была тогда возложена разработка всей церковно-церемониальной части торжеств. Лучшего церемониймейстера, чем епископ Анастасий, нельзя было желать. Но его беспримерная осторожность и угодничество перед высокопоставленными особами и их женами производили неприятное впечатление. Рассказывали, что хорошо понимавший его многоученый профессор Московской духовной академии Глаголев так выразился о нем: «Если бы Анастасий жил в то время, когда Моисей писал 3-ю главу книги Бытия, последний иначе написал бы 1-й стих этой главы. Вместо написанного тогда: «змий же бе мудрейший (по-русски «хитрее») всех зверей, сущих на земле», он написал бы: «Анастасий же бе мудрейший всех зверей, сущих на земле...»
Летом 1912 г. я посетил большинство судов Балтийского флота. Удивительный флотоводец, всегда скромный и всегда энергичный и заботливый, командовавший этим флотом адмирал Николай Оттович Эсеен был очень доволен моим посещением. У меня сразу как-то установились сердечные с ним отношения, несмотря на то что он был лютеранином. Были довольны и другие морские начальники. Один из адмиралов сказал: «Более 30 лет служу я на флоте, а в первый раз вижу нашего протопресвитера на корабле: глазам не верится». Были довольны и судовые священники. Давно служившие говорили мне: «Заброшены мы были прежними протопресвитерами, во флоте иногда на нас смотрели как на беззащитных, а теперь после вашего посещения авторитет наш поднялся».
Летом же этого года я совершил объезд значительной части финляндских военных частей: по приглашению командира 20-го Финляндского драгунского полка совершил закладку церкви в г. Вильманстранде, побывал в Свеаборгской крепости, настоятелем собора которой был молодой (41 год) и ловкий протоиерей Василий Ягодин, побывал в военных церквях г. Гельсинфорса и, наконец, обозрел военные выборгские церкви. В Выборге в день полкового праздника Финляндского стрелкового полка я совершил в церкви этого полка литургию. Священник этого полка Сергий Михайлович Соколовский заслуживал того, чтобы ему уделить особое внимание. Уроженец Новгородской епархии, окончивший курс Новгородской духовной семинарии, 35 лет от роду, уже 11 лет служивший священником в армии, о. Соколовский был самым энергичным, самоотверженно преданным своему делу военным священником. Его энергия была неиссякаема, он горел, не угасая, и все свое время отдавал своему полку: бесе-
297
дам с нижними чинами и офицерами, заботам о церкви. Не пил, не курил и вообще проводил самую строгую жизнь: его дом был домашней церковью. Но... и на солнце бывают пятна. Недостатком о. Сергия являлась его ревность не по разуму.
Офицеры 7-го Финляндского стрелкового полка были как все прочие офицеры: молодежь в особенности не прочь была выпить, поухаживать, а так как полковые вечера обычно происходили по субботам, накануне свободных дней, то и запоздать к церковной службе. А о. Сергий требовал от офицеров, чтобы они проводили такую же строгую, как он, жизнь, чтобы они подавали нижним чинам пример аккуратности во всем. Когда его убеждения и наставления оказались бесплодными, он начал, не стесняясь присутствием нижних чинов, в своих церковных проповедях обличать, а потом громить офицеров.
Командиром 7-го Финляндского стрелкового полка тогда был мой земляк, сын священника с. Иваново Невельского уезда полковник Генштаба Иван Константинович Серебренников, человек кроткий и доброжелательный. Он специально приехал в Петербург просить меня повлиять на о. Соколовского. Я вызвал последнего к себе. На мой совет изменить тон проповедей, щадить авторитет офицеров, избрать другие средства для их вразумления, если они действительно зарываются, о. Соколовский отвечал: «Они сами роняют свой авторитет: солдаты видят их безобразия и возмущаются. Я по Евангелию действовал: обличал их наедине, потом — при их же товарищах и уже, когда мои сердечно-товарищеские внушения оказались бесплодными, я стал обличать их пред всей церковью (Мт. 18, 15-17). Пусть бросят свои безобразия, и я перестану обличать их». Мои просьбы смягчить тон проповедей не подействовали, о. Сергий продолжал настойчиво вести свою линию. А командир полка все чаще заходил ко мне с просьбами усмирить грозного духовного отца. Я еще несколько раз вызывал к себе о. Сергия. В одно из посещений он заявил мне: «Я действую как подобает православному пастырю: если вы признаете, что я должен спокойно относиться к офицерским безобразиям, соблазняющим и развращающим солдат, то увольте меня от службы в армии, я найду себе другое место» Что мне было делать? О. Сергий по усердию и работоспособности был лучшим священником во всем ведомстве. В то время он собирал средства на постройку нового храма, сам выделывал кирпичи, рубил деревья, все свое время отдавая службе в полку и постройке новой полковой церкви. Уволить такого священника рука не подымалась. Но и оставлять его было небезопасно: недовольство офицеров грозило перейти в открытое возмущение. А он продолжал все более обострять свои отношения с офицерами: убедившись, что его грозные проповеди не приносят пользы, он начал громить офицеров в одной из черносотенных газет, помещая
298
язвительные и чрезвычайно резкие статьи. Под этими статьями стоял псевдоним «Кобзарь», но все знали, и сам о. Сергий не скрывал, что это его статьи. Новые визиты командира полка, новые вызовы неукротимого Кобзаря. Я уже приходил к решению уволить о. Соколовского как безнадежно неисправимого человека. Как ни тяжело было бы решиться на это, мне пришлось бы так сделать, если бы случай не выручил меня.
Скончался благочинный 2-й Финляндской стрелковой бригады священник Николай Крестовоздвиженский. Должность военного благочинного имела большие преимущества и в материальном, и в служебном положении священника. Из остававшихся трех священнослужителей этой бригады о. Соколовский по возрасту был младшим, но по ревности к службе он превосходил других. У меня явилась мысль назначить благочинным о. Соколовского, но под известным условием. Я вызвал его к себе. «Хочется мне, о. Сергий, назначить вас благочинным», — сказал я. «Покорнейше благодарю!» — весело ответил Соколовский. «Погодите благодарить. Есть одно препятствие, устранение которого зависит от вас», — сказал я. «Какое препятствие?» — спросил Соколовский. «Боюсь я, что если назначу вас благочинным, то мне самому придется бежать со службы» — «Почему?» — удивился Соколовский. «Вот почему. Теперь ваш командир полка еженедельно беспокоит меня жалобами на вас. А тогда начнут беспокоить меня и другие командиры полков бригады, и начальник бригады, пожалуй, и командир корпуса. Поэтому, прежде чем назначить вас, я ставлю такое условие: если вы согласитесь бросить свои грозные проповеди и перестанете заниматься ругательной литературой, я назначу вас благочинным. Согласны ли вы принять мое предложение?» Соколовский попросил дать ему день на размышление. На следующий день он явился ко мне с положительным ответом. Я назначил его благочинным, и он утихомирился. Во время Великой войны он, как увидим дальше, блестяще проявил себя.
Летом же 1912 г. я побывал в Двинске. В Двинском лагере стояли три полка (97-й и 99-й) 25-й пехотной дивизии и 25-я артиллерийская бригада. Я в переполненной воинскими чинами лагерной церкви совершал литургию, посетил военно-крепостной собор и военный лазарет. Двинское военное духовенство произвело на меня очень хорошее впечатление. Особенно понравились мне молодые, приветливые, любимые своими полками священники Дмитрий Митерев и Андрей Аркадов. Представительности благочинного, протоиерея Николая Игнатовича, значительно мешали маленький рост и небольшой горб. Настоятель собора протоиерей Иоанн Вещезеров отвечал своему назначению.
Из Двинска я проехал в Витебск. Там были всего две военные церкви: 100-го пехотного Островского полка и местная Никола-
299
евская. Когда я учился в Витебском духовном училище, последняя была и нашею училищной церковью. Теперь настоятелем ее был мой товарищ по семинарии священник Стефан Белинский, встретивший меня как самого близкого родственника.
После внимательных наблюдений над военной и морской жизнью у меня составился определенный тип военно-морского священника мирного времени. Для своей части он должен быть и духовным, попечительным об ее религиозно-нравственных нуждах отцом, и добрым другом офицеров и нижних чинов. Его духовный сан не должен отстранять его от товарищеского общения с офицерами и от участия в их невинных развлечениях и забавах, но священник должен знать во всем меру и всегда помнить завет великого апостола: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6, 12). Лучшие священники ведомства умели найти золотую средину и пользовались и любовью, и уважением всей своей части. У уклонившихся в крайность не спорилось дело.
За время моих поездок по округам у меня установились добрые, дружеские отношения с подчиненными мне священниками, оценившими мою простоту и доступность, внимательное отношение к нуждам каждого и готовность помочь каждому. Могу сказать, что почти все провинциальные священники были на моей стороне. Но петербургское военно-морское духовенство продолжало коситься на меня, так как я в значительной степени нарушил его покой, благоденственное и мирное житие, потребовав от него более внимательного отношения к духовным нуждам своих частей, более серьезной духовной работы. Только младшие и вновь назначенные мною священники были моими настоящими друзьями и деятельными помощниками. Из этих последних считаю долгом упомянуть о протоиерее Василии Николаевиче Грифцове и священнике Иване Федоровиче Егорове. Как и большинство рязанцев, в значительной мере неотесанный, мало заботившийся о внешнем виде, но всегда честный, толковый, энергичный и смелый, о. Грифцов проявил кипучую деятельность в должностях настоятеля Троицкого лейб-гвардейского Измайловского полка собора и председателя правления свечного завода. Священник Егоров отдался внешкольной работе с детьми и достиг в этом отношении потрясающих успехов. Собрав около себя десятка два интеллигентных и верующих студентов и студенток, он вместе с ними занялся внешкольным обучением детей. Обучение происходило в соборе. Беседы вел сам о. Егоров, опытный законоучитель. Дети были разделены на десятки. Каждый десяток возглавлялся десятником или десятницей, на обязанности которых лежало следить за порядком во время беседы, проверять, насколько понята беседа, пояснять непонятое. Беседы начинались и заканчивались молитвою, которую пели дети. В некоторые дни специально для детей совершалась литургия при пении детского
300
хора. Скоро беседы стали посещаться и матерями, и отцами, а число детей, посещавших беседы, в 1914 г. доходило до 800 человек. Такие же беседы, следуя примеру о. Егорова, начал вести молодой талантливейший настоятель колпинской церкви священник Александр Иванович Боярский.
Должен тут сказать, что с первого же дня управления ведомством я начал прилагать все усилия, чтобы заполнять ряды военного и морского духовенства людьми идейными, талантливыми71. Так, мне удалось заполучить Введенского, окончившего курс Санкт-Петербургского университета, оказавшегося блестящим проповедником, и Боярского, выдающегося кандидата Санкт-Петербургской духовной академии, также блестящего проповедника, неутомимого работника. Потом они оставили о себе незавидную память, сыграв — Введенский в сане митрополита, а Боярский в сане протопресвитера — большую роль в обновленчестве. Но у меня они были послушнейшими, всегда талантливо исполнявшими поручавшиеся им задачи и всегда служившими к великой славе нашей Церкви и ко благу Родины. В том, что они сошли с прямого пути, может быть, виновны были их новые епархиальные начальники, не сумевшие понять, оценить, приласкать и направить их.
Кстати, о Введенском. Противники его утверждали, что он крещеный еврей. Это клевета. Я хорошо знал и его отца, Ивана Андреевича Введенского, и его мать. Оба они были чистокровными русскими. Иван Андреевич был сыном симбирского дьякона. В последние годы своей жизни он служил директором Витебской мужской гимназии. В Витебске он и умер. Вдова потом вышла замуж за директора Витебской частной гимназии.
За 1911-1912 гг. мое положение укрепилось: царь, царица, великий князь Николай Николаевич с подчеркнутым вниманием относились ко мне; в высших военных кругах я приобретал все больший вес; духовенство поняло меня и в огромнейшем большинстве было со мною. Но мои успехи раздражали моих противников. Не смея открыто выступить против меня, они распускали разные нелепые слухи, перетолковывали мои слова и действия, не останавливаясь и пред явной клеветой. Я начинал привыкать ко всему этому, но один случай был тяжело пережит мною.
После двух неприятнейших случаев со священниками, последний из которых имел место во 2-м Финляндском стрелковом полку, я обратился к духовенству с напоминанием, что священник никогда не должен забывать о своем сане и потому не засиживаться поздно в офицерских собраниях, не увлекаться развлечениями, не соответствующими его духовному званию, и всегда памятовать, что не все дозволительно священнику, что дозволительно офицеру. Этот казалось бы безобидный приказ вызвал целую бурю. В одной финляндской газете появилась заметка, что протопресвитер армии и флота оскорбил армию, потребовав,
301
чтобы военные священники не посещали военных собраний, так как им неприлично принимать участие в развлечениях вместе с офицерами. В городе пошли разговоры, неприятные для меня. Должно быть, мои внутренние переживания отражались на моем лице, потому что прибывший ко мне по служебному делу протоиерей церкви Главного штаба Павел Никанорович Левашов спросил меня: «Вы чем-то удручены, о. протопресвитер?» Я открыл ему свою душу, высказав горькое сожаление, что злые люди так превратно перетолковывают самые добрые намерения. «Успокойтесь! — сказал он мне. — Пусть выболтаются. Не пройдет и двух недель, как история забудется и вспоминать о ней не будут». После, когда являлись новые огорчения, я не раз вспоминал эти мудрые слова протоиерея Левашова, успокаивавшие меня. В Болгарии мне напомнила о них болгарская пословица: «Всеко чудо за три деня».
В 1912 г. мне удалось сделать одно хорошее дело. Для нужд протопресвитера существовала домовая церковь. Она помещалась над квартирой протопресвитера, в 3-м этаже. Она имела вид большой комнаты с обыкновенным невысоким потолком, с дубовым иконостасом, без особых украшений. Алтарь церкви помещался над кабинетом протопресвитера. Витая железная лестница вела из кабинета в алтарь. Причт этой церкви состоял из протоиерея, протодиакона и псаломщика. Утварью церковь была бедна, ризница ее была убогой. Протопресвитер А.А. Желобовский почему-то на ризницу и утварь не обращал внимания, расходуя все церковные средства на содержание церковного хора и в особенности на великопраздничные подарки певцам. Протопресвитер Е.П. Аквилонов не успел порадеть о церкви. Я счел своим долгом украсить свою домовую церковь. Мой план был таков: расширить церковь, присоединив к ней две комнаты моей квартиры в 3-м этаже: поднять потолок, насколько возможно выше: новый иконостас и роспись церкви сделать в стиле XVII века, но без утрировок, без тех грубых подделок под старину, к которым любили прибегать тогдашние мастера. Мне посоветовали пригласить для исполнения всех работ художника Адамовича, согласившегося выполнить все работы за 28 тысяч рублей. Адамович превзошел мои ожидания. Получился чрезвычайно красивый храм: от многих пришлось мне слышать, что во всем Петербурге моя церковь стала самой красивой из всех столичных домовых церквей. Особенно восхитительны были висевшие по обеим стенам лампады из оксидированной меди с красными просветами от красного шелка, которым они были внутри выложены, и действительно с большим художеством исполненный иконостас, также покрытый оксидированной медью. К освящению храма московский купец Бренев, староста церкви 2-го Гренадерского полка, поднес мне для моей церкви великолепный (72 пуда ве-
302
сом), исполненный по мерке бархатный ковер, для всей церкви — синего цвета, а для алтаря и амвона — малинового. Такой роскоши ни в одной церкви не было. Обстановка моей церкви, особенно в вечернее время, создавала удивительное настроение, вызывая мистические чувства и в самых заледеневших сердцах.
Казалось, было сделано доброе дело, не оставляющее места для кривотолков и осуждений. Но мне и за это дело пришлось немало перенести: меня обвиняли в честолюбии, в желании затмить протопресвитера Желобовского, уничтожить память о нем. Я отвечал: «Я буду счастлив, если одному из моих преемников удастся разрушить этот храм, чтобы создать другой, еще более красивый и величественный».
Немало и иных огорчений выпадало на мою долю. Особенно доставалось мне от великосветских дам. Они беспрерывно бомбардировали меня самыми разнообразными, часто неисполнимыми просьбами, а когда я не исполнял их просьбы, обижались, возмущались, писали обидные письма. Первенство в этом отношении принадлежало вздорной и сумбурной жене благороднейшего члена Государственного Совета генерала от кавалерии Андрея Ивановича Косича. Сначала она усиленно проявляла мне свое благоволение, а потом, когда я не исполнил одной ее просьбы, она обратилась в жестокого моего истязателя.
Занимая высокий пост, пользуясь большим вниманием сильных мира, огромной квартирой и разными иными выгодами своего положения, я, однако, ежедневно вспоминал свою Суворовскую церковь, где протекало мое беспечальное, мирное и во всех отношениях благоденственное житие, где окружен я был полным доверием, любовью и преданностью. Теперь же занятое мною высокое положение оплачивалось почти ежедневными неприятными переживаниями. В минуты наибольших неприятностей я повторял слова Годунова: «И рад бежать, да некуда... ужасно!» Куда ж было бежать с протопресвитерского поста?!
XIV. События 1913 года. Романовские юбилейные торжества. Освящение царского Федоровского и Кронштадтского морского соборов. Поездка на Дальний Восток. Лейпцигские торжества
Юбилейные торжества в честь 300-летия царствования Дома Романовых начались в Петербурге 24 февраля 1913 г. торжественнейшим богослужением в Казанском соборе. Блестящий сонм духовенства возглавлял специально прибывший для этой цели Антиохийский Патриарх Григорий, простой и добрый, пре-
303
данный России старик. Ни раньше, ни позже не довелось мне видеть более грандиозного богослужебного собрания: вся царская фамилия, все министры. Государственный Совет, Сенат, Государственная Дума, генералитет, все губернаторы и губернские предводители дворянства, представители земства и городов и так далее — словом, была представлена вся великая Россия. Духовенство было облечено в самые лучшие священные одежды, пели Придворная капелла и хор Казанского собора. Да, это богослужение было самым торжественным из всех, какие я видел в России. После литургии Их Величества в Белом зале Зимнего дворца принимали поздравления, причем государь каждому поздравлявшему вручал особый романовский значок, носившийся затем на правой стороне груди. Вечером этого дня в том же зале государь угощал своих поздравителей роскошным обедом. Обедало 800 человек. Кроме множества блюд особенностью этого обеда было то, что подавалось только французское шампанское, а обычно на всех высочайших завтраках и обедах пили только русское шампанское «Абрау Дюрсо».
В принесении поздравлений Их Величествам участвовало и духовенство — как православное, так и католическое. В православной группе, кроме членов Святейшего Синода, были придворный и военный протопресвитеры и викарии Петербургского митрополита. Русская католическая группа возглавлялась митрополитом Ключинским. Обе группы стояли вблизи одна от другой, но не вступая в беседу и даже не поприветствовав друг друга. «И это священнослужители, служащие одному и тому же Христу, одинаково обязанные соблюдать Его евангельские заветы», — подумал я. Я подошел к католической группе, чтоб поздороваться с ними. По-видимому, их это очень тронуло. Мы разговорились. «Вы находите нормальным такое положение, что наши и ваши, стоя рядом, не хотят даже взглянуть друг на друга?» — обратился я к митрополиту Ключинскому. «Чем же мы виновны, что они не желают подойти к нам?» — ответил Ключинский: «А почему бы вам не подойти? Я же подошел к вам», — сказал я. «Вы другое дело: вы знаете нас, а мы вас знаем. А они могут отвернуться от нас и в том случае, если мы подойдем к ним», — сказал Ключинский. Так и разошлись владыки, не взглянув друг на друга.
Романовские торжества продолжались в мае в Костроме и Москве. Во время торжественной литургии, совершавшейся в соборном храме костромского Федоровского монастыря, государь с семьей и многочисленной свитой стоял у правого клироса, а на левом клиросе стоял Распутин. Его дикая фигура всем бросалась в глаза. Вечером в день торжества на царском пароходе, стоявшем у левого берега Волги напротив монастыря, происходил тожественный обед. Когда после обеда обедавшие вышли на палубу, им представилась волшебная картина: на правом берегу
304
Волги в небольшом отдалении от реки красовался феерически освещенный город. Не хотелось верить, что это игра электрических огней, а не действительное сооружение. В Москве торжества прошли величественно: чудесно было богослужение в Успенском соборе с пением знаменитого Синодального хора. Поразительно красив и богат был обед в Кремлевском дворце, данный гостеприимною Москвою. По богатству он, пожалуй, превосходил царский обед 24 февраля. Во все время торжеств я пользовался каретой придворного ведомства и широким гостеприимством своего приятеля Алексея Якимовича Судакова.
В том же 1912 г. я освящал царский Федоровский собор в Царском Селе ив 1913 г. — Морской собор в Кронштадте. Разные по архитектуре и убранству соборы. От первого веяло далекой стариной, а второй был блестящим произведением современного искусства.
Царская семья, как известно, жила в Александровском скромном дворце, хотя вблизи от этого дворца находился великолепный в стиле рококо Екатерининский дворец с окружавшим его чудесным парком, с большим двором, на котором часто происходили парады, и очень красивым внутри дворца собором. Царица, сторонница простоты и скромности, невзлюбила Екатерининский дворец с собором. Богослужения для царской семьи стали совершаться ее духовником в приспособленной под церковь маленькой комнатке Александровского дворца, причем певцами были царица с дочерьми. Затем с 1909 г. царская семья стала посещать крохотную церковь, устроенную в одной из казарменных комнат Собственного Его Величества сводного пехотного полка. Царице хотелось быть поближе к простым солдатам; она уже разочаровалась в аристократии и интеллигенции и ее потянуло к простому народу. А затем у нее же явилась мысль выстроить собор в древнерусском стиле, который напоминал бы о русской старине, представлявшейся ей идеальной и желанной. Усердный архитектор постарался удовлетворить вкус императрицы, и подражание старине было доведено до крайностей: стены были связаны толстущими железными болтами, некоторые иконы написаны на прогнивших с одной стороны досках, вся иконопись была сделана в древнерусском стиле. Ктитором собора был назначен полковник Собственного Ее Величества сводного пехотного полка Д.Н. Ломан. Фактическим же ктитором стала сама царица, распоряжавшаяся всеми порядками в храме. Царская семья неопустительно посещала этот храм, стоя во время богослужений на левом клиросе. Царица же на всенощных бдениях стояла (или сидела — у нее были больные ноги) в особой комнатке рядом с алтарем и по лежавшим пред нею на аналое книгам следила за богослужением. По ее распоряжению освящение главного (верхнего) храма в честь Федоров-
305
ской иконы Божией Матери было поручено мне. Для сослужения мне при освящении были вызваны архимандриты — наместники лавр Киево-Печерской, Троице-Сергиевской, Александро-Невской и Почаевской. Пел хор Придворной капеллы. На богослужении присутствовала почти вся императорская фамилия и огромная свита”. Освященной церкви высочайше повелено было именоваться Федоровским собором Собственного Его Величества конвоя и Сводного пехотного полка. 2 июня 1913 г. мне было присвоено звание протопресвитера и почетного настоятеля этого собора.
Мое почетное настоятельство выражалось лишь в том, что я от времени до времени, всякий раз с особого соизволения царицы, приглашался для совершения богослужений. Совершив всенощное бдение, я в таких случаях оставался ночевать в Екатерининском дворце, где мне отводились покои и предоставлялся ужин, а на следующий день совершал литургию. Иногда после литургии я приглашался в Александровский дворец к царскому завтраку.
Характерная мелочь. Почти на всех богослужениях в Федоровском соборе присутствовал Распутин. При совершении же богослужений там мною его ни разу не было. Это было ясным знаком, что этот временщик не благоволил ко мне.
9 июня 1913 г. я освящал кронштадтский Морской собор. По грандиозности постройки, красоте плана, изяществу отделки этот собор принадлежал к числу самых красивых российских храмов. Строителем его был гражданский инженер, профессор Василий Антонович Косяков, в плане своей постройки повторивший прием храма Святой Софии в Константинополе. Центральная открытая часть собора вмещала до 3 тысяч молящихся, кроме того, со всех сторон имелись обширные галереи с хорами, отделенные от молящихся лишь с восточной стороны собора. Весь собор с наружными крыльцами занимал площадь в длину 39 и в ширину 30 сажень; внешняя высота собора с крестом — 33 сажени. Снаружи собор был облицован гранитным цоколем и серовато-желтым кирпичом и укреплен гранитными полированными наличниками и колоннами порталов, терракотовыми орнаментами, мозаичными иконами, майоликовыми фризами и изображениями архангелов с символами Евангелистов: крыши медные, с золочеными крестами и орнаментами на куполах; входные двери были облицованы отливною орнаментированною бронзою, а главный западный был украшен мозаичными изображениями Спаса Нерукотворного, двумя картинами из жизни Святителя Николая Чудотворца, четырьмя символами евангелистов и орнаментами.
Внутри собор был украшен по низу мраморною панелью с памятными досками черного мрамора, а выше — искусственным
306
мрамором и лепными орнаментами с мраморными вставками; два яруса галерей поддерживались колоннами искусственного мрамора, каковым отделаны были и наличники внутренних дверей. Иконостас, солея с амвоном и кафедрою для проповедника, сень над главным престолом, жертвенники, горнее место и отдельные киоты были сделаны из натурального белого и цветного уральского мрамора с мозаичными и бронзовыми украшениями. Главный престол был сооружен из резного белого мрамора с ляпис-лазурью, престолы малых приделов — из ляпис-лазури с оправами и украшениями из серебряной бронзы. Вся внутренняя отделка собора выполнена была в характере византийского стиля: тот же характер был выдержан и в иконах, и стенной росписи, украшавшей всю алтарную апсиду, северную и южную части собора, два западных полукупола и западные хоры. Стены, своды и стекла больших круглых окон северной и южной частей храма были убраны орнаментами, символами и священными картинами.
Вся утварь собора (священные сосуды. Евангелия, запрестольные и напрестольные кресты, подсвечники и запрестольные семисвечники, равно как и аналои, хоругви, лампады, большие и малые паникадила) была выполнена в общем стиле собора, местами с применением орнаментов в характере морских атрибутов.
Паникадила были сделаны в виде древних хоросов с лампадообразными светильниками из оксидированной бронзы, украшенной писанными изображениями святых угодников, давленными и чеканными орнаментами и подвесами.
Ковры-дорожки, ведшие от престолов по ступеням солеи, вышитые вручную женами моряков, проработавшими над этим около года, имели узор из орнаментов и изображений жизни земного и водного царств.
Общая стоимость собора определялась в 1 миллион 955 тысяч рублей. Кроме того, стоимость некоторых частей внутренней отделки и оборудования была покрыта отдельными пожертвованиями. Собор блестел великолепием73.
10 июня я в сослужении многочисленного морского духовенства совершил освящение собора. Собор был переполнен: государь с императрицей и детьми, великий князь Кирилл Владимирович, министры, члены Государственного Совета и Думы, сенаторы, военный и морской генералитет, многочисленное морское офицерство74, — собор был залит электричеством, сиянием горевших свечей, блеском золота на парадных мундирах.
В высочайшем присутствии не полагалось говорить проповеди. Но величие и красота собора, чрезвычайная торжественность обстановки вдохновили меня сказать несколько слов. Когда я произнес: «В этом величественном храме и земной царь при всем своем величии будет чувствовать свое ничтожество пред ве-
307
личием верного и всемогущего Царя Небесного, имя Которого будет прославляться здесь», — я уметил, что покачнулась вся наполнявшая собор толпа. Потом говорили мне: «Смелый вы человек! В присутствии царя решились сказать об его ничтожестве». Но на смиренного государя эти мои слова произвели самое сильное впечатление. 20 октября в Ялте на завтраке у царя сидевшая рядом со мной фрейлина А.А. Вырубова сказала мне: «Как хорошо сказали вы при освящении Кронштадтского собора: «Царь земной при всем своем величии будет чувствовать в этом соборе свое ничтожество пред величием Царя Небесного». На Их Величества ваши слова произвели чрезвычайно сильное впечатление». А Вырубову придворные называли граммофоном царской семьи.
В этом же году мне довелось освятить третий исторический храм — в Лейпциге, сооруженный по случаю столетней годовщины битвы народов под Лейпцигом. В конце сентября обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер по телефону сообщил мне, что государь поручает мне совершить освящение Лейпцигского храма. Немцы соорудили громадный памятник, а мы — храм Божий. На нашем богослужении будет присутствовать император Вильгельм с другими высочайшими особами Германии, Австрии и Швеции, войска которых вместе с русскими сражались в 1813 г. с Наполеоном. Я поблагодарил за лестное предложение, но высказал свою мысль, что на таком исключительном торжестве наша церковная часть должна быть представлена наилучшим образом, чтобы вместе со мною отправились на торжество лучший в России московского Успенского собора протодиакон Константин Васильевич Розов и один из самих лучших российских хоров — московский Синодальный хор. «Это великолепная мысль! — сказал Саблер. — Завтра же я доложу ее Его Величеству». На следующий день вечером Саблер по телефону сообщил мне, что государю очень понравилась моя мысль и он повелел командировать вместе со мною Розова, Синодальный хор и опытного звонаря, чтобы он показал немцам, как православные звонят в своих храмах.
Более величественного протодиакона, чем Розов, нельзя представить: огромного роста, плотный — 12 пудов весу, красивый, с вьющимися волосами и открытым лицом, брюнет, с исключительно сильным и красивым голосом, 39 лет от роду, Розов мог олицетворять молодую, могучую, красивую Россию. Но у него был один недостаток, беспокоивший меня: он страдал запоем. Когда он прибыл ко мне, я без церемоний обратился к нему: «А не оскандалимся мы с вами в Лейпциге? Не дай Бог случится это, мы тогда опозорим и себя, и Россию» — «Это вы насчет того-с, выпивки говорите? Будьте спокойны! Не подведу вас. Верневшись в Москву, наверстаю. А там ни-ни... А вот как быть насчет костюма? Я захватил с собой штатский — наши же священники
308
за границей в штатских костюмах ходят» — «Нет уж! Мы поедем в духовных костюмах. Немцы, может быть, подивятся, глядя на нас, но пусть потешатся! А нам лучше сохранить свой духовный облик», — сказал я.
Захватив с собою великолепные, специально изготовленные из кованой серебряной парчи, с золотыми галунами облачения и новую для меня митру, пожертвованные для предстоящего торжества петербургским купцом Леляновым, мы с о, Розовым и звонарем Иваном выехали, присоединившись к отправлявшейся на торжество военной депутации. Депутация состояла из великого князя Кирилла Владимировича, начальника Генштаба генерала от кавалерии Якова Григорьевича Жилинского, генерал-лейтенанта Воронова и командиров тех гвардейских полков, которые в 1813 г. участвовали в сражении под Лейпцигом.
Меня чрезвычайно интересовала эта поездка, я ведь до того времени ни разу не был за границей. Когда мы въехали в Германию, меня все удивляло там; села и деревни совсем не похожие на наши, белорусские, которые я более всего знал; лес огороженный, убранный, как сад у нашего хорошего хозяина, — не то что поваленного дерева, сучка неубранного в нем не найдешь. Вспомнились мне родные края, прошлые годы. Когда я служил псаломщиком в с. Усмыни, огромная лесная дача соседнего Барановского имения (в 18 тысяч десятин) подходила к самому нашему селу, В 1893 г, управляющий этим имением Петр Алексеевич Попов, племянник владельца этого имения Клейнберга, продал лык за 3 тысячи рублей. Сдирались лыки с молодых липовых деревьев крестьянами, исполу продавались по 30 копеек за сотню. Значит, за 3 тысячи рублей было продано около 1 миллиона лык и столько же досталось дравшим лыки крестьянам. Но не обошлось без того, что последними немалое количество лык было утаено и что с многих срубленных деревцев не удалось содрать лык. Значит, было срублено около 3 миллионов молоденьких лип. Ободранное стволы этих деревцев, как никому не нужные, оставлялись в лесу. Это было подлинное лесное кладбище. Велика и обильна была наша святая Русь, потому и порядку в ней мало было.
Вот и Берлин, где нам предстояла пересадка. Мы вошли в буфет. Удивленные взоры присутствовавших там устремились на нас, особенно на Розова. Немцы — народ крупный, но и среди них Розов выделялся массивностью своей фигуры. «Начинается! — подумал я. — Поглазеют на нас немцы. Иные примут нас за ряженных или за цирковых клоунов. Даровое развлечение доставим им».
В Берлине к нам присоединились: русский посол в Германии Свербеев, состоявший при особе Вильгельма, представитель нашего государя, благороднейший и добрейший свитский генерал Илья Татищев и некоторые другие чины нашего посольства в Берлине. В Лейпциге меня и Розова поместили в очень хорошей
309
гостинице. Военные чины нашей компании поместились в другой гостинице, на той же улице, шагах в 50 от нас. Старожил Лейпцига немец Додель, принимавший большое участие в постройке нашей лейпцигской церкви, позаботился о всех нас. На другой день вечером в своем доме он чествовал нашу депутацию роскошным обедом. Что заставляло его усердствовать — денежный ли какой расчет или погоня за русским орденом, — так и осталось для меня неясным.
Лейпцигский храм по вместимости очень незначительный, но весьма эффектный: с высоким открытым куполом, на высокой площадке, служащей для крестных ходов вокруг храма: под этой площадкой устроена усыпальница для останков — костей русских воинов, павших в битве народов в 1813 г.
Все торжества были приурочены к 5 октября: немцы в этот день открывали свой грандиозный памятник, а у нас должно было состояться освящение храма. Наша депутация должна была присутствовать при открытии немецкого памятника: у нас ожидалось прибытие в нашу церковь к молебну всех съехавшихся на торжество высочайших особ с их свитами. А всего таких особ насчитывалось до 33: император Вильгельм с немецкими королями, герцогами и князьями, австрийский наследник престола Франц Фердинанд, шведский наследник престола и наш великий князь Кирилл.
Для сослужения со мною прибыли знаменитый берлинский протоиерей Алексей Петрович Мальцев и дрезденский священник Дмитрий Якшич. 4 октября были нами перенесены в усыпальницу останки русских воинов, павших в битве народов. 5 октября утром мы начали чин освящения храма. Крестный ход с антиминсом был совершен по площадке вокруг храма. Впереди крест и хоругви с иконами, затем Синодальный хор в древнебоярских костюмах, потом духовенство в сиявших серебром и золотом одеждах, наконец, богомольцы. Картина была внушительная, для немцев невиданная.
Чинно и красиво проходила у нас литургия. Величественно служил Розов: восхитительно пел Синодальный хор. После «Со страхом Божиим и верою приступите» раскрылись западные двери и в церковь ввалилась толпа высочайших особ. Впереди шел саксонский король (Лейпциг — столица Саксонии) — он на всех выходах выступал первым и за столами занимал первое место. — за ним император Вильгельм, эрцгерцог Австрийский Франц Фердинанд и прочие особы.
Кончилась литургия, начался благодарственный молебен. Красиво и вдохновенно Розов отчеканивал каждое слово, а на многолетии он превзошел себя: его громовой голос заполнил весь храм, волнами раскатывался в куполе: певчие искусно подхватывали конец каждого протодиаконского возглашения сво-
310
им вдохновенным «Многая лета!» Впечатление получалось потрясающее. Даже привыкшие к торжественным русским богослужениям члены нашей депутации были восхищены службой. А удивлению немцев, и особенно самого Вильгельма, не было границ. Рассказывали, что целый тот день он буквально бредил Розовым и Синодальным хором. На обратном пути Синодальный хор. по настоянию Вильгельма, в Берлине дал концерт. Вильгельм сам посетил этот концерт и капельмейстера своего оркестра привез с собой, чтобы тот послушал удивительное пение. Рассказывали, что, войдя в концертную залу, Вильгельм прежде всего спросил: «А Розов будет петь?» Немцев чрезвычайно удивляли басы и в особенности — октава, им не верилось, что это человеческий голос, и они подозревали, что хор тут пользуется каким-то инструментом.
Лейпцигские торжества проходили помпезно, но чинно и мирно. Толпа заполняла улицы, экипажи с великим трудом пробирались, но никаких эксцессов не было, во всем виднелся образцовый порядок. Когда же на улицу выходили мы (я и Розов), все пешеходы на нас устремляли свои взоры и с нескрываемым удивлением начинали рассматривать нас. Как сейчас представляю виденную тогда картину: все, кто серьезно, кто с улыбкой, разглядывают нас, а женщина, везшая в колясочке ребенка, тычет ему в плечо пальцем, указывая на Розова. Немцы спрашивали меня: «Ysten der Grosste sei Yhnen?» Я отвечал: «О! У нас много гораздо больших». Это производило сильное впечатление на немцев.
Вечером 5-го в городской ратуше происходил торжественный обед с участием всех высочайших особ и всех депутаций. По роскоши он значительно уступал нашим торжественным петербургским и московским обедам. После обеда Вильгельм обходил гостей, беседуя с ними. Эрцгерцог Франц Фердинанд неотступно следовал за ним. «Этот австрийский нахал явно оттирает Вильгельма от нас». — сказал нашей депутации возмущенный Кирилл Владимирович.
Кончились торжества. Наша депутация возвращалась домой. В дороге мы делились впечатлениями. На меня дисциплинированность и выдержанность немцев произвели большое впечатление. Другие были иного мнения. Особенно бородатый, свирепый на вид командир лейб-гвардейского Павловского полка генерал Некрасов. «Вы, господа, не понимаете немца, — ораторствовал он. — У него все держится на правиле, порядке, системе, шаблоне. Но тут-то и слабая его сторона. Начни противник действовать вопреки правилу, системе, немец растеряется, и пропало дело. Так мы и будем воевать, и разобьем немца».
20 октября в Ялте я докладывал государю о своей поездке в Лейпциг. Государь остался очень доволен и наградил меня орде-
311
ном Святой Анны 1-й степени. Я, таким образом, был причтен к лику звездоносцев.
Бывая в Москве, я всякий раз посещал великую княгиню Елисавету Феодоровну, подвизавшуюся в созданной ею Марфо-Мариинской обители. Это была замечательная женщина: глубоко религиозная, смиренная, жертвенная и рассудительная. Говорили, что в замужестве за великим князем Сергеем Александровичем, родным дядькой государя, она была глубоко несчастна. После трагической его смерти она ушла в молитву и труд. Все огромное получавшееся ею от казны содержание она отдавала на содержание своей обители, а сама жила, отказывая себе во всем, в молитве, труде и подвиге служила образцом для всех сестер обители. С родной сестрой-императрицей у нее в то время были негладкие отношения — не сходились они в характере своей религиозности. совершенно расходились в своих отношениях к Распутину: царица перед ним благоговела, великая княгиня считала его злым гением России. Во мне Елисавета Феодоровна почувствовала союзника для борьбы с Распутиным и доверяла мне даже сокровенные свои мысли и переживания. Я глубоко чтил эту святую женщину, жившую для служения людям и мученически закончившую свою праведную жизнь.
В 1913 г. мне удалось совершить длиннейшую ревизионную поездку на Дальний Восток. Мой маршрут был: Владивосток, залив Посьет, Никольск Уссурийский, Хабаровск и затем места стоянок полков по железной дороге от станции Даурия до Омска. Опять пришлось мне пересечь всю Сибирь. После Русско-японской войны неузнаваемой она стала: сократилась тайга, расширились поля и луга, выросло много новых поселков, разрослись города: Новониколаевск, например, из 30-тысячного городка превратился в 130-тысячный город. Земля везде обрабатывалась машинами — в этом отношении Сибирь успела опередить даже среднюю Россию. По рассказам, Сибирь богатела не по дням, а по часам. Да и как было не богатеть ей: земли и лесу сколько хочешь, скота — изобилие, огромные сибирские реки кишели рыбой, в лесу — какой только нет дичи... В России крестьянин страдал от малоземелья и безземелья, а тут для него открывался бесконечный простор. Неудивительно, что сибирский крестьянин мог жить помещиком, имея 40 и более коров, 15 и больше лошадей, сотни голов всякого мелкого скота и всякой птицы. Охота за птицей и пушным зверем, ловля рыбы являлись для него больше развлечением, чем подспорьем. Неистощенная богатая сибирская земля щедро вознаграждала работника за его труд. Привольно жилось сибирскому крестьянину.
туда я ехал в экспрессе в отдельном купе первого класса. Для меня эта поездка показалась особенно приятной. После петербургской суеты я отдыхал в вагоне. Приятно было наблюдать бес-
312
прерывно менявшиеся картины и наслаждаться полным покоем. Вагон-ресторан не переставал баловать путников, каждый день угощая их новыми и новыми яствами из продуктов тех мест, по котором мы проезжали: Сибирь чего только не предоставляла в распоряжение вагонного ресторатора! Кроме домашних птиц и животных она снабжала всевозможной дичью и разными вкуснейшими сибирскими рыбами. Питательный же вопрос в пути имеет большое значение. Поезд шел девять с половиною суток со скоростью 65 верст в час. Движение на восток имеет ту особенность, что ежедневно сокращается продолжительность дня; разница между Петербургом и Владивостоком во времени выражается в семи с половиной часах: когда в Петербурге 12 часов ночи, во Владивостоке в это самое время 7.30 утра. Привыкать к такой перемене нелегко. А на обратном пути приходится переживать иное явление — увеличение дня.
Владивосток был для меня новым городом, в котором я раньше не бывал. Но войска Владивостокского гарнизона привлекали меня: в самом Владивостоке стояла 3-я Сибирская стрелковая дивизия, во время Русско-японской войны входившая в состав 1-й Маньчжурской армии, в которой я служил главным священником: 9-я Сибирская стрелковая дивизия, в которой я провел первую половину Русско-японской войны, состоя ее благочинным и священником 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, стояла около Владивостока, на русском острове. Там же, во Владивостоке, имелись церкви со штатными священниками: штаба Владивостокской крепости. Сибирского флотского экипажа, 1-й Владивостокской крепостной артиллерийской бригады, 2-й такой же бригады, транспорта «Ксения». Некоторые из владивостокских военных священников были моими подчиненными в бытность мою главным священником.
Для войск Владивостокского гарнизона прибытие протопресвитера было событием чрезвычайным: Владивосток впервые видел протопресвитера, ни один из моих предшественников не доезжал до Владивостока. Все воинские части встречали меня приветливо, радушно, сердечно. Не забывшая же меня 9-я Сибирская стрелковая дивизия устроила мне царскую встречу: от пристани до церкви (расстояние — около 3 километров) были расставлены шпалерами войска; меня встретило на пристани все военное начальство; экипаж, в котором ехал я с начальником дивизии генерал-лейтенантом Свиньиным, конвоировался 50 всадниками: вся церковь была украшена зеленью и цветами: на совершенном мною молебствии присутствовали не только все офицеры, но и их семейства; вечером 33-й полк чествовал меня пышным обедом, на которым моими бывшими боевыми товарищами было сказано много задушевных речей. Говорили о моей службе в полку, вспоминали отдельные
313
эпизоды моего отношения к солдатам и офицерам в промежутках между боями и во время боев. Издали многое кажется виднее, и из теперешней оценки моей работы в полку я понял многое, что военными в особенности ценится в работе священника. Часы, проведенные на Русском острове, остались памятными для меня на всю жизнь.
Во Владивостоке я проделал обычную работу: повидался со всеми военными и морскими начальниками, объехал все воинские части, где молился, беседовал (целый вечер провел в братской беседе) с собравшимися священниками, посетил на даче Владивостокского архиепископа Евсевия, приветливого и благостного владыку, — словом, выполнил все полагавшееся по протоколу.
Чтобы я мог посетить 2-ю Сибирскую стрелковую дивизию, стоявшую лагерем в урочище Новокиевском, в 18-20 верстах от залива Посьет, командующий Тихоокеанским флотом предложил мне воспользоваться морским транспортом, которому поручено было доставить меня в залив Посьет и обратно. Я с благодарностью принял предложение. Вечером на корабле меня встретил командир — капитан 1-го ранга Иванов, обаятельнейший человек, сообщивший мне, что на корабле нас ждет ужин, в путь мы отправимся ночью, чтобы часов в 6 утра быть в заливе Посьет.
Около 6 часов утра мы увидели на огромной скале очень красивое массивное изображение двуглавого орла. «Вот и залив Посьет», — сказал мне командир судна. На берегу меня встретили начальник штаба дивизии и благочинный, доложили мне, что дивизия ждет моего прибытия, а представитель посьетского маленького гарнизона попросил меня посетить оставшиеся в Посьете две роты. Конечно, я исполнил его просьбу: побывал в ротах, побеседовал с воинами, благословил их. После этого мы — я, начальник штаба и благочинный дивизии — выехали на пароконном экипаже в Новокиевское.
Человеку необходима смена впечатлений, однообразие его утомляет и ему надоедает. Мы ехали невдалеке от морского берега, по левую сторону тянулось болото, сильно пахло йодом. Я с наслаждением вдыхал йодистый воздух, любовался природой. Езда на лошадках имеет свою прелесть: железнодорожный поезд, автомобиль бездушны, а тут чувствуешь живых существ, наслаждаешься их движениями, их задором и волнением. А мне, кроме того, вспоминались мои прежние поездки к добрым соседям, когда я служил в селе. Полтора часа, ушедших на эту поездку, доставили мне большое удовольствие.
Новокиевское было извещено о часе нашего отъезда из Посьета. Там выстроившаяся дивизия поджидала моего приезда. Меня встретил начальник дивизии генерал Львов, элегантный, приятный человек, и священники дивизии с командирами полков. По-
314
том следовали: молебен, совершенный мною в сослужении всех священников, моя речь перед фронтом дивизии, беседа с офицерами, обход палаток. Так и прошло время до обеда, в котором приняли участие все офицеры дивизии. Тосты, речи... Обед затянулся надолго. После обеда мне предложили побывать на экзамене в унтер-офицерской школе. Там я пробыл более часа, принимая участие в экзамене, и затем, простившись с гостеприимной дивизией, я отправился в Посьет для обратного следования во Владивосток. Как помню, это было 20 августа.
Уже начинало темнеть, когда я взошел на свой корабль. Вдоль всего корабля был растянут толстый канат, увешанный рыбами. «Что это такое?» — удивился я. «Мне сказали, что вы большой любитель рыбной ловли. Вот я и захватил с собою сеть, чтобы доставить вам удовольствие. Не дождавшись вас, когда солнце стало клониться к закату, мы сделали одну тоню, и вот наш улов: около 25 пудов разной рыбы. Уже варится уха. Знатная будет. Хотите, еще разок забросим сеть? На большее нельзя рассчитывать, потому что забросим на прежнее место, а что-либо поймаем». Забросили. Улов оказался меньший. Однако и эта тоня дала около 5 пудов рыбы. Мне и этот улов казался удачным, а Иванов возмущался: «Ну что это за рыба! Впрочем, на одном месте нельзя подряд двух тонь делать». Сибиряки были избалованы рыбной ловлей: берега Тихого океана кишели рыбой, иногда руками можно было ловить ее. Пока мы занимались ловлей, рыбный ужин был приготовлен. Уха вышла на славу, и я не помню, чтоб еще когда-либо ел такую вкусную уху. Ночью наш корабль отправился в обратный путь. 21-го утром мы остановились у Русского острова.
Простившись с гостеприимным Владивостоком, я отправился в дальнейший путь. Первая моя остановка была в г. Никольске Уссурийском, где стояла лагерем 1-я Сибирская стрелковая дивизия. туг мне была устроена такая же, как на русском острове, встреча: на вокзале меня встретило все военное начальство во главе с командиром корпуса генерал-лейтенантом Генштаба Михаилом Михайловичем Плешковым и начальником дивизии генералом Леонтием Леонтьевичем Сидориным: от вокзала до лагерной церкви были расставлены шпалерами войска; вечером в военном собрании меня чествовали ужином. Тут я, как и в 9-й дивизии, встретил немало знакомых по русско-японской войне: 1-я е и 9-я Восточно-Сибирские стрелковые дивизии составляли тогда 1-й корпус. Генерал Сидорин был тогда начальником штаба этого корпуса, его жена Наталья Антоновна — сестрой милосердия в одном из госпиталей 1-й Маньчжурской армии. И 1-я дивизия встречала меня как родного. Исполнив в Никольске Уссурийском все отвечавшее цели моей поездки, я отправился в Хабаровск. От Владивостока мне был предоставлен отдельный вагон, что чрезвычайно облегчало мое путешествие, освобождая
315
меня от пересадок, давая мне возможность в пути принимать нужных мне людей, и так далее.
В Хабаровске жил командовавший войсками Приамурского военного округа, там же стояла в лагере 6-я Сибирская стрелковая дивизия, хорошо знавшая меня по Русско-японской войне. Командовал войсками Приамурского округа в то время генерал Платон Алексеевич Лечицкий. Я хорошо знал его. Во время Русско-японской войны он сначала командовал 24-м Восточно-Сибирским стрелковым полком, а потом бригадой 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Когда я. будучи главным священником 1-й Маньчжурской армии, объезжал полки этой дивизии, он сопровождал меня.
Замечательный человек был этот генерал Лечицкий. Сын священника Гродненской епархии, окончивший курс двух классов Литовской духовной семинарии, а потом курс захудалого Варшавского юнкерского училища, не получивший, таким образом, ни общего, ни военного высшего образования, он брал нутром, ярким военным талантом создавал себе блестящую военную карьеру. На Русско-японской войне о нем сразу заговорили как о блестящем командире полка. Скоро он был произведен в генералы и пожалован редким для армейца отличием — зачислением в Свиту Его Величества. После войны он получил 1-ю Гвардейскую пехотную дивизию. Блестящие, избалованные титулами и связями гвардейцы негодовали, что ими попович, бурсак командует, но не могли не преклоняться пред огромными военными способностями и достоинствами генерала Лечицкого. Вскоре он получил корпус, а затем и округ. На Великой войне генерал Лечицкий окажется одним из самых способных и дельных генералов.
Генерал Лечицкий с редкой сердечностью встретил меня и во время моего пребывания в Хабаровске ни на минуту не покидал меня. В церкви, в лагере, даже при визитах к военачальникам он сопровождал меня. По его. конечно, инициативе дивизия чествовала меня богатейшим обедом с сердечными речами, с задушевными излияниями. Генерал Лечицкий не был речист, по внешнему виду был сумрачен, но у него были доброе сердце, благородная душа, преданность своему долгу и самоотверженная любовь к Родине. Войска понимали и высоко ценили его.
В задушевной беседе с генералом Лечицким я поделился своими впечатлениями, вынесенными от встреч во время поездки с сибирским офицерством. Совсем иным стало оно после войны, чья-то крепкая рука перевоспитала его. До войны в Восточно-Сибирских войсках царил бесшабашный разгул: пьянство, разврат, дикие пьяные игры и всякие безобразия. Теперь, побывав в нескольких гарнизонах, приняв участие во многих обедах и ужинах, я не видел подпившим, потерявшим равновесие ни одного офицера. И внешний вид Восточно-Сибирского
316
офицера стал иным, и манеры его изменились. Теперь он ничем не отличается от российского офицера. Генерал Лечицкий согласился со мной. О работе священников его округа генерал Лечицкий отозвался с похвалой; все они пользуются уважением офицерства и оказывают доброе влияние на солдат. Потом я встречусь с генералом Лечицким на Великой войне. Из Хабаровска, не останавливаясь в Никольске Уссурийском, я направился в Россию.
После неспокойных нескольких дней, требовавших постоянного напряжения и утомивших меня, я отдыхал в вагоне. Август подходил к концу, наступала осень, вид покрытых лесом придорожных холмов был восхитителен. Это был чудный, игравший всеми красками, какие только может дать природа, ковер, все время менявший свой рисунок. Российские леса не бывают такими. В Харбине продолжительная стоянка поезда. Я вышел из вагона, чтоб хоть издали взглянуть на город. Как будто город разросся, но жизнь в нем текла прежняя: рикши, около вокзала торговцы чаем, снующие грязные китайцы: только русских солдат, которыми во время войны кишели маньчжурские вокзалы, не видно.
После Харбина я сделал остановку на станции Даурия, где стоял 15-й Сибирский стрелковый полк. Ужасная стоянка! Только и увидишь людей — солдат полка, служащих на станции, да пассажиров проходящих поездов. Природа дикая, без воды и лесу. В такой глуши и запивающего надо простить. Полк был извещен о моем приезде и встретил меня радостно — гостя невиданного. Помолился я с полком в церкви, прошел по казармам, побеседовал с воинами, с командиром полка, с симпатичным священником Антонием Жуковичем. Русский человек вообще гостеприимен, и чем в более диком он углу, тем гостеприимнее он. Рад он тогда встречному человечку и готов чем только может угостить его. В войсках гостеприимство было традиционным, священным долгом. Угощали меня в 15-м полку усердно, упрашивали дольше пробыть у них. Но у меня впереди было много дела, предстоял большой путь, и в тот же день я отправился дальше.
Следующим этапом моего путешествия была Чита, областной Забайкальский город, в окрестностях которого стояли: в посаде Березовке— 17-й, 18-й и 19-й, а в посаде Песчанке— 13-й и 14-й Сибирские стрелковые полки. И туг ласковый прием, радушие и гостеприимство. Исполнив свой долг — помолившись с войсками, побеседовав с военными начальниками и священниками, — я отправился в г. Сретенск. В стороне от моего прямого пути лежал он. в 350 верстах от Читы, и стоял там всего один 10-й Сибирский стрелковый полк, но мне хотелось посетить эту заброшенную в далекую сибирскую глушь воинскую часть, редко, по всей вероятности, навещавшуюся высшим начальством и
317
ни разу не видевшую протопресвитера. Пробыв день в Сретен-ске, выполнив задачу своей поездки, я отбыл в Читу, чтобы продолжать свое путешествие.
Полюбовавшись в пути красавцем Байкалом и бирюзовой Ангарой, я прибыл в Иркутск, где в феврале 1906 г. был возведен в сан протоиерея.
туг меня ожидала значительная работа: в Иркутске стояла вся 7-я Сибирская стрелковая дивизия (25-28-й Сибирские стрелковые полки), был военный госпиталь и дисциплинарная рота. Во всех этих частях и учреждениях следовало побывать, помолиться, побеседовать. А затем визиты архиепископу, генерал-губернатору, губернатору, военным начальникам, викарию. Генерал-губернатором Иркутским в то время был генерал Алексей Ермолаевич Эверт, мой сослуживец по 1-й Маньчжурской армии, в которой во время войны он был начальником штаба. И генерал-губернатор, и дивизия, каждый от себя, чествовали меня обедами. Иркутск оставил во мне впечатление доброе: священники работоспособны и к своему долгу внимательны, отношения между священниками и военными частями сердечны и дружественны.
В г. Красноярске квартировали два полка (30-й и 31-й) 8-й Сибирской стрелковой дивизии, которой тогда командовал мой добрый знакомый генерал Алексей Редько. Во время Русско-японской войны он командовал 6-м Сибирским Красноярским полком; 1 августа 1905 г. по его и прекрасного священника этого полка о. Василия Тюшнякова приглашению я в походной полковой их церкви совершал литургию и освящение воды. Это было недалеко от г. Херсу. Редько был добрым, серьезным, религиозным воином, с того времени у меня с ним установились сердечные отношения. Встреча с генералом Редько была у меня самая сердечная, мы радостно приветствовали друг друга. Я радовался, что вижу его начальником славной дивизии, он — что встречает меня как протопресвитера, духовного главу Российских армии и флота. Тут же, на вокзале, встретил меня, к моему удивлению и радости, и о. Василий Тюшняков, в то время снова учительствовавший в Красноярской учительской семинарии.
С вокзала мы поехали в полковую церковь, где ждали меня чины обоих полков. Помолились, и, как везде, я приветствовал собравшихся словом: побывал затем в казармах, сделал визиты архиерею, губернатору, Редько, командирам полков. Удививший меня своим хлебосольством еще 1 августа 1905 г., генерал Редько с командирами полков вечером чествовали меня обильным обедом. К обеду был приглашен и епископ Енисейский и Красноярский Никон (Бессонов). В то время ему было 43 года — возраст незначительный для епархиального архиерея. Об этом архиерее не могу не сказать несколько слов.
318
Я тогда впервые видел епископа Никона. Не произвел он на меня хорошего впечатления, хотя и по внешнему виду, и по обращению его с людьми он мог нравиться многим. Карьера его была особенной: он сначала окончил курс Константиновского межевого института, а потом курс Московской духовной академии, на втором курсе постригшись в монахи (в конце 1892 г.). В 1906 г. он стал викарным, а в январе — самостоятельным Енисейским и Красноярским епископом. С 15 ноября 1912 г. состоял членом Государственной Думы. Особенно не понравился мне голос епископа Никона. В частном спокойном разговоре можно было не заметить дефективности в голосовом епископском аппарате. Но когда за обедом епископ Никон начал выкрикивать свою застольную речь, я не без жути слушал его: из епископского горла вылетали какие-то резкие, отрывистые, металлические звуки, как будто туда была вставлена серебряная пластинка. Речь епископа была длинна, малосодержательна и даже, пожалуй, эксцентрична. С началом революции Никон показал себя: отказался от сана, женился на еврейке и после, как сообщали мне, бесчинствовал.
Уже шел сентябрь. Мне хотелось возвратиться в Петербург к Воздвижению Креста Господня (14 сентября). На дальнейшем же моем пути Сибирских войск было мало: один полк в Томске, два полка в Омске, да и эти полки находились в лагерях. Все же я решил побывать в Томске, куда меня тянула легенда о старце Федоре Кузьмиче, которым якобы был император Александр I. Университетский город Томск еще не был как следует устроен. Когда я ехал в экипаже, меня встретило на главной немощенной улице огромное стадо коров, над которыми вилось густое облако пыли. Глубоким провинциализмом веяло и от зданий, и от жителей.
Я заехал с визитом к правящему епископу Мефодию. О нем я раньше был наслышан. Архиереи звали его Хлыстовской Богородицей за его безбородое, вытянутое и как будто всегда удивленное лицо. О нем говорили, что он неглуп, начитан, добр, но злоупотребляет наркотиками и тогда бывает невменяем. В архиерейском доме мне сказали, что владыка уехал на прогулку и неизвестно, когда он вернется. Я отправился к викарному епископу Евфимию. Тот принял меня с важностью, не соответствовавшей ни его положению, ни его разуму. Первый его вопрос был: «А вы где же постоянно проживаете?» Чтобы российский архиерей не знал, где живет протопресвитер военного и морского духовенства, — это было немалое диво. Я хотел ответить: «На луне, Ваше Преосвященство», но воздержался и сказал: «В Петербурге, в Петербурге, Ваше Преосвященство». Мне бросилось в глаза, что над диваном, на котором важно восседал архиерей, рядом с портретом царствовавшего императора висел портрет Федора Кузьмича — огромный, в раме. Потом я побывал в домике Федора Кузь-
319
мича, превращенном в тщательно оберегаемый музей, и на его могиле, ставшей местом постоянного паломничества. В Томске держалось твердое убеждение, что Федор Кузьмич был императором Александром I.
В Омске я останавливался на самое короткое время, чтобы увидеться со Степным генерал-губернатором и командующим войсками Сибирского военного округа. Но он был в отъезде, и я с первым же отходящим поездом двинулся в уже безостановочный путь до Петербурга.
Поездка на Дальний Восток весьма удовлетворила меня: войскам, никогда не видевшим духовно возглавлявшего их протопресвитера, я, несомненно, доставил утешение; сибирское духовенство познакомилось со мною, с моими взглядами и требованиями, убедилось, что каждый священник смело может обращаться ко мне со своими нуждами и недоумениями и может надеяться на братский отклик, а не на начальническое отношение; я за время поездки ознакомился с духом сибирских войск, с личным составом и священниками, с духовными нуждами сибирских воинских частей, обогатился опытом лучших пастырей; и войска, и священники увидели, что Петербург не забывает их и готов заботиться о них.
По пути из газет узнал, что в Петербурге внезапно скончался присутствовавший в Синоде экзарх Грузии архиепископ Иннокентий. По осанке, по деловитости, по умению обращаться с людьми это был один из самых выдающихся архиереев. По внешнему виду могучий и совсем не старый — ему было не более 50 лет, — он, казалось, должен был еще долго жить. Смерть сразила его неожиданно, напомнив забывающим, что она близко около каждого из нас.
Во время моего путешествия ведомством управлял мой помощник протоиерей И.В. Морев. Пред самым отъездом я назначил священника в стоявший в г. Калуге полк 3-й пехотной дивизии. поручив о. Мореву уведомить об этом, как полагалось. Калужского епископа Георгия (Ярошевского), бывшего ректора Санкт-Петербургской духовной академии, человека высокомерного, заносчивого, вздорного. Когда я вернулся в Петербург, мне доложили, что в мое отсутствие произошла очень неприятная история: посланная епископу Георгию бумага, составленная по форме, то есть без испрашивания благословения и молитв, а с обычным «С совершенным почтением и преданностью...» была возвращена епископом Георгием с резкой надписью, что лица иерейского сана должны знать форму обращения к архиереям. «Что же дальше делать?» — спросил меня начальник канцелярии. «Ничего! Больше с ним не сноситься. А если он пожалуется Синоду, я объясню, что нарываться на новые оскорбления мы не желаем». — ответил я. В 1915 г. будучи в Минске, куда незадол-
320
го перед тем был переведен Георгий, я посетил его. Любезности его не было границ. Бывают особы, которые только тогда становятся людьми, когда подстегнешь их. В сане Варшавского митрополита Георгий закончил свою жизнь трагически: он был застрелен архимандритом Смарагдом.
Из пережитого в 1913 г. не могу не упомянуть о пасхальном богослужении в царскосельском Федоровском соборе. Обыкновенно пасхальное богослужение я совершал в своей домовой церкви. Но в 1913 г. царица пожелала, чтобы я служил в Пасхальную ночь в Федоровском соборе. В том году Пасха пришлась на 14 апреля (по старому стилю). Весна была столь ранняя и теплая, что царица с дочерьми и придворные дамы явились в собор в летних белых платьях.
Мне сослужили царский духовник, протоиерей собора Зимнего дворца о. Владимир Калачев, протоиерей Николай Андреев и священник Кибардин, четыре священника и два диакона. Пел полный хор Придворной капеллы. Собор внутри был залит электричеством и огнями горя1цих свечей; снаружи собор был окружен цепью разноцветных фонарей, около которой пылали смоляные бочки; густая цепь конвойцев и чинов Сводного полка окружала собор; от горевших огней роща, среди которой стоял собор, имела волшебный вид. Крестный ход вокруг собора вышел грандиозным; впереди военные чины несли кресты, хоругви и иконы, за ними шли в своих красивых костюмах певчие, потом в золотых блестящих одеяниях духовенство, за которым следовал государь с дочерьми и многочисленной свитой в парадных мундирах, дамы в нарядных белых платьях. Все это было как в чудесной сказке. Государыня из-за больных ног не шествовала в крестном ходу, а оставалась на соборной паперти. После утрени духовенство вышло на амвон, держа в руках; я — крест, другие — Евангелие и иконы. Подошел похристосоваться только один государь — он христосовался за весь находившийся в храме народ. Это было символично и экономично; христосованье со всеми богомольцами очень удлинило бы службу. Царская семья и свита оставались до конца богослужения и, только приложившись ко кресту после литургии, вышли из собора.
По окончании богослужения духовенство было приглашено во флигель Екатерининского дворца, где для них был приготовлен пасхальный стол и ночлег. В 11 часов дня они должны были участвовать в торжественном принесении Их Величествам пасхальных поздравлений. Угостил нас царь на славу; чего только не было на столе — всяких изысканных яств и питий! После семинедельного самого строгого поста мне особенно вкусной показалась жирная ветчина, после которой я выпил два бокала холодного шампанского. В 10-м часу дня я проснулся от нестерпимой боли в желудке, сопровождавшейся поносом с кровью. Превозмогая
321
себя, я все же в числе других приносил поздравление Их Величествам. но едва живой добрался до дому. Бросились искать доктора. После долгих поисков нашли еврея Кривисского Самуила Соломоновича, который признал у меня дизентерию в чрезвычайно острой форме. Узнав от меня, что на следующий день, 15 апреля, я должен присутствовать на высочайшем параде в Царском Селе, он категорически заявил, что о моей поездке надо всякую мысль оставить — при благополучном течении болезни я должен пролежать в постели не менее трех дней. Ночь я провел неспокойно. Усталость чувствовалась страшная. Утром 15-го ко мне явился протодиакон Демин узнать, поедем ли мы на парад. «Конечно, поедем», — ответил я. Услышав мой ответ, мои домашние начали со слезами умолять меня, чтобы я не безумствовал, не подвергал себя страшной опасности, но я остался непреклонным.
Парад происходил во дворе Екатерининского дворца. С трудом я облачился и едва добрел до аналоя. Слабость одолевала меня; чтобы не упасть, я придерживался за аналой. Вот начали прибывать высшие начальствующие лица: помощник главнокомандующего, сам главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, военный министр. Каждый из них обходил фронт, здороваясь с войсками, а потом подходил ко мне. Это отвлекало меня от мысли о моей болезни. Наконец, раздался голос сторожевого фельдфебеля; «Их Императорское Величество изволят следовать!» Сойдя с автомобиля, государь направился к фронту. Заиграла музыка, начали склоняться знамена, загремело «Ура!» Я совсем забыл о своей болезни. Молебен прошел великолепно. Никто из военных даже не заметил, что я болен. После парада последовал во дворце предложенный государем завтрак, устроенный по-великопраздничному. Я ел, пил, не считаясь со своей болезнью. Домой вернулся усталым. Отдохнув часок в постели, встал совершенно здоровым, к великому удивлению доктора Кривисского.
***
В заключение не могу не вспомнить о Георгиевском празднике 26 ноября 1913 г. Не каждый год он праздновался. В этом году угощение для нижних чинов — георгиевских кавалеров — было предложено в Народном доме. Особенность праздника состояла в том. что каждый из угощавшихся мог взять на память свой столовый прибор — тарелки, ложку с ножом и вилкой, кружку. Для кавалеров офицерского Георгиевского креста и для священнослужителей, украшенных золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, в Зимнедворском соборе высшим духовенством совершался торжественный молебен в присутствии царской семьи и всевозможных высших чинов, а вечером в Зимнем дворце царь угощал богатым обедом георгиевских кавалеров.
322
После молебна все члены Синода, как и участвовавшие в молебне придворные и военные — георгиевские кавалеры, священники были приглашены к особо для них сервированному завтраку. Это было царское угощение.
Вечером обед был восхитителен. Большой зал Зимнего дворца был залит блеском золота и серебра на военных мундирах. Сидели за столом не по старшинству чинов, а по степеням ордена и времени получения его. Почти все старшие кавалеры были моими знакомыми и в значительном числе соратниками в Русско-японской войне. Это был цвет российского воинства. В настроении всех чувствовалась особая торжественность: герои со своим царем дружно праздновали свой кавалерский праздник.
XV. 1914 год. Торжества. Ведомственная работа. Поездка по Туркестану. Распутинская история. Съезд военно-морского духовенства
Парадная сторона моей службы в этом году проходила так же. как и в предыдущие годы: я выезжал на все высочайшие парады. происходившие летом в Царском Селе, Петергофе и других местах, а зимою — в Петербурге в Михайловском манеже, и всякий раз переживал волновавшие меня чувства. Только не было Преображенского парада в Красном Селе. А это бывал самый многолюдный из всех обыкновенных парадов: в день Преображения Господня праздновали лейб-гвардейский Преображенский, 148-й Каспийский полки и еще какая-то воинская часть; кроме того, в этот день происходило производство в офицеры юнкеров, окончивших курс санкт-петербургских военных училищ. Этот парад бывал всегда многолюдным и в известном отношении торжественно-забавным: забавно было смотреть, как произведенные спешили облечься в офицерские формы и затем петушками вылетали на вокзал, чтобы поскорее попасть в Петербург, где с нетерпением ждали их знакомые и родственники. Вечером петербургские рестораны дрожали от веселья новых офицеров.
Но кроме этих ставших для меня обычными парадных торжеств в 1914 г. мне пришлось быть участником и нескольких торжеств иного рода.
1 января я участвовал в принесении поздравлений Их Величествам после новогоднего молебна в соборе царскосельского Екатерининского дворца. Поздравление происходило в большом зале этого дворца. И собор, и зал, переполненные тогда сановниками и генералитетом, представляли величественную, блестящую картину. Мне сообщили, что ни один европейский двор не был таким блестящим, богатым, широким, не умел так показать
323
себя, как наш императорский. Только австрийский в некотором отношении будто бы приближался к нему.
6 января происходил Крещенский парад с освящением воды на реке Неве. Пожалуй, это был самый красивый парад. Литургию в соборе Зимнего дворца и освящение воды на Неве совершал Петербургский митрополит с придворным духовенством. Литургии предшествовал торжественный выход: следом за церемониймейстерами первыми шли царь с царицей-матерью, во второй паре — великий князь Михаил Александрович, родной брат царя, с царицей и так далее. В царской фамилии тоже строго соблюдалось старшинство: первое место занимал родной брат царя, за ним следовали Владимировичи — двоюродные братья царя, дальше Константиновичи — дети и внуки Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, потом Николаевичи, затем Михайловичи и так далее. Собор заполнялся избраннейшей публикой, высшими чинами Российской империи. Митрополит с крестом встречал царя в дверях собора. По окончании литургии следовал торжественный выход. От дверей соборных и до Невы двумя рядами стояли гвардейцы (от всех частей Петербургского и его окрестностей гарнизона) и юнкера военных училищ. Нельзя было не удивляться выправке гвардейцев. Они стояли как вкопанные. Не верилось, что это люди, а не мраморные статуи. Погружение креста в воду Петропавловская крепость приветствовала салютами пушечных выстрелов. По окончании чина освящения воды царь провожал церковную процессию до соборных дверей. Присутствовавшее духовенство и в этот день угощалось царским завтраком. Как красивый, волшебный сон вспоминается Крещенское торжество того времени.
12 января мне пришлось быть участником двух больших торжеств: освящения памятника великому князю Николаю Николаевичу на площадке против Михайловского манежа, в сквере, и крещения сына князя Ивана Константиновича и его жены Елены Петровны — Всеволода. Первое торжество состоялось до полудня, второе — в 4 часа дня, оба в высочайшем присутствии. Первое было грандиозным: на нем присутствовали большинство великих князей, министры, войска в составе взводов от войск гвардии и всех частей войск, расположенных в столице и ее окрестностях. военно-учебные заведения, различные русские и иностранные депутации, множество высокопоставленных лиц, как и сподвижников чествуемого князя в бытность его главнокомандующим в войне с Турцией (1877-1878 гг.). Второе торжество было семейным, хоть и на нем, кроме высочайших особ, присутствовало много придворных чинов, председатель Совета министров Коковцев, председатель Государственного Совета Акимов, первоприсутствовавшие в I и II Общих собраниях и в Общем собрании
324
кассационных департаментов. Освящение памятника совершал я с военным духовенством, а крещение князя Всеволода — царский духовник протоиерей Николай Григорьевич Кедринский. Я и три митрофорных протоиерея — С.А. Голубев, Философ Николаевич Орнатский и Николай Васильевич Николаевский — ассистировали. Восприемниками были государь и великая княгиня Елисавета Маврикиевна, бабка новорожденного.
***
Кончался третий год моего служения в должности протопресвитера. За это время я успел ознакомиться с ведомством и составом духовенства, понять задачи и нужды ведомства. Провинциальное военное и морское духовенство, кажется, без исключений было расположено ко мне. Среди петербургского подчиненного мне духовенства был значительный кадр талантливых, честных, усердных и преданных мне сотрудников, в огромной степени облегчавших мне работу. Оставалось, правда, в столице еще несколько недовольных мною, пытавшихся исподтишка интриговать против меня, распуская разные, иногда самые нелепые слухи. С такими я расправлялся просто: вызывал к себе и откровенно сообщал о доложенном мне. Так было, например, с протоиереем лейб-гвардии Семеновского полка Сергием Архангельским, позволившим себе наговаривать офицерам, что я будто бы выдаю врагам государственные тайны. Я сказал ему: «Если вы убеждены в распространяемом вами, то вы должны официально сообщить начальству, можете через меня подать рапорт. Если же вы делаете это по злобе, за отстранение вас от должности председателя правления нашего свечного завода, то лучше бросьте это недостойное занятие. Иначе вы заставите меня принять свои меры. Помните: первое, что я покрыл вашу безусловную виновность в развале нашего завода, и второе, что вы как не получивший высшего образования не имеете никаких прав на занимаемое вами место, одно из самых лучших в ведомстве. Мне не составит большого труда сплавить вас куда-либо в провинцию». После этой «дружеской» беседы о. Архангельский успокоился, хоть и не стал моим другом.
Озабоченный желанием помочь священникам в ведении ими бесед с нижними чинами, я был очень обрадован выходом в свет «Военного Катехизиса», составленного кронштадтским морским священником о. Сергием Путилиным. Я сказал бы, что это было первое серьезное, планомерно, жизненно и разумно составленное пособие, драгоценное в особенности для начинающих службу в войсках и флоте. Незадолго перед выходом этой книги я издал небольшую книжку «Пост и молитва» — сборник моих статей, помещенных в «Сельском Вестнике». Эта книжка также оказалась недурным пособием для проповедников и собеседователей. У меня
325
уже было созрела мысль создать целую такого рода библиотеку, привлекши к составлению ее лучших духовных и светских писателей. Быстро улучшавшиеся дела нашего свечного завода, открывавшие мне возможность тратить большие суммы на нужды ведомства, позволяли мне не страшиться и очень крупных расходов.
Духовенство, мне подчиненное, за минувшие три года имело возможность убедиться, что я в отношениях его со мною и между собою желаю прежде всего искренности и правды, что я караю преступления, а не ошибки, и не считаюсь ни со связями, ни с родством виновных. Откровенно сказать, к сановным и пользующимся связями я бывал более строг, чем к незнатным и беззащитным, по заповеди Спасителя. «Кому дано много, много и потребуется: и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 48). Помнятся мне два случая.
Первый случай. Благочинный 15-й Кавалерийской дивизии, священник 15-го драгунского Переяславского полка В. К., приходившийся племянником моему помощнику протоиерею И.В. Мореву, обвинил священника 15-го уланского Татарского полка Дмитрия Лебедева, ему подчиненного, в ничегонеделании. Вызванный мною о. Лебедев с документами в руках доказал мне всю ложь благочиннического обвинения, вызванного завистью и злобой. Командир Татарского полка дал мне самый лучший отзыв об о. Лебедеве. Я тотчас лишил отца К. благочиннического звания и переместил его на худшее место. Заступничество о. Морева не помогло отцу К.
Второй случай. Ближайшим моим соседом был протоиерей лейб-гвардии Саперного батальона, бывший главный священник 2-й Маньчжурской армии Александр Петрович Журавский, родной брат М.П. Журавского, начальника канцелярии Духовного правления, не имевший высшего образования, но благодаря брату очень скоро успевший украситься разными орденами и митрой, являвшейся высшей наградой и очень редкой для белого священника. В 1912 г. о. Журавскому было 53 года. Человек неглупый и добрый, о. Журавский, как к другие его братья, страдал одной страстью — к многоглаголанию. Эта страсть приводила его к тому, что он посещениям разных религиозно-философских собраний, где можно было болтать без умолку, уделял гораздо больше внимания, усердия и времени, чем исполнению прямых своих обязанностей. Аккуратностью и серьезной исполнительностью он не отличался. В первых числах сентября 1913 г. командир лейб-гвардии Саперного батальона, свиты Его Величества генерал-майор Подымов явился ко мне с просьбой побудить о. Журавского серьезнее относиться к службе: он всегда неаккуратен в службе, а теперь уже прошла неделя, как кончился срок его отпуска, он же, по-видимому, и не думает возвращаться. О. Журавский проводил свой отпуск в 10 часах езды от Петербур-
326
га. Вызвав начальника канцелярии М.П. Журавского, я поручил ему телеграфировать брату, чтобы он не позже как чрез два дня был на месте службы.
Прошло три дня, а о. Журавский продолжал наслаждаться просроченным отпуском. Я опять вызвал М.П. Журавского и уже строже приказал: «Сейчас же телеграфируйте о. Александру: если он немедленно не прибудет в Петербург, будет уволен от службы». Конечно, оба Журавские не остались довольны моей строгостью, но вояжер немедленно, чуть ли не на следующий день вернувшись из отпуска, явился ко мне. Я встретил его следующими словами: «Вы должны были вернуться из отпуска неделю тому назад. Очевидно вы думаете, что ваши высокие награды и большие родственные связи75 дают вам право поверхностно относиться к службе. Вы должны помнить, что бывший главный священник Маньчжурской армии за несерьезное отношение к службе перемещен из Петербурга в Батум; для бывшего главного священника 2-й Маньчжурской армии тоже найдется где-нибудь в провинции место, если он не будет радеть о своих служебных обязанностях. Помните, что я в своих решениях и действиях непреклонен и не считаюсь ни с какими родственными связями. Заслуженные, старшие, должны подавать добрый, а не дурной, пример младшим». Конечно, ни сам о. Журавский, ни его присные не остались довольны, но на все духовенство, и в особенности на провинциальное, сделанный мною о. Журавскому нагоняй произвел самое благоприятное впечатление: духовенство увидело в нем доказательство моего беспристрастия и серьезного отношения к службе. Я лично старался служить примером неутомимого работника. Накануне полковых праздников в частях Петербургского гарнизона я в полковых церквах совершал всенощные бдения и панихиды по почившим чинам данного полка. В самый день праздников обязательно выезжал на высочайшие парады. В будни у меня ежедневно дважды в день происходил прием посетителей: с 9 до 11 часов утра и с 4 до 6 вечера. Прибывших издали и по экстренным делам я принимал во всякое время. Часто случалось, что меня отрывали от обеда, что очень огорчало моих домашних. Но я оставался верен своему принципу: я должен всем служить и считаться с их, а не со своими удобствами. Духовенство скоро поняло и оценило такое мое настроение.
В свободные от поездок воскресные и праздничные дни, как и накануне их, я совершал богослужения в своей домовой церкви, и тогда за литургиями проповедовал. Церковь протопресвитера раньше привлекала богомольцев своим прекрасным хором, теперь же стала привлекать и своим чудесным видом. Мое участие придавало совершавшимся в ней богослужениям большую торжественность.
327
В Великом посту 1914 г. мною было положено начало новому делу: еженедельному по четвергам от 5-6 часов вечера ведению богословских чтений для офицеров в огромном и роскошном зале армии и флота (Санкт-Петербург, Литейный, 20). Первую лекцию читал я на тему «Вера и неверие» 27 февраля; 6 марта читал бывший профессор богословия Казанского университета протоиерей А.В. Смирнов на тему «О самоубийствах». Затем в следующие четверги лекторами выступали: законоучитель Санкт-Петербургского морского корпуса священник Дмитрий Иванович Удимов и В.П. Быков, читавшие на темы; «Христианство как высшее выражение религиозной истины», «Душа и бессмертие», «Великий мировой обман». Чтения привлекли множество слушателей. На первом из них присутствовал сам главнокомандующий Петербургским военным округом великий князь Николай Николаевич.
В 1914 г. у меня уже созрел целый ряд серьезных проектов. Я уже мечтал о том, что мне удастся создать собственную типографию, и тогда я смогу широко развить специальное для религиозно-нравственного воспитания чинов армии и флота издательство. Стремясь обновить личный состав подчиненного мне духовенства, я был очень озабочен дальнейшим положением уходящих в отставку священников и решил во что бы то ни стало устроить для наших пенсионеров особый поселок, где им предоставлялись бы бесплатные квартиры с огородами. Ведомство протопресвитера набирало кандидатов в военные и морские священники из разных епархий. Эти кандидаты иногда оказывались случайными и почти всегда незнакомыми с настроением и духовными нуждами нашего воинства. Я сознавал необходимость иметь собственных, специально для службы в войсках подготовленных кандидатов — пришел к убеждению в необходимости иметь собственную военно-духовную семинарию с несколько измененным курсом и некоторыми добавочными предметами, касающимися военной психологии, педагогики, проповедничества. Я был убежден, что царь, великий князь Николай Николаевич и министры окажут мне полную поддержку в осуществлении моих желаний.
Некоторые считали меня беспокойным, слишком требовательным, всегда недовольным. Да, я почти всегда бывал недоволен и прежде всего самим собой. Мне казалось, что я недостаточно вникаю в жизнь и нужды своего ведомства и порученного мне дела, что моя и подведомственных мне священников работа требует новых и новых улучшений, что очень многое в ведомстве должно быть улучшено, исправлено. Я был убежденным, фанатичным сторонником истины, что жизнь должна быть беспрерывным движением вперед, что кто не идет вперед, тот остается позади, что только в болоте застой и неподвижность. С великим удовлетворением теперь, на старости лет. я вспоми-
328
наю, что малейший успех в работе, самое незначительное достижение в совершенствовании порученного мне дела гораздо более меня радовали, чем высокие награды, которыми меня жаловал царь, и иные материальные блага, выпадавшие на мою долю. Я горел желанием служить Родине, воинству, своим соработникам, направляя, вдохновляя, поддерживая их. Будучи строг к самому себе, я бывал очень строг и к ним. Но они не осудили меня за мою строгость. Когда в 1917 г. началась революция и разные епархиальные съезды и собрания начали свергать с кафедр своих архиереев, собравшийся в июле этого года в г. Могилеве Съезд представителей военного и морского, действовавшей армии и тыла, духовенства единогласно, решительно, без всяких нажимов с моей стороны избрал меня пожизненным военно-морским протопресвитером, известив об этом Святейший Синод и председателя Совета министров. Прошло более 30 лет после того, а я доселе продолжаю получать письма от остающихся еще в живых своих бывших сослуживцев, исполненные самой теплой любви и признательности, и слышать сообщаемые моим знакомым отзывы обо мне как о начальнике, который не только начальствовал, но был и другом, братом, отцом для своих подчиненных, а я хотел быть таким, я стремился к тому, чтобы более служить, чем начальствовать. В предоставленных мне власти и положении я не искал самоуслаждения и самовозвеличения и никогда не забывал, что я Божий слуга, обязанный дать Господу отчет в своем служении. Не скрою, должность протопресвитера военного и морского духовенства была весьма любезна моему сердцу. Причин этому было много: я любил наши армию и флот, сроднился с ними, считал великой честью служить им: меня увлекало стремление сделать более широкой, продуктивной, более плодотворной работу духовенства в армии и флоте; меня увлекало и то, что для моей кипучей энергии в должности протопресвитера военного и морского духовенства открывалось безграничное поле деятельности. Я так ценил свою должность, что никакие повышения по службе не могли прельстить меня. Когда в 1914 г. директор Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода по поручению В.К. Саблера спросил меня, не желаю ли я получить повышение — стать протопресвитером придворного духовенства, я с негодованием отверг это предложение, хоть протопресвитер придворный и пользовался большими благами, чем военный: ему всегда предоставлялась придворная карета, у него была придворная дача. В 1916 г. Петроградский митрополит Питирим, благодаря Распутину пользовавшийся тогда неограниченным влиянием на царицу, от имени последней предложил мне стать архиепископом, что, по его словам, сразу поставило бы меня на второе место в рядах российской иерархии и усили-
329
ло бы мою власть. Я ответил ему, что места в рядах российской иерархии не увлекают меня, я доволен занимаемым мною местом, а нужной для дела власти и в настоящем моем положении предостаточно, недостатка в ней я не ощущал и не ощущаю. В июле 1918 г. Московский Поместный Собор, по предложению председательствовавшего митрополита Антония (Храповицкого), просил меня стать военно-морским митрополитом. Я отказался и от этой чести. Не привлекали меня почести горнего звания. Меня увлекали дело и простота жизни.
И о современных демократических сановниках приходится слышать, что они любят окружать себя пышной обстановкой, которая якобы необходима для их престижа. Я никогда не был рабом этой слабости. Сделавшись протопресвитером, по тогдашнему представлению большим сановником, я решительно ни в чем не изменил образа и обстановки своей жизни: мебель у меня оставалась прежняя, что служила мне на прежней частной квартире: стол у меня был простой: ездил я на трамвае или на извозчике: высшим удовольствием для меня было пожить в глухой деревне, на берегу озера, около леса, там я босой бродил по воде, ловил рыбу, увлекался сбором грибов и ягод, посещал крестьянские избы и беседовал с крестьянами. С января 1911 до февраля 1912 г. царским духовником был протоиерей Николай Григорьевич Кедринский, человек незлой, но недалекий, совершенно не подходивший для занятого им места. По рангу чинов он стоял ниже меня, но и ему, как и придворному протопресвитеру, было предоставлено право пользоваться придворной каретой, что он делал с гордостью, но не всегда благоразумно: он, например, заставлял карету с кучером и лакеем в придворных красных с черными орлами ливреях выстаивать около бани и в мороз, и в непогоду по часу и более, пока его высокопреподобие обмывало свои преподобные телеса. О. Кедринский однажды обратился ко мне: «Вы не имеете своей кареты!.. Как же вы ездите?.. Ужель на извозчике?» «Реже на извозчике, чаще на трамвае», — ответил я. Кедринский прекратил разговор: стоит ли, мол, разговаривать с таким плебеем! Когда началась революция, у Кедринского отняли карету, ему пришлось ездить в трамвае. Отвыкши от такого способа передвижения, он, влезая в трамвай, оступился, и ему отрезало ногу. Отвык от трамвая, вот и поплатился...
Говоря о ведомственной работе, я не могу не уделить нескольких строк петроградскому Троицкому Измайловского полка собору. Первый после Исаакиевского по величине столичный собор, по преступному нерадению протоиерея Невдачина и Ко, был, как сказано выше (в XI главе), доведен до мерзости запустения. Я решил во что бы то ни стало привести его в надлежащий вид. По подсчету архитекторов, для этого требовалась огромная сумма — не менее 500 тысяч рублей. В министерстве мне объяснили, что
330
нельзя рассчитывать на получение и несравненно меньшей суммы, и посоветовали мне поискать какого-либо богача-благотворителя, который за орден или чин согласился бы дать нужную сумму. А один из моих знакомых указал мне на некоего Бруевича, который, управляя имениями принца Ольденбургского, скопил себе огромное богатство, а теперь, жертвуя большие деньги, украшается высокими чинами и орденами; недоучка из Могилевских мелкопоместных дворян, он уже имеет чин тайного советника и орден Владимира 2-й степени. За орден Белого Орла он, пожалуй, согласится дать нужную сумму. Я отправился к Бруевичу.
Бруевич жил на одной из Измайловских Рот76, занимая небольшую квартирку на 4-м этаже, с низкими потолками и мещанской обстановкой. Ко мне вышел старик выше среднего росту, скромно, но прилично одетый. «Очень рад познакомиться. Вы, конечно, по делу», — обратился он ко мне. «Конечно, не в гости», — ответил я и изложил ему суть своей просьбы. «Да, — сказал он, — собору надо помочь... Но почему же вы именно ко мне обращаетесь за помощью?» «Потому, во-первых, что я наслышан о вас как о большом, щедром жертвователе, а во-вторых, вы же прихожанин этого собора», — объяснил я. «Сумма кругленькая. 500 тысяч целковых... нешуточная... Но у меня она найдется. Только вот какой вопрос; я дам вам 500 тысяч рубликов, а чем же вы меня вознаградите?» — «Выхлопочу вам следующий высокий орден — Белого Орла», — сказал я. «Белого Орла за такую жертву маловато. Чтоб нам не торговаться, я прямо скажу, что меня удовлетворило бы; выхлопочите мне звание гофмейстера. Гофмейстер, собственно, тот же тайный советник, только придворный. Если вы в силах сделать это. считайте, что мои 500 тысяч рубликов в вашем распоряжении», — ответил Бруевич.
Пожалование придворными званиями зависело от министра двора. Я отправился к графу Владимиру Борисовичу Фредериксу. Милый и благородный, очень ласково относившийся ко мне старик Фредерикс внимательно выслушал меня, но в исполнении просьбы решительно отказал. «К глубокому сожалению, — сказал он, — я не могу порадовать вас ответом. Вы знаете этого Бруевича? Знаете, каким путем нажил он огромное богатство? Мы даем придворные звания только лицам, в нравственном отношении безукоризненно чистым. А Бруевича ввести в придворный круг!.. Нет!.. Это немыслимо!»
Через некоторое время в «Правительственном Вестнике» было напечатано, что тайный советник Бруевич за заслуги по Императорскому Человеколюбивому обществу жалуется чином действительного тайного советника. Он пожертвовал этому обществу 500 тысяч рублей. А Троицкий собор скоро был приведен в надлежащий вид усилиями нового энергичного причта, возглавленного протоиереем В.Н. Грифцовым.
331
К 1914г. была приведена в блестящий вид и моя домовая церковь. Как уже сказано, протопресвитер А.А. Желобовский все свое внимание отдавал хору, а на украшение церкви, на обновление ризницы им не обращалось никакого внимания. Протопресвитерская церковь была одной из худших петербургских церквей. У многих сельских церквей ризницы были богаче протопресвитерской, где даже пасхальные облачения были ветхими и убогими. После перестройки моя церковь стала самою лучшею петербургскою церковью и по красоте, и по размерам; в 1917 г. в ризнице моей церкви имелось 72 священнических и много диаконских облачений. Все это были пожертвования добрых людей, многие из них имели огромную ценность. Моя церковь блистала великолепием.
Воспользовавшись промежутком между Пасхой и праздником Вознесения Господня, когда не предвиделось никаких высочайших парадов, я решил посетить войска Туркестанского военного округа. Самый край очень интересовал меня. В этом путешествии меня сопровождал протодиакон С. Демин.
До Ташкента мы доехали без остановок. Прибыли туда 21 апреля. 22 апреля я занимался визитами: к генерал-губернатору, генералу от кавалерии Александру Васильевичу Самсонову, с которым я был знаком по Русско-японской войне, архиерею, командиру корпуса генералу Ерофееву и другим. С генералом Самсоновым, милейшим и благороднейшим человеком, мы встретились как добрые знакомые. Он меня познакомил со своими служебными радостями и горестями. Одной из последних было пребывание в Ташкенте великого князя Николая Константиновича, сосланного сюда еще императором Александром III за какой-то крайне непристойный проступок. Несмотря на свой значительный возраст (род. 2 февраля 1850 г.), великий князь не освободился от своей эксцентричности и его выходки постоянно приходилось сглаживать генерал-губернатору. Накануне моего приезда он. например, выслал 500 человек рабочих перемащивать главную улицу, не нуждавшуюся ни в каком ремонте. Генерал-губернатору пришлось, облекшись в парадный мундир, ехать к сумасбродному великому князю и доказывать ему необходимость отсрочить работу. У великого князя это был приступ его сумасбродства: через два-три дня он забыл о своем мимолетном желании. Незадолго пред тем великий князь требовал от настоятеля Ташкентского военного собора протоиерея Константина Николаевича Богородицкого, чтобы он немедленно повенчал его с 17-летней гимназисткой. Великий князь в то время был женат и жил с женой. Отказ почтенного о. протоирея привел его в бешенство с самыми дикими угрозами. Мое положение обязывало меня посетить этого оригинального великого князя, и я сделал это. Великий князь в тот же день прислал мне свою визитную карточку.
332
Эксцентричность великого князя не помешала ему сделать одно очень доброе дело: он оросил Голодную степь, превратив ее, благодаря орошению, в цветущий сад. Генерал Самсонов посоветовал мне по телеграфу выразить великому князю свое восхищение орошенной им Голодной степью, которую я должен буду проезжать, следуя в г. Скобелев (Маргелан). Я так и сделал. Вернувшись в Ташкент, я нашел присланную мне великим князем толстую связку огромных картонов с цветными зарисовками разных уголков Голодной степи. Это был великокняжеский ответ на мою телеграмму.
23 апреля, в день тезоименитства императрицы Александры Феодоровны, я служил в Военном соборе. Присутствовали генерал Самсонов и все начальствующие военные и гражданские лица. Вечером у генерала Самсонова был большой прием, на котором все внимание им было уделено мне. Усевшись со мною в укромном уголке, генерал Самсонов начал изливать скорбь своей души. Он был глубоко обижен военным министром Сухомлиновым. Государь хотел его, Самсонова, назначить Варшавским генерал-губернатором. Сухомлинов воспротивился этому, убедив государя, что Самсонов не знает французского языка и потому негоден для Варшавы. На самом же деле Самсонов безукоризненно говорил по-французски. «Я не прощу этого Сухомлинову, — говорил мне Самсонов. — У меня имеются потрясающие документы, удостоверяющие преступную связь военного министра со шпионской фирмой Альтшуллера. Сухомлинов — изменник, предатель», — возмущался Самсонов. «Вы очень неосторожны, Александр Васильевич, — сказал я. — Я-то вас не выдам, в этом вы можете быть уверены. Но я уверен, что тут есть сторонники Сухомлинова, следящие за каждым вашим словом, за каждым вашим шагом. Не забывайте, что Сухомлинов продолжает пользоваться у государя неограниченным влиянием. Узнавши, он не простит вам ваших отзывов о нем. Будьте осторожнее». Высокопорядочный человек, храбрый воин, генерал Самсонов был очень доверчив и прямолинеен. Царицей приема была жена генерала Самсонова, высокая, стройная, красивая женщина, с большим достоинством державшая себя.
Следующий день, 24 апреля, я отдал посещению воинских частей: 1-4-го туркестанских стрелковых полков. Ташкентского военного госпиталя и Ташкентской же дисциплинарной роты, а вечер провел в беседе со священниками. Войска встречали меня с большим радушием, священники произвели на меня доброе впечатление. Среди них выделялся настоятель собора протоиерей Константин Николаевич Богородицкий, окончивший курс Казанской духовной академии (выпуск 1887 г.), пастырь благоговейный. рассудительный, преданный своему делу. Приятное впечатление произвел и второй соборный священник, Александр
333
Малицкий, бывший офицер, окончивший курс 2-го Константиновского училища, воспитанный, скромный и дельный. Об остальных ташкентских священниках я не услышал ничего худого: со своими частями они жили в мире и согласии, дело свое посильно делали, но каждый по своему разумению и порядку. Согласованности, взаимопомощи в их работе не было. Я поручил о. Богородицкому обратить внимание на это и постараться сплотить священников для дружной и планомерной работы.
В Скобелеве стояли 7-й и 8-й Туркестанские стрелковые полки. Священниками тут были: 7-го полка — протоиерей Дмитрий Николаевич Вознесенский, а 8-го полка — протоиерей Николай Федорович Москвин. Первому шел 70-й, а второму — 64-й год. Но оба были бодры, энергичны, полками своими уважаемы. Об о. Вознесенском говорили как об очень богатом человеке. Одного дня мне хватило, чтобы и полки скобелевские посетить, и визиты нужные сделать, и со старцами-протоиереями в дружеской беседе отвести душу.
Дальнейший мой маршрут был таков: Самарканд (5-й и 12-й Туркестанские стрелковые и 2-й Уральский казачий полки). Чарджуй (6-й туркестанский стрелковый полк), Мерв (13-й и 14-й туркестанские стрелковые и 1-й Кавказский Кубанский казачий полки). Кушка (15-й и 16-й Туркестанские стрелковые полки), Ашхабад (17-19-й Туркестанские стрелковые и 1-й Таманский Кубанский казачий полки) и Красноводск.
Моя работа проходила везде одинаково: посещения воинских частей, совершение богослужений с обязательными речами, встречи и беседы с военным и светским начальством и, наконец, продолжительные беседы со священниками. Войска везде встречали меня с чрезвычайным радушием как исключительно редкого и почетного гостя. Особенно торжественной была встреча в Ашхабаде. Там на вокзале встретили меня сам командующий восками Закаспийской области генерал Леш, мой бывший сослуживец на войне 1904-1906 гг., с женой и штабом, а дочери начальника штаба генерала Савицкого, мои бывшие ученицы по Смольному институту, — с огромным букетом чудных туркестанских роз. На Кушке я 1 мая утром служил торжественный молебен для двух выстроенных в полном составе полков. Когда я прибыл на соборную площадь, вся она была покрыта только что выпавшим снегом. Но вдруг наступило тепло, и снег к концу молебна растаял. После молебна я был приглашен старшим священником Н. Иконниковым на чашку чаю. Войдя в его квартиру, я был удивлен комнатной прохладой. «Как вы поддерживаете такую приятную температуру?» — спросил я хозяина. «Это после жары на дворе вам кажется моя квартира прохладной. На самом деле тут сейчас 23° по Реомюру». — ответил хозяин. Так все в мире относительно, и каждый пере-
334
живает происходящее применительно к личному состоянию и личным переживаниям: голодному и кусок зачерствелого хлеба может казаться завидным, бездомному и самая убогая лачуга может представляться дворцом.
туркестанское военное духовенство не блистало талантами, не выделялось особой деятельностью, но они работали со скромной добросовестностью, с паствами своими жили в согласии, отличались сердечностью, приветливостью. Самое приятное впечатление произвел на меня священник 13-го Туркестанского стрелкового полка Василий Дмитриевич Бренев, толковый, скромный, воспитанный, приветливый. Совсем не плох был бы и священник 15-го туркестанского стрелкового полка Николай Николаевич Иконников, если бы не его вздорный характер, на который жаловались и его сослуживец, священник 16-го Туркестанского стрелкового полка Евгений Яржемский, и военные начальники. О протоиерее 6-го туркестанского стрелкового полка (в Чарджуе) о. Николае Георгиевиче Высоцком я и доныне вспоминаю не иначе как с большим угрызением совести. 70-летний старец, он тогда показался мне дряхлым, ослабевшим для полковой службы. Я предложил ему перейти на пенсию, и он покорно, не выражая никакой обиды, согласился. Я потом узнал, что это был на редкость благородный, кроткий и сердечный старец, с 1875 г. носивший протоиерейский сан. Я скоро убедился в поспешности своего поступка и утешался лишь тем, что этот весьма почтенный протоиерей, уйдя в отставку, не терпел материальной нужды.
Поездка по Туркестану оставила во мне неизгладимые воспоминания. Особенный край, совсем не похожий ни на запад, ни на восток России, ни на Кавказ, ни на Сибирь. Даже когда я глядел из окна вагона, он казался мне совсем особым миром. От Ташкента до Кушки я проезжал в конце апреля, когда во всей России бурно заявляет о себе весна. В Туркестане весна начинается в феврале, а март — цветущая весенняя пора, степь тогда представляет волшебный цветной ковер. В апреле я ехал по выжженной солнцем, голой степи, на которой не видно было ни одной травинки, ни одного цветочка. И только на искусственно орошенных местах виднелась пышная, богатая, сочная растительность, какой не приходилось мне видеть в России. В Туркестане вода ценилась на вес золота. Рассказывали мне, что большинство преступлений — краж. драк, убийств — совершались из-за воды. Вода была главным нервом туркестанской жизни. Меня удивило искусство простого населения, с которым оно пользовалось водою: все вспаханные поля пестрели арыками-канавками, по которым струилась вода; иногда по одну сторону железнодорожного пути вода в арыке текла на восток, а по другую — на запад. Иногда арыки проходили через дворы, иногда — под амбарами или жилыми домами, образуя бассейны для купанья. В полдень
335
берега речонок и арыков усеивались молящимися туземцами, воздевавшими к небу свои руки, шептавшими молитвы, а потом тут же омывавшими свои лица и руки и вытиравшими их полотенцами, перепоясывавшими их чресла. Эти молитвы у воды не имеют ли связи с той пользой, с тем огромным значением, которые имеет вода для жизни того края?
Моя поездка дала мне возможность ознакомиться не только с внешней, но и с внутренней стороной Туркестанского края. Каждый из начальствовавших спешил сообщить мне обо всех достопримечательностях и достижениях его области. В Ташкенте я узнал, что садоводство в Туркестане развивается с невероятной быстротой, что в то время там было до 120 сортов виноградных лоз очень высокого качества, дававших великолепные десертные вина: что яблоки и груши обещали быть лучшими в России, что чарджуйские, и особенно керкенские, дыни не имели равных в мире: что все более и более расширялись там рисовые поля, развивалось шелководство и пчеловодство: что Туркестан богател не по дням, а по часам. В Скобелеве губернатор сообщил мне, что в 1913 г. в его (Ферганской) области одного хлопка продано на 40 миллионов рублей, а раньше эта область совсем не занималась хлопком. В Ашхабаде меня специально возили на шелковичную станцию, обещавшую широкое развитие шелководства, и на образцовую пасеку, имевшую своей задачей развитие пчеловодства. Там же меня угощали оригинальным туркестанским розовым медом: розовым и по цвету, и по вкусу, чрезвычайно ароматичным, но скоро становящимся приторным. Инженер Савицкий (кажется, я правильно называю его фамилию) объяснил мне секрет своих удивительных насаждений, которыми он защитил Закаспийскую железную дорогу от сыпучих песков, постоянно засыпавших железнодорожный путь, часто останавливавших движение поездов и вызывавших огромные расходы на расчистку пути. Ему удалось найти крошечное растение, смогшее привиться к песку. Оно было бессильно, чтобы остановить заносы, но под его защитой смогло привиться другое, более сильное растение, а под защитой этого — уже совсем мощное — саксаул, оказавшийся вполне достаточным заграждением для железнодорожного пути. Американские и английские инженеры нарочно приезжали в Туркестан, чтобы ознакомиться с насаждениями инженера Савицкого. Я оставлял Туркестан, восхищенный этим далеким от русского центра краем, который, думал я, будет все более и более обогащать Российскую державу. Удиви тельный, благодатный край!
Из Ашхабада я прибыл в Красноводск. Город стоит у моря, в котловине, образуемой высокими горами. Почва такая, что на ней ничего не растет. Духота в городе нестерпимая, адская: воздух жаркий, влажный, парной, как в бане. Я был безгранично
336
рад, когда сел на пароход и тот двинулся в море. Из Баку я безостановочно проехал в Петербург.
За три с половиной года служения в должности протопресвитера, наблюдая царскую семью, беседуя со знающими ее быт, настроение, отношения, я смог составить определенное представление о ней. В отношении царя два разных чувства боролись во мне: с одной стороны, любовь и преданность к нему как к монарху, которому я присягал служить верой и правдой, как к человеку доброму, кроткому, симпатичному, всегда мило относившемуся ко мне; а с другой стороны, все утверждавшееся во мне сознание, что это царь не для данного времени, не для нашего быстро просыпающегося народа.
В печати и устно раздавалось много неблагоприятных отзывов о государе Николае Александровиче как о человеке малообразованном. неумном, эгоисте. Ни от одного из лиц, близких к государю и безусловно умных, как великий князь Николай Николаевич. генерал Алексеев, министры Кривошеин, Сазонов, граф Игнатьев и другие, я никогда подобного не слышал. Их согласный отзыв о государе: человек добрый, очень неглупый и достаточно образованный, но глубоко ни над чем не задумывающийся, фаталист, легко поддающийся влияниям и, главное, раболепно следующий внушениям царицы и ее «друга» — Распутина. Что государь был истинно русским человеком, что он любил Родину и во всякое время готов был отдать свою жизнь за нее, что он желал ее процветания и искренно радовался всяким улучшениям в ее существовании, — все это не подлежит никакому сомнению, и в этом была великая трагедия: был жертвен, желал добра и своей апатичностью, своим безволием и слепой покорностью «судьбе» причинял своей стране великое зло.
Царица Александра Феодоровна, бывшая Гессенская принцесса, была совсем иного рода особой. Гордая и властная, крайняя абсолютистка, не признававшая никакой другой формы правления, кроме самодержавной, мнившая себя хорошо знающей русскую душу и не понимавшая ее, по-своему любившая русский народ как раболепный, готовый жертвовать своими жизнями за ее семью, любившая новую свою Богом данную Родину, но как вотчину своего сына, для которого она считала своим священным долгом сохранить самодержавный отцовский трон во всей неприкосновенности, и, наконец, уверовавшая в Распутина как в Божьего посланника и всецело подчинившая ему свою волю. В Петербургском обществе ходило много самых ужасных слухов о ней: что она состояла в нечистой связи с Распутиным, что во время войны она как немка выдавала врагам военные тайны. Первое было совершенно лживо, никаких нечистых отношений между нею и «старцем» не было. Во втором она лишь косвенно была повинна: царь в переписке с
337
нею не скрывал от нее военных тайн, она делилась этими тайнами со старцем, а тот в пьяном виде выбалтывал их Манусам, Манусевичам и иным предателям, спекулировавшим на этих тайнах.
Царица проявляла большую религиозность: усердно молилась у себя дома, ежедневно посещала разные церкви, где целовала иконы, ставила перед ними свечи, героически выстаивала, несмотря на болезнь ее ног, продолжительные церковные службы. По-видимому, религиозность была семейной добродетелью Гессенского дома: родные сестры царицы — великая княгиня Елисавета Феодоровна и Ирена, супруга принца Генриха Прусского, родного брата императора Вильгельма, — также были очень набожны. Перейдя в православие из лютеранства, царица постаралась стать настоящей православной. Но более всего она увлекалась теми крайними мистицизмом и обрядоверием, от которых происходило немало разных бед. В религиозной жизни она более всего искала знамений, чудес, предсказателей и чудотворцев и не умела отличить истинную святость от мнимой, действительных праведников от разных шарлатанов и проходимцев. Здоровая религиозность, состоящая не в истерических восклицаниях и упражнениях, а в устроении всей своей жизни и деятельности согласно евангельским и апостольским заветам (Мф. 7, 21-23), ее не удовлетворяла.
Царица Александра Феодоровна сумела всецело подчинить себе своего мужа. Может быть, в этом был какой-то секрет их супружеской жизни. В присутствии своей жены невзрачный, застенчивый царь становился еще невзрачнее и застенчивее. Приняв в ее отсутствие какое-либо обещающее быть неприятным ей решение, он старался задержаться в пути, пока не остынет гнев его благоверной. Так, например, было в июле 1915г., после замены обер-прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера, любимца царицы, ненавидимым ею А.Д. Самариным. Тогда царь удлинил свое пребывание в армии чуть ли не на целую неделю.
Влияние Александры Феодоровны на своего мужа лучшими людьми того времени — великим князем Николаем Николаевичем, генералом Алексеевым, лучшими министрами и общественными деятелями — признавалось безумным, пагубным, ведущим к несомненной катастрофе и тем более возмутительным, что сама царица действовала по указке пьяного и развратного мужика — Распутина. Царь, рассказывали, иногда очень тяготился суровой опекой своей жены, но, поставив своим правилом терпеливо сносить все удары судьбы (Мф. 10, 22), он терпеливо подчинялся и внушениям, и требованиям своей соправительницы. Царь как будто не замечал, что правит государством не он, а его жена, и даже не она, а приобретавший все большее влияние на нее и вмешивавшийся во все государственные дела безгра-
338
мотный, невежественный тобольский мужик Распутин. Здесь я не стану распространяться об истории восхождения Распутина к власти — об этом мною довольно обстоятельно сказано в моем описании событий военного времени 1914-1917 гг., составившем особый труд под заглавием «На войне»77.
Соблазнительная близость Распутина к царской семье, постоянное его и царицы вмешательство в государственные дела все больше возмущали петербургское высшее общество и изолировали царскую семью даже в самых близких к ней кругах. Великая княгиня Елисавета Феодоровна еще продолжала бывать у своей сестры-царицы, но отношения между ними из-за Распутина становились все более натянутыми. Великие княгини Анастасия и Милица Николаевны, раньше очень дружившие с царицей и приблизившие к ней Распутина, теперь из-за Распутина же были с ней в ссоре. Великий князь Николай Николаевич без скрежета зубовного не мог слышать имена царицы и Распутина. Из великих князей только и оставался близким к царской семье Дмитрий Павлович, которого тогда прочили в женихи старшей царской дочери Ольге, да Кирилл и Борис Владимировичи, к добру и злу безразличные, делали вид, что остаются верными царице. Остальные великие князья соблюдали декорум должного почитания, втихомолку же резко осуждали и царя, и царицу, особенно царицу.
Даже в вымуштрованных придворных кругах заметно было значительное недовольство. Иногда осторожно ворчал благороднейший старик министр двора граф В.Б. Фредерикс. Тоже весьма благородный и царской семье преданный обер-гофмаршал двора граф Бенкендорф тихо переживал великую скорбь, наблюдая как пьяный тобольский мужик топчется по царским покоям и лезет в государственные дела. О благородном дворцовом коменданте генерал-адъютанте В.А. Дедюлине рассказывали, что он скончался от разрыва сердца после решительного разговора с царем о Распутине. Флаг-капитан Его Величества, генерал-адъютант, адмирал К.Д. Нилов часто, бывая под хмельком, ругал и Распутина, и царицу. Даже царский духовник протоиерей Н.Г. Кедринский, не блиставший умом, сторонился Распутина, невзирая на его близость к царю и царице. Только и оставались верными слугами и почитателями царицы флигель-адъютант капитан 1-го ранга Н.П. Свечин да «набитая дура», как о ней отзывались придворные, Анна Александровна Вырубова, фрейлина и наперсница царицы, ее граммофон. С 2 февраля 1914 г. к ним прибавился новый царский духовник — протоиерей А.П. Васильев, слывший в Петербурге за очень хорошего пастыря, а теперь ставший ярым распутинцем.
До 1914 г. я стоял в стороне от распутинской истории. В этом году меня начали втягивать в нее. В начале этого года протоие-
339
рей Сергиевского всей артиллерии собора Федор Боголюбов, со слов духовника великой княгини Елисаветы Феодоровны протоиерея Митрофана Сребрянского, сообщил мне, что великая княгиня собирается просить меня о воздействии на царя и царицу, чтобы ослабить влияние Распутина. После этого я несколько раз встречался с великою княгинею в Москве. Всякий раз она жаловалась на позорящую царскую семью близость к ней Распутина и на собственное бессилие помочь этому горю, но с просьбой воздействовать на царя и царицу она ко мне не обращалась, может быть, учитывая, что мое выступление пользы делу не принесло бы, а мне самому, наверное, повредило бы.
Откровенно сознаюсь, что я тогда не сознавал всей остроты распутинского вопроса и чрезвычайной трудности разрешения его вследствие болезненной, безграничной привязанности царицы и даже и царя к этому оригинальному временщику. Я считал тогда, что решительное выступление какого-либо любимого царем министра могло поправить дело. Наиболее близким мне и в то же время пользовавшимся большой любовью царя был военный министр генерал Сухомлинов. После одной из задушевных бесед с великой княгиней Елисаветой Феодоровной я высказал ему свои опасения возможности страшных последствий смущающей и даже возмущающей всех близости пьяного и развратного мужика к царской семье. Сухомлинов выслушал меня молча. Тогда я осудил его за такое спокойное отношение к столь жгучему вопросу. Теперь же я не осуждаю его: он тогда понимал, что его выступление не принесло бы решительно никакой пользы, а ему самому, несомненно, повредило бы. Борьба со старцем для отдельных лиц становилась непосильной. Воспитательница царских дочерей фрейлина Софья Ивановна Тютчева по моему совету пожаловалась царю на Распутина и была удалена от двора78.
Распутин и возглавлявшаяся Вырубовой его компания видели, что число недовольных их игрой с каждым днем увеличивается, что недовольство поникает во все слои общества, и разными способами старались вербовать себе союзников. В конце ноября 1912 г. ими был возведен на Московскую митрополичью кафедру бесцветный и дряхлый (род. 1 октября 1835 г.) Томский архиепископ Макарий, тобольский семинарист по образованию, не имевший никаких данных, чтобы мечтать о столь высокой кафедре и только за свою преданность Распутину получивший ее. Новый царский духовник о. Васильев сразу перешел в распутинский лагерь. Им теперь захотелось и меня перетянуть к себе. Так я сейчас объясняю обращение ко мне Вырубовой. В январе или в феврале 1914 г. она обратилась ко мне с просьбой уделить ей несколько минут для беседы или у меня, или в квартире ее отца А.С. Танеева в музее Александра III. Я избрал второе место.
340
В назначенный час мы сидели в столовой за чайным столом. Когда участвовавшая в чаепитии мать Вырубовой оставила нас двоих, последняя начала жаловаться мне: «Какие, батюшка, злые люди! Кажется, я не делаю им никакого зла, а они чего только не выдумывают про меня, как только не клевещут они на меня... Вот теперь распускают слухи, что я живу с Григорием Ефимовичем (Распутиным)»... Я совсем недипломатично ответил: «Охота вам, Анна Александровна, обращать внимание на такие глупости. Ну кто может поверить, чтобы вы жили с этим грязным мужиком? Уж если бы вы решились на связь с мужчиной, наверное, нашли бы более подходящий, чем этот, экземпляр». Она сразу прервала разговор. Иного ответа она ждала от меня. Я лишился возможной всемогущей поклонницы и был причтен к лику ненадежных. Но я не мог ради великих благ жертвовать своей совестью, а возможные огорчения меня не пугали.
В то время у царицы и ее окружения установился определенный вуляд на государственных деятелей: полезными для государства. нужными царю считались только те, которые были преданы старцу и нравились ему; отрицательно относившиеся к Распутину причислялись к врагам царского престола и Российской державы. Первые быстро продвигались, щедро награждались, со вторыми не стеснялись расправляться. Попавший в 1911 г. в опалу за бездарно организованные им белгородские торжества и в наказание за бездарность переведенный на захудалую Владикавказскую кафедру архиепископ Питирим (Окнов), быстро спознавшись с Распутиным, зашагал по иерархической лестнице: в 1913 г. он переводится в Самару, а через шесть месяцев после этого, в июне 1914 г., назначается на первую после митрополичьих Грузинско-экзаршескую кафедру: через год после этого он станет Петроградским митрополитом, займет, значит, самую важную российскую кафедру. Близость к Распутину тогда оказывалась более сильной, чем благодать Божия, «немощная врачующая и оскудевающее восполняющая». Не окончивший курса никакой школы, безграмотный, в письмах употреблявший только один знак препинания — точку, которую ставил после каждого слова, и каждое слово писавший с большой буквы, архимандрит Варнава, бывший огородник, за дружбу с Распутиным по требованию императрицы в августе 1911 г. был хиротонисан во епископа Каргопольского, викария Олонецкой епархии. Святейший Синод сначала отклонил требование царицы. Вернувшийся из Царского Села после доклада об этом царю и царице обер-прокурор Саблер заявил Синоду: «Святые Отцы. Выбирайте одно из двух: или ставьте Варнаву в архиереи, или я должен буду уйти из Синода». За всех ответил член Синода архиепископ Волынский Антоний: «Владимир Карлович! Чтобы сохранить вас для Синода, мы не только Варнаву, а и черного борова поставили
341
бы в архиереи». В ноябре 1913 г. Варнава стал самостоятельным Тобольским епископом, а в октябре 1916 г. был возведен в сан архиепископа. Тот же Саблер сделался обер-прокурором Святейшего Синода не без сильного влияния Распутина. Попович, кандидат богословия, совсем не блиставший дарованиями, Даманский за дружбу с Распутиным стал товарищем обер-прокурора Святейшего Синода. Елочный Дед, как его называли в Ставке, человек с сожженной совестью и скромными дарованиями, Б.В. Штюрмер, по милости царицы и Распутина, занял в 1916 г. сначала совершенно чуждый его прежней службе и его способностям пост министра иностранных дел, а потом — еще более не подходивший ему пост председателя Совета министров. И так далее и так далее. Обратные примеры: достаточно указать на великого князя Николая Николаевича, сваленного с поста Верховного главнокомандующего совсем не царем, а царицей, вдохновленной Распутиным.
К числу горячих противников царицы и ее распутинского окружения принадлежал начальник походной канцелярии Его Величества свитский генерал-майор князь В.Н. Орлов. Страшный богач, подлинный русский боярин, человек открытой, благороднейшей души и здравого смысла, он в то время был самым приближенным лицом к царю, знавшим все тайны царской жизни, ежедневно наблюдавшим все происходившее в царской семье. Придворная распутинщина возмущала его своей нечистоплотностью, ужасала его страшными последствиями, к которым она, по его убеждению, должна была привести. Любя безгранично царя, он возненавидел царицу как злого гения своего несчастного мужа, как сумасбродку, расшатывавшую трон, ведшую Россию к пропасти. Но и в отношении царицы он оставался благородным. «Я, — сказал он однажды мне, — был бы очень счастлив, если бы мог подтвердить упорно распространяемые в обществе слухи, что царица живет с Распутиным. Но я не могу сделать это, потому что она тут чиста, верна своему мужу, предана своему мужу. От этого, правда, России не легче: будучи верной супругой, она роет и для мужа своего, и для всех нас яму».
Настроение нового царского духовника протоиерея А.П. Васильева, сразу перекинувшегося в распутинский лагерь, тем более удручило князя Орлова, что он считал о. Васильева добрым пастырем и даже возлагал на него антираспутинские надежды. Во второй половине мая 1914 г. поздним вечером, как Никодим ко Христу (Ин. 3, 2), меня посетили князь В.Н. Орлов и товарищ председателя Думы князь Владимир Михайлович Волконский, избравшие такое время, чтобы никто не обратил внимания на их посещение. С князем Орловым я часто встречался на царских парадах и иных торжествах, князя Волконского я хорошо знал со слов моей духовной дочери фрейлины Елизаветы Сергеевны
342
Олив. Попросив меня сохранить их визит в полной тайне, князь Орлов изложил цель их прибытия: они оба возлагает на меня надежду, что я смогу убедить протоиерея Васильева изменить отношение к Распутину и его влиянию на царскую семью. Тут я не стану повторять изложенного мною в моих воспоминаниях «На войне» и лишь кратко скажу о дальнейшем. Исполнение просьбы князя Орлова и Волконского было далеко не безопасно для меня: я должен был открыть о. Васильеву свое противораспутинское настроение, а он мог доложить об этом и царице, и Вырубовой. Но я пообещал своим собеседникам сделать все возможное и немедленно исполнил свое обещание: в следующие два вечера я по три часа без перерыва беседовал у себя в кабинете с о. Васильевым. Сначала о. Васильев упорно защищал Распутина, доказывая, что он несомненный Божий избранник, святой, что его пьянство и распутство, которые о. Васильев не отрицал, не исключают его святости: у некоторых святых-юродивых святое юродство проявлялось в виде половой распущенности. Но в конце концов о. Васильев сдался, согласившись со мной, что влияние Распутина на царскую семью может быть весьма опасным и с ним поэтому необходимо бороться.
Князь Орлов был очень доволен обещанием о. Васильева бороться с влиянием Распутина. Но у меня осталось нерадостное впечатление от беседы с о. Васильевым. Меня более всего смущал его крайний мистицизм. Не верилось мне, чтобы о. Васильев, 40-летний здоровый мужчина, от природы очень неглупый, богословски образованный, мог быть одержим таким мистицизмом. Я искал особые причины «мистического» его настроения и находил их только в занятом им при царском дворе положении. Сравнительно еще молодой, совсем не выделявшийся среди столичного духовенства своим образованием (в 1893 г. он окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии по 3-му разряду), сын крестьянина-хлебопашца Смоленской губернии Бельского уезда, он в 1910 г. занял почетное место законоучителя царских детей, а 2 февраля 1914 г. еще более высокое и почетное — царского духовника. О. Васильев понимал, что в игре с Распутиным его карта будет бита — влияние Распутина на царя и царицу было гораздо сильнее его влияния. Как многосемейный (у него было 8 человек детей), он дрожал за свое хлебное место. «Ничего не выйдет, — думал я. — из обещания о. Васильева. Не попрет он против рожна». Так и случилось: о. Васильев продолжал дружить с Распутиным; последний нередко бывал у о. Васильева: жена и дети о. Васильева, встречая у себя в доме и провожая Распутина, принимали от него благословение и целовали его руку. Конечно, сам о. Васильев ни в чем не проявлял своего противодействия Распутину. В конце июля 1914 г. я с Верховным главнокомандующим уехал на фронт и до смены великого князя Николая Нико-
343
лаевича не показывался в Петрограде. После свыше годового отсутствия я только осенью 1915 г. приехал в Петроград. Узнав о моем приезде, царица пригласила меня совершить всенощную и литургию в царскосельском Федоровском соборе. Мне сослужил о. Васильев. По обычаю, мы не возвращались после всенощной в Петроград, а оба ночевали в Большом Царскосельском дворце, только в разных помещениях. Мне очень хотелось переговорить с о. Васильевым, так как некоторые лица очень энергично старались восстановить его против меня, внушая ему, что я добиваюсь занять его место. Сам Васильев писал мне об этом. В ответном письме я старался разубедить его. Я еще до войны категорически отказался от предложения занять место придворного протопресвитера, которому был подчинен царский духовник. Теперь же с обострением распутинского вопроса пост царского духовника был для меня еще более неприемлем. И я был решительно далек от того, чтоб когда-нибудь мечтать о нем. Не буду говорить о том, что лезть на живое место не в моем принципе. Все же, чтобы окончательно рассеять подозрения о. Васильева, я хотел лично переговорить с ним и потому после всенощной высказал ему свое желание побеседовать с ним. Он пообещал после ужина зайти ко мне. И действительно, часу в 10-м вечера он забежал ко мне, но не более, как на пять минут. Мы успели обменяться несколькими, ничего существенного не выражавшими фразами, а затем он начал прощаться, извиняясь тем, что ему надо навестить какую-то княгиню или графиню. Как будто для этого визита не могло найтись у него другого времени!
При прощании он как бы нечаянно обронил фразу: «Вы напрасно думаете, что Распутин падает. Очень ошибаетесь: он теперь, как никогда, силен...» Из этой фразы, всего поведения о. Васильева я сделал два заключения: 1) царский духовник, может быть, решился бы пойти против Распутина, если бы тот падал; вступать в борьбу с сильным Распутиным не в его расчете: 2) царский духовник избегал встречи со мною, опасаясь, чтобы и на него не пало подозрение. Следующая наша встреча была 8 или 9 января 1917 г., когда Распутина уже не было в живых. О. Васильев, узнав о моем приезде из Ставки, сам, без зова, явился ко мне. Теперь он стал неузнаваем. «Пожалуй, лучше, что этот человек (Распутин) навсегда отстранен от царской семьи». — услышал я от него. И затем о. Васильев начал рассказывать мне о разных похождениях Распутина, позоривших царя и царицу. Когда государь отрекся от престола, о. Васильев поспешил отмежеваться от царской семьи. При большевиках он был расстрелян.
12 или 13 (точно не помню) июля 1914 г. я сделал еще одну попытку сдвинуть с мертвой точки распутинский вопрос и обратился за помощью к любимой сестре государя великой княгине Ольге Александровне.
344
С этой великой княгиней я хорошо познакомился, бывая в ее дворце на заседаниях возглавлявшегося ею Комитета по постройке русского православного храма в Мукдене. Ольга Александровна была на редкость симпатичной женщиной: кроткая, простая и общительная, добрая и приветливая, она совсем не походила на других великих княгинь, оберегавших свое величие. Она ездила в городе всегда на извозчиках, причем обязательно беседовала с ними; в своем имении в Орловской губернии она посещала крестьянские избы, нянчила крестьянских детей. Многие считали ее левой, красненькой, а она не путалась ни в какую политику, а просто была удивительно доброй и общительной русской женщиной.
Ольга Александровна приняла меня в Петергофе в саду своего дворца. Мы с нею ходили по аллее сада, и я доказывал ей, что влияние Распутина на царя и царицу, а через них и на разные государственные дела угрожает всем нам страшными последствиями. «Батюшка! — сказала она, выслушав меня. — Распутин — это наше семейное несчастье. Все мы понимаем это, и все хотим помочь этому горю. Но что мы можем сделать?! Матушка говорила с братом — не помогло. А я не умею говорить с ним. Довольно ему раз-два оборвать меня, чтобы я растерялась и смолкла». Потом я убедился, что и другие великие князья боялись говорить с кротчайшим царем о Распутине. От моего визита не получилось никакого току. Распутин стал сильнее всех великих князей и княгинь.
К великой княгине Ольге Александровне я обратился и с другой просьбой: чтобы она испросила у государя аудиенцию для членов работавшего тогда в Петербурге Съезда представителей военного и морского духовенства. Она обещала мне выхлопотать аудиенцию. Об этом съезде я должен сказать несколько слов.
Происходивший тогда в Петербурге съезд в составе 49 представителей военного и морского духовенства от всех военных округов и флотов Российской империи был первым за все время существования Ведомства протопресвитера. При прежних протопресвитерах от времени до времени собирались братские собрания, составлявшиеся, главным образом, из столичного духовенства, с участием немногих из иногородних. Но голос столичного духовенства, хотя и очень громкий, ни в коем случае не мог быть отождествлен с голосом всего духовенства уже по тому одному, что столичное духовенство работало при совершенно иных условиях, располагало иными средствами, пользовалось большими удобствами, чем провинциальное и особенно дальних окраин духовенство. Мне пришлось участвовать в нескольких собраниях, возглавлявшихся старцем — протопресвитером А.А. Желобовским. Они производили на меня впечатление чего-то несерьезного, нужного более для отбытия номера, чем для дела, не оказывавшего никакого влияния на жизнь ведомства, не
345
подвигавшего ее вперед. Соберутся, бывало, в невзрачной небольшой комнате Духовного правления священники и диаконы, торжественно пожалует глава ведомства — протопресвитер. Пропоют молитву «Царю небесный» или «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», протопресвитер затем похвалит свое духовенство, духовенство восхвалит своего протопресвитера, пропоет ему многая лета, и закончится собрание пением «Достойно есть». А затем в «Вестнике военного и морского духовенства» борзописец изобразит это собрание как крупное событие в жизни ведомства.
Успев посетить почти все военные округа и все флоты, я убедился, что в разных местах необъятной Российской империи разные ее воинские части имеют свои специальные нужды, что провинциальные священники имеют свой опыт, более богатый и ценный, чем опыт столичного, менее связанного с армией духовенства, что, наконец, в законодательстве, касающемся военного и морского духовенства, многое не выяснено, многое устарело и негодно. Не полагаясь на собственный опыт, я решил собрать лучших представителей военного и морского духовенства, чтобы общим разумом обсудить и исправить нужное. О задуманном я доложил военному и морскому министрам. Оба они приветствовали мое решение и сделали распоряжение, чтобы избранным на местах членам съезда были отпущены нужные на проезд средства. Я поспешил составить Предсъездный организационный комитет во главе с энергичным протоиереем В.Н. Грифцовым. Комитет выработал правила избрания членов съезда и занялся подготовкой материала для работ съезда. Во всех военных округах и флотах самими же священниками были избраны члены съезда пропорционально числу священников данного округа. Комитет озаботился подготовкой помещений для провинциальных членов съезда, для общих собраний, для работ комиссий. Открытие съезда было назначено на 1 июля. Мои «доброжелатели» и тут обвинили меня в преступлении, в том, что я собрал съезд, не испросив предварительно разрешение и благословение Синода на созыв его. Я ответил им, что наш съезд — дело нашей внутренней жизни, и ни в каких разрешениях высшей власти он не нуждается.
В день открытия съезда в 9 часов утра отцами-депутатами в Преображенском всей гвардии соборе была отслужена Божественная литургия, после которой и должен был открыться съезд. Но в этот день я был приглашен к участию в торжестве освящения дока в высочайшем присутствии цесаревича Алексея в Кронштадте. Съезд был открыт только по моем возвращении из Кронштадта в 5 часов вечера в помещении Сергиевского братства (Фурштадтская, 19) молебном, после которого состоялось первое общее заседание съезда. Перед молебном я сообщил
346
съезду, что в Кронштадте я лично доложил государю императору о предстоящем открытии съезда, и Его Величество пожелал съезду наилучшего успеха в трудах и благословения Божия. В дальнейшей своей речи я изложил съезду свои соображения, побудившие меня созвать этот первый за все время существования ведомства всевоенно-морской духовный съезд. Свою речь я закончил следующими словами: «Изъездивши вдоль и поперек нашу Россию, я поражен тем небывалым в истории ростом ее внешней культуры, который виден во всех уголках нашей Родины. Для величия, для счастья России необходимо, чтобы этот рост внешней культуры совпал с ростом и внутренней духовной культуры. Отсюда долг, который наложен на нас и нашим посвящением Царю Небесному, и присягою царю земному, и нашим званием христианина, как и званием гражданина, не проспать настоящего момента. На военное и морское духовенство возложена миссия возвышать дух армии и проводить чрез ежегодно возвращающихся в среду народную воинских чинов высокие христианские начала в русскую жизнь. Главная цель нашего съезда — поразмыслить о способах, как сделать более легким и продуктивным наш пастырский труд. Живое участие, с каким не только военное духовенство, но и печать отнеслась к предстоящему съезду, дают полную уверенность, что собравшиеся отцы-депутаты приложат все усилия, чтобы оправдать возлагающиеся на съезд надежды. Военное и морское духовенство должно показать, что оно сознает всю ответственность пред Богом и Родиной, на нем лежащую, понимает важность исторического момента, способно уразуметь дух истинной пастырской работы и одушевлено желанием потрудиться над великим и святым делом. С Богом примемся за работу!»79
Все вопросы, намеченные для съезда, предварительно обсуждались на гарнизонных собраниях военных и морских священников. После моей речи и совершенного молебна протоиерей Грифцов обстоятельно доложил о трудах этих собраний, после чего общее собрание постановило образовать 9 секций для предварительного обсуждения вопросов, подлежавших рассмотрению съезда. Были образованы следующие секции: 1-я — о составлении памятки военному священнику, 2-я — о богослужении, 3-я — об учительстве военного пастыря, 4-я — о библиотеках, 5-я — о миссии в войсках, 6-я — о правовом положении военного и морского священника, 7-я — о благотворительности ведомства, 8-я — об организации военно-свечного завода и 9-я — о положении морского духовенства. В конце собрания съезд избрал президиум и председателей секций. Избранными оказались: а) заместителем председателя съезда — протопресвитера — настоятель Ташкентского военного собора протоиерей К.Н. Богородицкий, б) товарищем председателя — настоятель Николаевско-
347
го Адмиралтейского собора протоиерей Доримедонт Георгиевич Твердый, в) секретарем съезда — настоятель Севастопольского адмиралтейского собора протоиерей Роман Иванович Медведь, г) помощниками секретаря — протоиерей лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка Всеволод Николаевич Окунев и настоятель Киевского военного собора протоиерей Сергий Троицкий. Собрание закончилось в 8 часов вечера. С 2 июля съезд в составе 40 военных и 9 морских священников начал свою работу. Заседания секций происходили ежедневно в предобеденное и послеобеденное время, общие собрания устраивались по мере накопления подготовленного секциями материала. Несмотря на летнюю жару, делегаты съезда были неутомимы.
Должен засвидетельствовать, что военное и морское духовенство, увлеченное новизной и серьезными задачами съезда, с чрезвычайной серьезностью отнеслось и к предварительному на гарнизонных собраниях рассмотрению вопросов, намеченных для съезда, и к выбору делегатов на съезд: гарнизонные собрания дали нам много интересного и серьезного материала: в делегаты были избраны не вояжеры, любители странствований по столицам и большим городам80, а деловые, опытные люди, в большинстве занимавшие ответственные должности в ведомстве. Решительно никаких давлений ни с чьей стороны при выборе делегатов не было. Тут духовенство совершенно свободно проявило свой служебный вкус и свое разумение.
Работа съезда проходила мирно, благородно, без малейших намеков на какие-либо неприятные инциденты. Дружно, с полным сознанием великой важности принятой ими на себя работы трудились члены съезда. Съезд закончил свои заседания, насколько помню, 12 июля, но члены съезда оставались в Петербурге в ожидании царского ответа на мою просьбу о приеме.
Беспокойны были для меня дни заседаний съезда, зато велико было моральное удовлетворение, полученное мною в эти дни. За дни съезда я успел сблизиться с его членами, ближе ознакомить их со своими взглядами и стремлениями, проверить свой опыт и свои начинания разумом своих опытных сотрудников, кое-что позаимствовать от их разума и опыта. Для нашего общего дела, особенно ввиду вскоре начавшейся войны, съезд имел чрезвычайное значение. Почти все участники съезда потом оказались на войне, большинство — на ответственных должностях, и там они стали проводниками взглядов и решений, вынесенных съездом. Между прочим, чрезвычайно важное значение для работы священников на войне, в особенности для мобилизованных и незнакомых со службой в армии, имела составленная съездом инструкция — памятка для священника на войне. В основу ее съезд положил мою книжку «Служение священника на войне», облекши ее в форму инструкции. Этой инструкцией устранялись
348
те многократно повторявшиеся на прежних войнах случаи, когда прибывший в действующую армию священник не знал, что делать с собой. В инструкции ясно было указано, что и как должен делать священник во время боя, в промежутках между боями, в полку, в госпитале, в сборном или эвакуационном пункте и так далее.
14 июля мною было получено от Министерства двора сообщение, что Его Величеству угодно принять всех членов съезда в Петергофском дворце 15 июля в 10 часов утра.
Утром 15 июля съезд наш в полном составе, прибыв на извозчиках на Балтийский вокзал, заполнил весь вокзальный зал. Находившаяся там публика с удивлением смотрела на нас — такое скопление духовенства ей приходилось видеть только на крестных ходах. Какой-то мужчина громко сказал; «Попов-то, попов сколько собралось!.. Не иначе как перед войной». А войной в то время уже попахивало...
От Петергофского вокзала до дворца мы проехали в придворных каретах, что очень польстило провинциальным делегатам. Во дворце прием был очень милостивым. Я представлял государю каждого, называя его сан, имя, отчество, фамилию и часть, в которой тот служил, как и место его службы. Ни разу не ошибся. «Ну и память же у вас! — сказал государь. — Как это вы могли все запомнить?» «Я же почти всех их видел на местах их службы, и обязан я знать своих сослуживцев», — ответил я. Государь расспрашивал каждого о времени службы, о семействе, о части, в которой служил представлявшийся. В заключение государь пожелал всем нам успеха в наших трудах на благо армии и Родины, простился со мной, а остальным пожелал счастливого пути к своим местам. Приняв затем царское угощение, мы в тех же придворных каретах отбыли на Петергофский вокзал. Таким беспримерным в истории военного духовенства торжеством закончился первый всевоенно-морской съезд духовенства.
XVI. Объявление войны.
Отъезд в действующую армию.
Ставка Верховного главнокомандующего
Между тем быстро надвигалась война. 10 июля австро-венгерский посланник в Белграде вручил сербскому министру-президенту ноту, содержавшую в себе обвинение сербского правительства в поощрении велико-сербского движения, приведшего к убийству в г. Сараеве наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Некоторые из предъявленных Сербии требований являлись невыполнимыми, некоторые же были предъявлены в форме, не совместимой с достоинством независимого го-
349
сударства. Усилия России мирным путем уладить конфликт оказались тщетными. Науськиваемая Германией, Австрия подвергла Белград бомбардировке, а 19 июля Германия объявила войну России. 20 июля царский манифест сообщил о вступлении России в Великую войну. «В грозный час испытания, — между прочим говорилось в манифесте, — да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага». «Будем молиться ко Господу Милосердия, — говорилось в послании Святейшего Синода по поводу вступления в войну, — да подаст единоверным братиям нашим дух веры, терпения и благоразумия для перенесения новой тяжелой годины испытания, их обышедшего, и да избавит их от скорби и угнетения».
Торжественное молебствие о ниспослании России победы над врагом было совершено в Николаевском зале Зимнего дворца в присутствии царя, цариц, царских дочерей и всех особ императорской фамилии. Весь сановный Петербург присутствовал на этом молебствии. Самый торжественный момент наступил, когда по окончании молебствия государь обратился к представителям армии и флота со следующими словами: «С спокойствием и достоинством встретила наша великая матушка-Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца. Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей. И к вам, собранным здесь представителям дорогих мне войск гвардии и Петербургского военного округа, и в вашем лице обращаюсь я ко всей единородной, единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии моей и благословляю ее на труд ратный». Когда государь упомянул о своем благословении на ратный великий подвиг, все присутствовавшие опустились на колени, а по окончании речи раздалось единодушное, долго не смолкавшее «ура». Многие не могли удержаться от слез.
Петербург — о других городах не решаюсь говорить — в этот и следующие дни не проявлял никакой тревоги, как будто он не хотел признать, что идет на отчаянную, жестокую борьбу с врагом чрезвычайно сильным, подготовившимся, беспощадным. Страха и уныния нигде не было заметно, везде шло ликование.
Всех занимал вопрос о военачальниках. Передавалось, что сам государь станет во главе действующей армии, а начальником его штаба будет начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Николаевич Янушкевич. И первое, и второе огорчало опытных в военном деле: «Какой же Верховный главнокомандующий. — говорили, — государь? Разве есть у него для такой роли знания, воля?» И Янушкевича считали так же со-
350
вершенно неподходящим для должности начальника штаба при Верховном: он не командовал никакою частью, он и дела генерально-штабного не знает, так как вся его служба протекла в академии, где он читал администрацию, и в канцелярии Военного министерства, где он делал опять же не штабное дело. Для должности начальника штаба при Верховном упорно называлось как единственно достойное имя генерала М.В. Алексеева. Иные называли Куропаткина. Для поста Верховного главнокомандующего всеми называлось также одно имя — великого князя Николая Николаевича.
20 июля вечером я получил уведомление из Генерального штаба, что государь повелевает мне во время войны состоять при Верховном главнокомандующем и что походную церковь я получу из склада дворцового ведомства. Все увидели в этом повелении государя указание, что именно он будет Верховным: состоять при ином Верховном, как говорили, царь не повелел бы протопресвитеру. Так на самом деле и было. Но царица-мать и министры убедили государя, так как и государственная жизнь требует, чтобы он в это время находился у кормила правления и возможные на первых порах военные неудачи принял кто-либо другой, а не он. 21 июля Петербург узнал о назначении Верховным великого князя Николая Николаевича. Царский указ был помечен 20 июля.
Новый Верховный чуть ли не в тот же день вызвал меня к себе. «Я желаю, чтобы вы во время войны состояли при мне», — сказал он в ответ на мое поздравление. «Мне уже государь повелел готовиться к отъезду в Ставку Верховного», — ответил я. «Это он брал для себя, но я упрошу его, чтобы он не изменял своего повеления. Надеюсь, он не откажет мне. Будем вместе работать», — сказал великий князь, обнял и поцеловал меня. «А вы не забыли своего обещания, данного вами великому князю в нашем имении, когда вы представлялись ему? Смотрите же, не покидайте великого князя! Помогайте ему!» — обратилась ко мне великая княгиня Анастасия Николаевна.
В Петербургском обществе гадали: кем же будут замещены должности главнокомандующих и командующих армиями? В главнокомандующие Северного и Юго-Западного фронтов определенно называли командовавших округами: Варшавским — генерала Я.Г. Жилинского и Киевским — генерала Н.И. Иванова; как на возможных командующих указывали на генералов: Ренненкампфа, Самсонова, Лечицкого, Рузского, барона Зальца и других. В военных кругах одних ругали, к другим относились сдержанно, немногих, как генерала Лечицкого и Рузского, хвалили. На Жилинского и Иванова не возлагали надежд. В отношении последнего утешались тем, что при нем начальником штаба состоял всем известный своим трудолюбием и деловитостью гене-
351
рал М.В. Алексеев. В один из этих дней меня встретил около Таврического сада мой давний приятель бывший начальник Академии Генштаба, потом командующий войсками Сибирского военного округа, а в данное время член Государственного Совета, генерал от кавалерии Николай Николаевич Сухотин. «Кто же поведет наши армии?» — спросил он меня. Я назвал ему несколько имен. «Пока кончится война, все они будут заменены другими», — сказал Сухотин, не поясняя своей мысли. Я всегда сожалел, что этому высокообразованному, безгранично любившему военное дело и военную науку генералу не пришлось командовать на войне войсками. У него счастливо сочетались и ум, и воля, что более всего нужно военачальнику. Кажется, в 1908 г. 26 ноября на традиционном обеде Академии Генштаба генерал Сухотин в своей застольной речи задал многолюдному собранию офицеров и генералов Генштаба вопрос: «Что важнее для военачальника: ум или воля?» Сам же Сухотин дал ответ на свой вопрос: «Конечно, сильный разум необходим военачальнику. Известна истина: лучше сто баранов, предводительствуемых львом, чем сто львов, предводительствуемых бараном. Но без сильной воли разум военачальника теряет свою силу. Последняя война блестяще доказала это». Сухотин намекал на генерала Куропаткина. прекрасно разбиравшегося в военных вопросах, но не обладавшего сильной волей.
Должен тут заметить, что отношения между этими двумя большими моими приятелями после Русско-японской войны круто изменились к худшему. Ранее Куропаткин и Сухотин были большими друзьями. Сделавшись военным министром, Куропаткин провел Сухотина из начальников кавалерийской дивизии в начальники Академии Генштаба. Благодаря Куропаткину же Сухотин в 1901 г. был назначен Степным генерал-губернатором и командующим войсками Сибирского военного округа. Во время Русско-японской войны, не иначе как по представлению Куропаткина. Сухотину предлагался пост командующего 3-й Маньчжурской армией. После понесенных Куропаткиным в этой войне поражений Сухотин возненавидел своего бывшего друга и покровителя и свою ненависть выражал при всяком случае открыто, резко. Я был свидетелем двух резких выпадов Сухотина против Куропаткина. В первый раз Сухотин напал на Куропаткина в 1907 г. на академическом многолюднейшем обеде 26 ноября (в день академического праздника). Начав разбирать военные операции этой войны, он перешел к оценке действий тогдашних военачальников и в первую очередь присутствовавшего тут же на обеде Куропаткина. Сухотин говорил чрезвычайно резко, язвительно. Мне запомнились некоторые его фразы. «Командуя армиями. ты. Алексей Николаевич, — говорил Сухотин, обращаясь к Куропаткину. — все забыл: и то, что ты учил, и то, что препода-
352
вал в академии. Если бы учащийся в академии офицер на экзамене в академии разрешал так военные задачи, как ты разрешал их на театре военный действий, я не поставил бы ему более единицы (при 12-балльной системе)»... «Почему же ты не приехал помочь мне в разрешении военных задач? Я же звал тебя», — только и сказал Куропаткин. Второй случай имел место в январе 1914 г. Я не учел отношений, установившихся между Сухотиным и Куропаткиным, и пригласил их обоих и министра земледелия А.В. Кривошеина к себе на ужин. Встретились Сухотин с Куропаткиным мирно, но во время ужина разразилась буря: Сухотин завел речь о Русско-японской войне и начал поносить Куропаткина как бывшего главнокомандующего на этой войне: «Какой ты главнокомандующий! Не главнокомандующим, а следователем держал ты себя на войне. Вместо того чтобы командовать армиями, одерживать победы, ты только и занимался тем, что собирал сведения, запасался документами об ошибках твоих подчиненных, чтобы потом оправдывать себя... Вот и привел ты Россию к позору»... Куропаткин не защищался, а только повторял: «Николай Николаевич! Опомнись! Что ты говоришь? Место ли тут и время ли для таких разговоров?» Но Сухотин был неукротим. Мое положение как хозяина было не из легких. Я с трудом перевел разговор на иную тему. Мне было тогда искренно жаль Куропаткина, хоть и во многом был прав Сухотин. Безволие и малодушие были главными врагами Куропаткина, губившими многие его таланты.
Пережитое мною в военную пору в Ставке Верховного главнокомандующего (1914-1917 гг.) я описал в своем труде «На войне». Повторяться не стану и ограничусь только беглым взглядом на пережитое тогда, после 30 лет ставшее более отчетливым и поучительным.
Ставка находилась в местечке Барановичи, еврейском и многолюдном, насчитывавшем до 35 тысяч жителей. Поезд Верховного — Верховный и его свита жили в этом поезде — поставлен в лесу, на восточной окраине местечка. В Петербурге, Москве и других городах скрывают местопребывание Верховного — даже военным оно не сообщается, хотя каждый барановичский еврей знает, что в их Богоспасаемом местечке, на окраине, в особом поезде помещается Верховный главнокомандующий. На этой почве происходили иногда забавные эпизоды, когда, например, назначенное в Ставку лицо не могло в Москве узнать, где же находится Ставка, и долго кружило по разным дорогам, пока от случайного человека не узнавало, что в Барановичах оно найдет место своей службы.
Поезд Верховного был заполнен личной свитой великого князя, которую составляли: шесть адъютантов — полковники князь Павел Борисович Щербатов, князь Михаил Михайлович Канта-
353
кузен, Александр Павлович Коцебу, граф Георгий Георгиевич Менгден, далее ротмистр Дерфельден и поручик князь Владимир Эманнуилович Голицын, — все офицеры Петербургских гвардейских кавалерийских полков; за ними следуют заведовавший двором великого князя генерал-лейтенант Матвей Егорович Крупенский и гофмаршал ротмистр Федор Федорович Вольф, заведовавший конторой великого князя полковник Игнатий Иванович Балинский и комендант поезда инженер Сардаров, армянин. Кроме того, при Верховном состояли: его родной брат великий князь Петр Николаевич, генерал-адъютант Дмитрий Борисович Голицын и свиты Его Величества генерал-майор Борис Михайлович Петрово-Соловово. Петр Николаевич был нежно любим своим братом, с Дмитрием Борисовичем Голицыным Верховного давно связывала большая дружба: генерал Петрово-Соловово был адъютантом лейб-гвардейского Гусарского полка, когда великий князь Николай Николаевич командовал этим полком. Эти последние три лица для службы не требовались — они развлекали Верховного. Вскоре к ним присоединился двоюродный брат Верховного принц Петр Александрович Ольденбургский, муж сестры государя, Ольги Александровны, один из самых бездарных людей, каких мне пришлось встречать в своей жизни. Наконец, членом великокняжеской свиты был доктор великого князя Борис Захарьевич Малама. Комендантом Ставки Верховного был жандармский генерал-майор Саханский, живший также в великокняжеском поезде.
Весь антураж великого князя состоял из людей честных, благородных, не интриганов и не кляузников и, исключая Сардарова, Маламу и Саханского, из аристократов. Но по совести надо сказать, что он являлся ненужным для дела, тягостным для государственного бюджета балластом. Великий князь мог преспокойно обходиться двумя, самое большее тремя адъютантами и одним заведующим его хозяйством, а в утешителях и развлекателях Верховный мог и не нуждаться — у Верховного для развлечения достаточно было серьезного дела. Шести адъютантам решительно нечего было делать; каждый из них дежурил в шестой день, причем дежурство было только дневным, ночью никто не беспокоил адъютанта. Изредка Верховный посылал того или иного адъютанта с поручением на фронт. Остальные бездельничали, часто не зная, что с собою делать. В промежутки между чаями, обедами и ужинами один бродил по штабу, выискивая собеседников; другой уходил в лес или в местечко: третий проверял счета, аккуратно присылавшиеся ему управляющим его богатого имения; а граф Менгден устроил голубятню рядом с домиком генеральской квартирмейстерской части и несколько раз в день гонял голубей, сгоняя их камнями, когда они садились на этот домик, чем невероятно нервировал и генерал-квартир-
354
мейстера генерала Ю.Н. Данилова, и помощников его. Балинский не переставал ссориться с Сардаровым, и это разнообразило их жизнь. Друзья Верховного — его брат Петр Николаевич и генерал-адъютант князь Д.Б. Голицын — редко выходили из вагона; оба они были на редкость скромные и порядочные люди, но едва ли в чем-либо имевшие возможность облегчать ответственейший труд Верховного. Раньше оба они не интересовались военным делом: Петр Николаевич увлекался церковной архитектурой, а князь Голицын заведовал царской охотой. Чины штаба только и видели их за обедами и ужинами. Для хозяйственной части поезда с избытком достаточно было бы одного человека. Словом, антураж Верховного без всякого ущерба для дела можно было сократить более чем на половину. В том же своем виде поезд с антуражем Верховного напоминал двор, переехавший на дачу богатой старосветской помещицы, захватившей с собою всех нянюшек, мамок, ключниц, поварих, приживалок. Бездельничавшие в Ставке офицеры были бы полезнее на фронте, где полки должны были пополняться зауряд-прапорщиками. Но тогда смотрели так, что престиж великого князя требовал большой свиты.
Личность Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и доселе для многих остается неясною. Тогда военные считали его знатоком военного дела, очень много сделавшим для нашей кавалерии. В армии и народе о нем ходили слухи как о начальнике чрезвычайно строгом и беспощадном, вспыльчивом и резком. Самый внешний вид его способствовал распространению таких слухов: чрезвычайно высокого роста (самый высокий из всех великих князей), со строгим лицом и резкими движениями, он производил впечатление самого решительного человека.
Наслушавшись всевозможных рассказов о грозном князе, я в июне 1911 г. не без страха ехал представляться ему. Ласковый, сердечный, задушевный прием опроверг тогда все ранее слышанное. Теперь, когда я жил в одном поезде с великим князем, за завтраками и обедами всякий день сидел против него, беседовал с ним, внимательно наблюдал его, я смог составить совершенно точное представление о нем.
Самые преданные великому князю лица его свиты не скрывали. что раньше он был очень резким, взбалмошным, шальным, способным на самые грубые поступки. Во время войны это был удивительно сдержанный, ровный в обращении со всеми, обо всех заботливый человек. Только внешний его вид и напоминал о прежнем грозном великом князе. За тринадцать месяцев постоянного и самого близкого общения с ним я только один раз видел его потерявшим хладнокровие: когда дежурный адъютант ротмистр Дерфельден проспал в лесу время вечерней прогулки
355
великого князя. Этот случай описан мною в моих воспоминаниях о войне. Во время войны ходили самые невероятные слухи, как якобы Верховный расправлялся с провинившимися генералами; срывал с них погоны, бил их и тому подобное. Ничего подобного не было. Самым резким выражением великокняжеского неудовольствия бывал отказ принять провинившегося. Но и это случалось редко.
Огромные средства, получавшиеся великим князем как высочайшей особой, как богатым помещиком и, наконец, как Верховным главнокомандующим, давали ему возможность щедро проявлять гостеприимство: военные агенты иностранных держав, все жившие в поезде Верховного и старшие чины штаба всегда питались за счет Верховного в его вагоне-столовой. Младшие чины Ставки приглашались к великокняжескому столу по очереди. Прибывавшие в Ставку министры, крупные генералы и общественные деятели также приглашались Верховным к столу. Вагон-столовая всегда оказывался заполненным. Все усаживались за маленькими столиками. С Верховным за одним столиком всегда сидели начальник штаба и я. Важного и любимого великим князем гостя усаживали рядом с ним. Когда Верховный угощал царя — это было, кажется, всего два раза. — тогда рядом с поездом разбивалась палатка и там сервировался стол. Вина и деликатесы тогда предварительно привозились из столицы.
Был ли великий князь добрым военачальником? По признанию многих офицеров генерального штаба и по моему скромному разумению, он обладал талантами военачальника. Он любил военное дело и понимал его; ум у него был быстрый и острый — он сразу схватывал суть дела и находил нужный выход; он имел необходимую для военачальника силу воли и достаточно влияния, чтобы воля его точно исполнялась. Но... у великого князя не было верного глаза для распознавания годных и негодных военачальников, и он часто мишуру принимал за золото, фокусников и шарлатанов — за настоящих мастеров военного дела. Он, например, до конца продолжал защищать многократно проваливавшегося генерала Артамонова Леонида Константиновича, утверждая, что при всех его ошибках у него имеются и большие добродетели. А дело объяснялось просто: ловкий Артамонов сумел залезть в душу великого князя в мирное время, служа командиром 1-го армейского корпуса. Сверх всякой меры рекламированного начальником штаба 15-й кавалерийской дивизии полковником В.Н. фон Дрейером начальника этой дивизии генерал-лейтенанта А.Н. Новикова великий князь причислил к лику знаменитых генералов. Я и доселе не могу решительно ответить на вопрос: за два года службы с генералами Н.Н. Янушкевичем и Ю.Н. Даниловым убедился ли великий князь в их несоответствии занимавшимся ими в штабе Верховного местам?
356
Во-вторых, великий князь не был свободен от недостатка, присущего всем высочайшим особам, которые много времени отдавали чаепитиям, завтракам, обедам, ужинам, парадам и разным развлечениям и не любили регулярной настойчивой работы, Другие военачальники проводили не только целые дни, но и ночи над картами, за обдумыванием планов, исправлением допущенных ошибок, а наш Верховный проводил время, как будто он был не на войне, не в Ставке Верховного главнокомандующего, а на даче: ложился спать и вставал в строго определенное время; вставши, одевался, умывался, обязательно молился Боту, принимал доктора, который определял состояние его здоровья, затем дежурного адъютанта, приносившего ему полученную корреспонденцию; потом пил чай и выслушивал короткий доклад начальника штаба: если были прибывшие по важным делам генералы или иные сановные лица, он принимал их. В 11 часов дня Верховный направлялся в помещавшуюся в отдельном домике, против великокняжеского поезда, генерал-квартирмейстерскую часть, где генерал Ю.Н. Данилов в присутствии генерала Янушкевича делал обстоятельный доклад о положении дел на фронте. В выслушивании этого доклада и проявлялась главным образом работа великого князя как Верховного. После доклада следовали: обед (завтрак), отдых, чаепитие, ежедневная прогулка верхом на лошади или в автомобиле, ежедневная пространная переписка с жившей во время войны в Киеве великой княгиней Анастасией Николаевной, отнимавшая не менее двух часов в день, ужин (обед), чаепитие с разговорами, вечерняя молитва и сон. В воскресные и праздничные дни Верховный обязательно присутствовал в штабной церкви на литургии, очень редко бывал в штабном кино, иногда обходил проходившие чрез Барановичи поезда с ранеными. Если бы начальником штаба Верховного в то время был сверхтрудолюбивый и талантливый генерал М.В. Алексеев и генерал-квартирмейстером другой, вполне отвечающий своему назначению человек, то такое времяпровождение Верховного, может быть, было бы и нужным, чтобы он с непереутомленной головою мог выслушивать доклады и глубже вникать в положение дела. Но при начальнике штаба генерале Янушкевиче и генерал-квартирмейстере Данилове дело очень выигрывало бы, если бы Верховный проявлял большую усидчивость в работе.
По моему разумению, большим недостатком в поведении Верховного было и то, что он не искал общения с войсками. В течение года он, помнится, четыре раза в важнейшие моменты выезжал в ставки главнокомандующих Северного и Юго-Западного фронтов. С войсками же у него было всего две встречи: с только что прибывшим на фронт 4-м Сибирским корпусом, вторая — с сформированным вместо погибшего под Сольдау 15-го армейского корпуса. Обе встречи произошли в январе 1915г., первая.
357
насколько помню, на ст. Безданы, не доезжая верст 20 до Варшавы, вторая — в г. Г омеле, первая, значит, не ближе верст 50 от боевой линии, вторая — в глубоком тылу. Должен сказать, что первая встреча произошла по моему настойчивому домогательству. Прибывший на фронт 4-й Сибирский корпус в самый разгар тягчайших боев под Варшавой явился даром неба для нашей измученной армии. Я считал, что посещение великим князем прибывшего корпуса вдохновит его на боевую службу. Но Верховный и слышать не хотел о поездке и только после настойчивых напоминаний моих и мобилизованных мною генералов Янушкевича и Крупенского согласился на поездку.
Такое отношение Верховного к посещению войск не может не казаться странным. Он знал, что армия любит и ценит его, что его появление среди войск вызовет в них энтузиазм, что каждое его слово, услышанное из его уст воинами, сильно отзовется в их сердцах: он знал, наконец, что войска жаждут видеть его. И все же он не стремился к войскам. Отыскивая причины такого поведения Верховного, я останавливаюсь на двух из них. Не хотелось бы мне говорить о них. Но... истории нужна правда, как бы неприглядна она ни была.
В армии и стране на великого князя Николая Николаевича смотрели как на рыцаря без страха и упрека, отважного и на словах, и в деле, бесстрашного, самоотверженного, могучего духом. В действительности выходило несколько иначе. Считал ли великий князь Николай Николаевич себя драгоценным для России или он чрезвычайно любил жизнь — я затрудняюсь сказать. Возможно и то и другое. Но оберегал он себя от всяких возможных опасностей поразительно. Это сказывалось при его послеобеденных прогулках, когда он не позволял шоферу делать больше 25 верст в час, и во всем строго размеренном образе его жизни. В этом заключалась первая причина, мешавшая ему посещать боевой фронт, где при обходе окопов, при осмотре позиций ему могла угрожать опасность. Надо здесь заметить, что великий князь также оберегал от опасностей и других, кого он ценил и любил. Я. например, каждый месяц выезжал на фронт и там любил заглядывать в самые опасные места. Расставаясь со мной. Верховный всякий раз строго внушал мне: «Вы же не лезьте, куда не надо! Помните, что вы нужны, вы дороги для России!»
Вторая причина, мешавшая Верховному появляться на боевом фронте, была, я сказал бы, забавной. Великий князь был трогательно дружен со своей женой черногоркой Анастасией Николаевной. Женщина гораздо низшей, чем ее муж, культуры, не слишком умная, часто бывавшая резкой и даже грубой, она сумела крепко привязать к себе своего супруга. С отъездом Верховного в Барановичи она поселилась в Киеве, чтобы быть ближе к нему. Оживленная, аккуратнейшая переписка не прекращалась
358
между супругами. Письма перевозились специальными фельдъегерями-офицерами: каждый день один из них привозил Верховному письмо из Киева от его жены, другой увозил письмо Верховного в Киев для «Верховной». К этому все в Ставке так привыкли, что решительно никто не обращал на это внимания. Только в январе 1915 г. мне бросилась в глаза такая слабость Верховного. В этом месяце, как я сказал выше, прибыл 4-й Сибирский корпус. Появлению его на фронте придавали огромное значение. Я раза три напомнил Верховному, что прибывший корпус был бы и польщен, и обрадован, и ободрен, если бы увидел своего Верховного и услышал его голос. Мне показалось, что мои напоминания выслушивались великим князем без внимания и даже как будто нервировали его. Я тогда попросил очень близкого к Николаю Николаевичу генерала Крупенского объяснить мне: почему великий князь отрицательно относится к посещению 4-го Сибирского корпуса? Ведь этот корпус завтра будет брошен в бой, его прибытие на фронт чрезвычайно ценно, на него возлагают большие надежды, надо же чтобы Верховный взглянул на него, приветствовал, благословил, воодушевил его. Я просил генерала Крупенского помочь мне убедить Верховного, что он обязан увидеть корпус. «Видите ли, — сказал мне Крупенский, — великий князь не любит отлучаться из Ставки, потому что при отлучках нарушается переписка с великой княгиней. Попросите начальника штаба доложить великому князю — очень осторожно, чтобы он не понял, что заметили его слабость, — что при поездке в 4-й корпус сношения с Петроградом и Киевом ни в чем не нарушатся: фельдъегеря ежедневно будут прибывать к великому князю и ежедневно же от него будут отправляться в Петроград и Киев. Так и было сделано, и Верховный согласился на поездку.
Я наблюдал несколько случаев, что в трудные минуты крупных неудач на фронте великий князь совсем падал духом. Так было после нашего несчастья под Сольдау и после бегства коменданта Ковенской крепости генерала Григорьева и падения этой крепости. Я вынужден был во втором случае резко засорять Верховного.
Высокий патриотизм великого князя не подлежал никакому сомнению, я несколько раз слышал от него: «Если бы нужно было для счастья России, чтобы меня всенародно выдрали на площади, я охотно согласился бы на такую экзекуцию». Он был русским до мозга костей, с русскими доблестями и русскими же недостатками. Он любил Россию и ненавидел немцев, а более всего — их императора Вильгельма. Царю он был предан безгранично, любил его как человека, не стеснялся говорить ему правду. Своим быстрым умом он подозревал надвигавшуюся опасность, виновниками которой считал царицу и ее окружение, возглавлявшееся Распутиным и его поклонниками. По ад-
359
ресу царицы у него часто вырывались жестокие слова, но на решительные действия у него не хватало решимости. Я думаю, что потом он сожалел об этом.
При некоторых недостатках великого князя Николая Николаевича все же он был незаменимым Верховным главнокомандующим. Среди тогдашних русских генералов я не вижу ни одного, который смог бы лучше его управиться с делом. Были более его талантливые. более работоспособные, даже более волевые, но ни у одного из наших генералов не было того ореола, того влияния на правительство, той близости к царю, которыми располагал великий князь Николай Николаевич. И будь у него другие ближайшие помощники, начальник штаба и генерал-квартирмейстер, он оставил бы после себя славу отличного Верховного. Но — и тут сказалось слабоволие Николая Николаевича — генералы Янушкевич и Данилов ушли из Ставки только одновременно с ним. причем генерал Янушкевич уехал на Кавказ его же помощником. Последнее также характеризовало великого князя: неудачного начальника штаба он удерживал при себе, потому что привык к нему.
Генералам Янушкевичу и Данилову я должен посвятить несколько строк. Они были совершенно разные люди. Янушкевич — образованный, воспитанный, деликатный и очень добрый — своей исключительной карьерой был обязан служебной фортуне, которая слепо протежировала ему. До 1913 г. он читал в академии администрацию и одновременно исполнял должность помощника начальника канцелярии Военного министерства. Начальником канцелярии состоял очень талантливый и достаточно легкомысленный генерал Николай Александрович Данилов, профессор академии. В 1913 г. Янушкевич неожиданно для многих был назначен начальником Академии Генштаба, а в апреле — кажется, не ошибаюсь — начальником Генерального штаба. После объявления войны он по инерции занял должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. Для молодого генерала (академического выпуска 1896 г.), притом не командовавшего никакою воинскою частью, последние два назначения были головокружительными. Они были одними из тех случайных и странных назначений, которыми изобиловали последние годы царствования императора Николая II. Когда Штюрмер был назначен министром иностранных дел. генерал М.В. Алексеев, начальник штаба Верховного, сказал мне: «Слышали? Штюрмер назначен министром иностранных дел... Выходит: хоть еловый да новый. Я не удивлюсь, если он завтра займет мое место». Янушкевич честно сознавал полную свою неподготовленность к исполнению должности начальника штаба Верховного и. как он сам сообщал мне. несколько раз просил великого князя освободить его от этой должности. Просьбы его оставались бесплодными.
360
Генерал Ю.Н. Данилов (академического выпуска 1892 г.) был на четыре года старше Янушкевича по службе в Генштабе. Не менее усидчивый и работоспособный, чем Янушкевич, он сильно уступал Янушкевичу в образованности, деликатности в обращении с людьми, но превосходил его в подготовке к занимаемой должности: он ведь в течение нескольких лет состоял на службе в Генштабе, специализировался в генерал-квартирмейстерском деле. Для занимавшейся им в штабе Верховного должности у него хватало сколько угодно усердия и знаний, но у него не было того священного огня, который делает работу труженика талантливой. Напротив, у генерала Данилова замечались тугодумие, упрямство, самонадеянность, уверенность в собственной непогрешимости.
Фронтовые генералы ненавидели обоих — и Янушкевича, и Данилова, в армии их считали злыми гениями великого князя. Последнему не раз докладывали авторитетные люди о необходимости заменить Янушкевича и Данилова более подходящими людьми. Великий князь всем отвечал: «Государь их избрал и назначил — я должен их держать». Вступивши в должность Верховного, государь однажды спросил генерала Петрово-Соловово: «Скажите мне, Соловово, почему великий князь не хотел сменить Янушкевича и Данилова?» «Великий князь говорил, что он не смеет сменять их, так как они избраны и назначены Вами», — ответил Соловово. «Какие глупости! — воскликнул государь. — Я же несколько раз говорил ему. что надо сменить их». А ларчик просто открывался: великий князь успел привыкнуть к этим генералам и теперь не желал расставаться с ними, хоть и сознавал, что они не отвечают своему назначению. Для начальника, да еще большого, эта черта не могла быть благодетельной.
Янушкевич и Данилов занимали отдельный вагон в поезде Верховного. Я долгое время считал их близкими друзьями, но потом убедился, что отношения между ними были совсем не благополучными. Янушкевича тяготили тугодумие, упрямство, самоуверенность. неуступчивость Данилова; тяготила его и зависимость от Данилова: Янушкевич считал себя некомпетентным в оперативной работе штаба и всю эту работу вел Данилов со своими помощниками, а Янушкевичу оставалось только соглашаться с ними. Данилов считал Янушкевича профаном в военном деле, пользующимся его трудами и знаниями и за них получающим высокие награды. Данилов не хотел сознаться, что и он со своим опытом и знаниями был маловат для занимаемого им места. К великой чести генерала Янушкевича, несмотря на свое отрицательное отношение к Данилову, он употреблял все усилия, чтобы последний в наградах не отставал от него: по его настойчивому ходатайству Данилов был награжден и орденом Святого Георгия 4-й степени, и чином полного генерала.
361
Пример генералов Янушкевича и Данилова наглядно показывает, как часто люди и честные, и трудолюбивые, и знающие оказываются непригодными, когда их сажают не на их места. Я убежден, что Янушкевич был бы идеальным дежурным генералом штаба Верховного. Думаю, что и Данилов счастливо справлялся бы с должностью начальника штаба армии, начальника дивизии, даже, может быть, командира корпуса. А на не своих местах не заслужили они славы.
Судьба этих генералов в дальнейшем была различная. Генерал Янушкевич в начале революции был убит в вагоне, когда его, арестованного, везли в Петроград. Данилов в эмиграции написал объемистую книгу о великом князе Николае Николаевиче. Скончался он мирно в Париже.
Пример Янушкевича и Данилова не был единичным в нашей армии. Что наша армия при превосходном составе толковых, доблестных, самоотверженных нижних чинов и отлично подготовленных офицеров терпела неудачи и даже поражения, это зависело не только от недостатка снарядов, в чем виновно было Военное министерство, но и от командного состава. При продвижениях по службе, при назначениях на высшие должности принимались во внимание: образовательный ценз, родовитость, связи, выпяченная грудь, способность к очковтирательству и прочие качества, свидетельствовавшие не о военных доблестях кандидата, а об его умении покорять начальнические сердца. Проверки знаний и пригодности кандидатов к предназначаемым для них местам не производилось. Вот и получалось, что одряхлевший, всю свою жизнь занимавшийся писарским делом генерал А.А. Благовещенский вышел на войну с корпусом: больше авантюрист, чем полководец, ханжа и очковтиратель генерал Л.К. Артамонов продолжал считаться у Верховного хорошим воякой; трус и фальсификатор генерал Кондратович К.А. тоже на войне воулавлял корпус. Все они трое под Сольдау доказали свое ничтожество. А сколько было других генералов, укладывавших тысячи солдатских и офицерских жизней, чтобы украситься орденом Святого Георгия, относившихся к войне как к военной игре, забывших азбуку военного дела81! Сколько было регулярно скрывавших свои неудачи и муссировавших свои успехи! Однажды генерал М.В. Алексеев сказал мне: «Как тут воевать? Когда Гинденбург отдает приказание, он может быть уверен, что оно будет точно исполнено даже каждым унтер-офицером его армии. А я не уверен, что мои приказания будут проведены даже командующими армиями. Я никогда не знаю точного положения на фронте, потому что все сообщения об успехах преувеличены, а неудачи умолчаны». Начальство больше стремилось к орденам, к чинам, к высочайшим благодарностям, чем к победе: жизнь человеческая ни во что не ставилась: ложью и обманом были про-
362
питаны большинство реляций. Это было оплачивавшееся дорогой ценой преступление, но оно было так распространено, что никому не бросалось в глаза, а у некоторых сходило за ловкое молодечество — оно вошло в систему, и эта система дорого стоила несчастной России. К несчастью, она владычествовала не только в военном, но и во всех прочих ведомствах и, может быть, в особенности в духовном. Но об этом я скажу после. Красочность реляций, не в смысле художественной яркости описания, а в смысле самого беззастенчивого приукрашивания неприглядной и печальной действительности, была своего рода болезнью нашей армии. Превращением в реляциях и крупных неудач в победы особенно славился очень способный, но развращенный балаганною Русско-китайскою войною, где все военачальники свои легко достававшиеся успехи раздували в огромные победы и почти все грабили и крали, генерал П.К. Ренненкампф. Полковник фон Дрейер своими хвастливыми реляциями сумел небездарного, но заурядного генерала Новикова превратить чуть ли не в национального героя. Ставка тоже изощрялась в красочности. Теперь, через тридцать с лишком лет, нельзя без улыбки перечитывать сообщения Ставки о ходе военных действий, печатавшиеся в газетах и журналах. В №34 «Церковных ведомостей» сообщалось: «19 августа (1914 г.) получено донесение, что превосходные неприятельские силы обрушились на наш отряд численностью около двух корпусов (от 80-100 тысяч человек) и, подвергнув его сильному обстрелу тяжелой артиллерии, нанесли нам большие потери. В бою погибли генералы Самсонов, Мартос, Пестич82 и некоторые чины штаба. С полной энергией и настойчивостью приняты все меры к отражению неприятеля. Несмотря на эти потери, являющиеся неизбежными печальными случайностями войны, наше положение в Восточной Пруссии не внушает никаких опасений и на общий ход военных действий здесь наших войск неудача отряда Самсонова не может оказать существенного влияния». В следующем, 35-м номере тех же «Церковных ведомостей» сообщалось: «После некоторых тревог относительно того, что делается в Восточной Пруссии после смерти Самсонова, пришли, наконец, сведения, дающие возможность выяснить наше здесь положение. Прежде всего оказалось, что наши два корпуса в южном углу Восточной Пруссии пострадали гораздо меньше, чем можно было ожидать; что в данном случае не было ни паники, ни поспешного отступления. Генерал Самсонов со своим штабом был убит случайным снарядом дальнобойной неприятельской артиллерии. Наши войска, невзирая на крупные потери и смерть начальника, не уступили поля сражения и лишь на следующий день, не преследуемые немцами, которые сами понесли большой урон, отошли несколько на юг, чтобы избегнуть риска быть окруженными» (Церковные ведомости, 1914, №34-35.
363
С. 1522, 1566). Действительность же была совсем иною. Утром 18 августа Верховный под величайшим секретом сообщил мне «страшную» новость; под Сольдау произошел разгром армии генерала Самсонова: 13-й и 15-й армейские корпуса не существуют, их командиры генералы Н.Н. Мартос и Е.А. Клюев с их штабами взяты в плен; корпуса генералов Артамонова, Благовещенского и Кондратовича, не приняв участия в бою, отступили; командовавший 2-й армией генерал Самсонов застрелился. Великий князь панически переживал эту катастрофу и успокоился лишь тогда, когда получил от государя телеграмму: «Будь спокоен. Претерпевший до конца спасется». По расправам, какие были учинены после этого несчастного сражения, можно было судить о размерах постигшего Россию несчастья; были уволены от должностей главнокомандующий Северным фронтом генерал Жилинский и все три командира бездействовавших корпусов — генералы Артамонов, Кондратович и Благовещенский. После двух-трех таких «неизбежных печальных случайностей войны» могла быть и проиграна война. Штабные сказали бы, что они не имели права в печати раскрывать всю истину, которую не должна была знать Россия и тем более ее враги. Но истина была завуалирована так прозрачно и так запутанно, противоречиво, что сколько-нибудь разбирающийся в хитросплетениях штабного языка не мог не разуметь, что произошло что-то весьма печальное. Виновные в «случайности» были наказаны. Но в армии настойчиво утверждали, что в постигшем несчастье очень виновна была и Ставка, бросившая не готовую к бою армию генерала Самсонова, не принявшая нужных предупредительных мер и не давшая нужных указаний. Но «у сильного всегда бессильный виноват»...
В конце же концов главная причина крылась в плохом подборе и составе командного состава армии. Если бы в Ставке на местах Янушкевича и Данилова сидели генералы М.В. Алексеев и Н.Н. Головин; если бы Северным фронтом командовал не Жилинский, а Брусилов; если бы вместо непригодных для боя генерала Артамонова. Кондратовича и Благовещенского их корпусами командовали доблестные генералы, то, наверное, Россия не пережила бы страшной и позорной сольдаусской катастрофы. Но у нас не позаботились даже о подборе доброго корпусного командира для любимой царем, служившей опорой для трона гвардии; ею командовал сначала безответственный и, конечно, не подготовленный к командованию великий князь Павел Александрович, а потом генерал-адъютант В. Безобразов по прозвищу Воевода. Внешний вид его соответствовал такому прозвищу; огромного роста, тучный, всегда важный, всегда окруженный огромной свитой, своим наружным видом он мог производить большое впечатление. Это был воспитанный, благородный,
364
рыцарски относившийся к людям человек, но у него не хватало рыцарства сознаться в полной своей бездарности и совершенной негодности к командованию. Благодаря его трудам и гению гвардия была растрепана до последней степени, и, кажется, больше гвардейцев погибло в непроходимых топких болотах, куда направлял их рыцарь-командир, чем в открытом бою.
С тою же легкостью, с какою Безобразовы, Артамоновы и другие подобные, которым не было числа, назначались на должности начальников дивизий, командиров корпусов и даже командующих армиями, через год после сольдаусского скандала царь назначил самого себя на должность Верховного главнокомандующего, как будто от кандидата на эту самую высокую в армии должность не требовалась ни соответствующая подготовка, ни опыт, ни специальные дарования крупного военачальника. Опыт Русско-японской войны, проигранной вследствие бездарности полководцев, не научил нужному ни царя, ни его военных сотрудников. Вспоминая, с какою внимательностью и осторожностью я относился к выбору священников для полков и госпиталей, я удивляюсь, что так поверхностно могли относиться к выбору высших военных начальников, которым потом вручались десятки тысяч человеческих жизней. Страшно вспоминать о такой халатности.
Но ведь это наблюдалось не только в армии, но и во всей России. Князьям, графам и другим родовитым особам был открыт путь к почестям высшего звания. Тут могли преуспевать и явно бездарные. Занимал же должность начальника Военной академии, а потом варшавского генерал-губернатора князь П.Н. Енгалычев. Кажется, все российские губернаторы были из родовитых. А сколько между ними было бездарностей! Знавших же российскую народную жизнь с ее нуждами и недугами, что, казалось бы, прежде всего требовалось от начальников губерний, — такие губернаторы были редкими единицами.
Нечто подобное быстро умножалось и в церковном ведомстве. Там все более распространялась своя аристократия —ученое монашество. Клятвенно обязывавшееся при своем пострижении быть смиренными, не искать земных благ, всем служить, не ища чужих услуг, оно захватило не только все архиерейские места, но и почти все начальственные должности в духовно-учебном ведомстве. С этим можно было бы мириться, если бы это «ученое» монашество, вернее, привилегированная каста, было составлено из действительно ученых, способных, чистых, достойных людей, которые как бы Самим Богом были отмечены для преимущественного служения Церкви. Но в последние годы ряды «ученого» монашества, все увеличивавшиеся числом своих членов, все более оскудевали их талантами и добродетелями. «Ученое» монашество, перестав быть действительно ученым, стало «прибежищем
365
заяцем», привлекавшим разных карьеристов, стяжателей, искавших легкой наживы путем преступной сделки с своей совестью, принятия монашества без всякого влечения к нему. Появление на российской государственной сцене Распутина, прежде всего церковным делам уделявшего свое внимание, составило особую эру в истории ученого монашества.
С появлением Распутина не личные добродетели, знания, административный талант, а прежде всего близость к Распутину, приятельство с ним стали обеспечивать ученому монаху блестящую карьеру. Архиепископ Питирим (Окнов) мог бы и окончить дни свои на захудалой Владикавказской кафедре, а, сдружившись с Распутиным, он быстро возлез на первую в Церкви Российской Петроградскую митрополичью кафедру. Для семинариста по образованию, превратившегося в одряхлевшего ребенка, архиепископа Макария и Томская архиерейская кафедра становилась непосильной, а Распутин посадил его на кафедру знаменитейших московских митрополитов Платона, Филарета, Макария, Иоанникия. И много было других подобных, хоть и не столь ярких примеров. Дело обделывалось просто: Распутин внушал царице и царю, царь или царица приказывали обер-прокурору, обер-прокурор предлагал Синоду. В назначении же митрополитов Синод не принимал никакого участия — это была прерогатива царской власти. В ту пору Русскою Церковью управлял не Святейший Синод и не обер-прокурор Святейшего Синода, а пресловутый, злополучный для России, и для Церкви, и для трона «старец» Григорий, «друг» царицы и царя. О роли Святейшего Синода, епископата, духовенства в это несчастное время будет сказано дальше.
XVII. Организация управления военным духовенством действующей армии. Назначения. Новые должности. Духовная работа в армии
В мирное время ведомство протопресвитера военного и морского духовенства состояло приблизительно из 730 священников, 150 диаконов и нескольких десятков псаломщиков. С началом военных действий число священников с каждым днем возрастало. В 1916 г. число военных и морских священников доходило до 5 тысяч человек. Формировались новые полки, госпиталя, запасные батальоны, санитарные поезда и иные военные учреждения, к которым назначались священники. Выбывшие по болезни или ранениям продолжали числиться в ведомстве, но на их места определялись другие. Работа протопресвитера, назначавшего и увольнявшего священников, сносившегося с архиереями, из епархий которых брались кандидаты для замещения свя-
366
щеннических мест в армии, во время войны увеличивалась до непосильной для одного человека степени.
По новому высочайше утвержденному положению в помощь протопресвитеру на театре военных действий учреждались должности главных священников при штабах главнокомандующих фронтами. При штабе Верховного главнокомандующего главного священника не полагалось. Государь исправил этот пробел в первый же день войны, повелев самому протопресвитеру состоять при Верховном главнокомандующем. По положению ближайшим военным начальником главного священника считался дежурный генерал штаба фронта. На этой почве у меня произошло маленькое, не имевшее никаких продолжений и последствий недоразумение с дежурным генералом Ставки Верховного Петром Константиновичем Кондзеровским, большим, честным и разумным работником, очень добрым, религиозным человеком. Он вообразил, что я в Ставке Верховного занимаю такое же положение, как главные священники при штабах фронтов, то есть что я в известном отношении подчинен ему. Он упустил из виду, что я состоял не при штабе, а при самом Верховном, и по рангу своей должности был выше его. После одной из воскресных литургий генерал Кондзеровский обратился к ктитору церкви штаба Верховного; «Передайте о. протопресвитеру, что мне не нравится «Херувимская», которую сегодня пели». Ктитор честно исполнил поручение генерала. «А вы передайте генералу, что мне совершенно безразлично, нравится или не нравится ему сегодняшняя «Херувимская». Певчие совсем не обязаны считаться с генеральским вкусом», — ответил я. Мой ответ был передан Кондзеровскому. Вскоре он понял, что я ни в каком отношении не подчинен ему. Последующие отношения между им и мною были отличными.
На должности главных священников Северного и Юго-Западного фронтов я избрал уже известных нам протоиереев К.Н. Богородицкого и В.Н. Грифцова. Первый обратил на себя мое внимание на съезде в июле 1914 г. своей скромностью, деликатностью, спокойной деловитостью. Второго я успел оценить как неутомимого и честного настоятеля Троицкого лейб-гвардии Измайловского полка собора, успевшего в сравнительно короткое время привести в желательный вид этот запущенный храм, и как энергичного и смелого председателя правления военного свечного завода. У о. Грифцова были свои недостатки: он мало обращал внимания на свою внешность, мог бывать грубоватым и неряшливым, дипломатическим искусством не отличался. «Но не на бал же. а на войну поедет он, — рассуждал я, — если не сможет расшаркиваться, от этого дело очень не пострадает». О. Грифцов взял в свои секретари родного своего старшего брата, своим внешним видом и обращением подтверждавше-
367
го, что недостатки о. Грифцова были семейно-наследственными. К сожалению, мой выбор обоих главных священников оказался не вполне удачным. О. Грифцов в штабе фронта не стяжал нужного авторитета, с войсками фронта и со священниками на местах их службы не имел желательного общения, слишком увлекался письменностью и брезговал живым делом. О. Богородицкий расшаркивался пред каждым генералом, пред духовенством не умел быть настойчивым в своих требованиях. После образования третьего фронта о. Богородицкий стал главным священником Западного фронта, а на должность главного священника Северного фронта, по моему представлению. Святейшим Синодом был назначен протоиерей 176-го пехотного Переволченского полка, студент семинарии Иоанн Алексеевич Покровский. Его я оценил во время Русско-японской войны, где он блестяще работал в должности священника 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка83. Разумный, скромный, спокойно деловитый и самоотверженный, он в исполнении порученной ему высокой должности опередил своих товарищей-академиков. И военные начальники, и подчиненные ему священники очень ценили его. Главным священникам фронтов я предоставил много таких прав, которых не имело в виду положение. Им, например, было дано право назначения и перемещения мобилизованных священников, некоторых сношений с епархиальными архиереями и другое. О назначениях и перемещениях они должны были лишь уведомлять меня, дабы я всегда был в курсе всего происходящего в ведомстве.
При штабе каждой армии имелся свой штабной священник. Положением на него не возлагалось никакой другой обязанности. кроме совершения богослужений в походной штабной церкви. Между тем на эти должности назначались лучшие, заслуженнейшие священники. Чтобы не оставить неиспользованным их опыт и знания, а себя не лишить их помощи, я назначил их благочинными не приписанных к дивизиям госпиталей, этапных и других пунктов, священники которых раньше находились без ближайшего наблюдения. Вообще в своих действиях я не всегда считался с высочайше утвержденным положением и. когда требовалось делом, изменял, дополнял его, докладывая лишь о своих действиях Верховному главнокомандующему.
Убедившись во время Русско-японской войны, что вышедшие на поле брани воины особенно нуждаются в хорошем богослужении, я постарался насколько возможно было лучше поставить богослужение в походной церкви Ставки. Хор был сорганизован из отборных певчих — солистов лучших петроградских хоров: Придворной капеллы. Митрополичьего и Казанского собора. Псаломщические обязанности исполнял служивший в течение нескольких лет сначала в церкви лейб-гвардии Сводного полка, а
368
потом в царскосельском Федоровском соборе Алексей Федотович Крыжко, разумный чтец, благоговейный церковнослужитель. Ныне он в сане протоиерея служит в г. Сараеве, в Сербии. Дьяконом я избрал протодиакона церкви лейб-гвардии конного полка Власова, прельстившись его величественным видом и большим голосом. Но у него оказалось много недостатков; он был слаб в грамоте, сварлив, склонен к интригам и сплетням, небрежен по службе. В 1916 г. я заменил его протодиаконом Н.А. Сперанским, уступавшим ему в силе голоса, но превосходившим его в музыкальности и образовании, добрым, воспитанным человеком. Скромный, разумный, образованный штабной священник Владимир Александрович Рыбаков не оставлял желать лучшего.
Привезенную из Петрограда походную церковь мы так и не ставили. Богослужения совершались нами в находившейся в центре Ставки церкви 2-го Железнодорожного батальона, довольно вместительной и достаточно украшенной. По счастливой случайности, она оказалась посвященною имени блаженного Николая Кочанова, юродивого. Новгородского чудотворца (27 июля по старому стилю), имя которого носил великий князь Николай Николаевич — Верховный. Объяснялась эта случайность тем, что церковь строилась в то время, когда инспектором инженерных и железнодорожных войск был великий князь Николай Николаевич Старший, так же как и его сын, нынешний Верховный, носивший имя блаженного Николая Кочанова. Барановичские железнодорожники, чтобы польстить своему высшему начальнику, посвятили отстроенную церковь его Ангелу. Но мистически настроенный Верховный увидел в этом нечто особенное и очень полюбил Барановичскую церковь.
Богослужения совершались нами ежедневно: утром литургия, вечером вечерня и утреня, в будни при пении квартета, в воскресные и праздничные дни и накануне их при пении полного нашего хора. Удивительно стройный хор, разумное и отчетливое чтение, благоговейное отношение к богослужению священнослужителей делали наши богослужения проникновенными, задушевными, для местных жителей невиданными и даже для петербуржцев привлекательными. Неудивительно, что наша церковь даже в будни охотно посещалась богомольцами, а в праздничные дни она переполнялась людьми. Конечно, богомольный Верховный с братом, а за ними и многочисленные чины штаба в воскресные и праздничные дни не пропускали богослужений.
Живя в Ставке, я с каждым днем убеждался, что Верховный все больше привязывался ко мне. Этого нельзя было не заметить по его исключительно внимательному отношению ко мне, по его заботам о моей безопасности, которые он проявлял в особенности при моих поездках по фронту, по той, наконец, откровенности, когда он делился со мной самыми секретными известиями и
369
иногда обращался ко мне за советами. Я не мог не ценить такого отношения Верховного: чрезвычайно нравились мне, кроме того, его ясный, практический ум, его высокий патриотизм, его прямолинейность и честность. Я считал великим своим долгом, в чем возможно, облегчать тяжелый и исключительно ответственный труд Верховного. Но в то же время я сознавал, что главная моя работа не при Верховном, не в церкви Ставки, для богослужений в которой имелись особые священники, и не в моей канцелярии, хоть без канцелярского дела невозможно никакое управление, а на фронте — в посещении боевых и тыловых воинских частей и учреждений, в проверке работы военных священников, в поощрении и ободрении их, в оказании им, где потребуется, нужной помощи. Была и еще одна причина, влекшая меня в боевую линию, на позиции, в окопы.
Из опыта Русско-японской войны я знал, что военному священнику, постоянно призывающему своих пасомых к самоотверженному исполнению своих обязанностей, необходимо, чтобы он сам проявлял самоотвержение и храбрость. Только тогда его слово будет действенным и служение плодотворным. Иначе ему вправе будут сказать: «Врачу, исцелися сам» (Лк. 4, 23). Когда ставши главным священником 1-й Маньчжурской армии, я потребовал от полковых священников, чтобы во время боев они посещали окопы и не смели удаляться от своих полков, по моему адресу раздались обвинения, что я не щажу своих священников, жизни их подвергаю опасностям, но евангельского обвинения никто не мог мне бросить, потому что, будучи полковым священником, я никогда не уклонялся от опасности и в одном из боев был контужен и ранен. Но как было предъявлять подобные «жестокие» требования протопресвитеру, сидевшему в своей великолепной петербургской квартире и никогда не слыхавшему ни свиста пуль, не буханья снарядов? А прежние протопресвитеры никогда не заглядывали ни в один уголок действовавших армий. Между тем сколько-нибудь разбирающемуся в задачах, цели, долге служения военного священника не могло не быть ясно, что такие требования должны быть предъявляемы. Вот и считал я себя обязанным показать своим священникам пример бесстрашного исполнения пастырских обязанностей на поле брани.
Руководство военным духовенством в то боевое время затруднялось тем обстоятельством, что армия переполнилась мобилизованными, взятыми из епархий, не знавшими духа и условий военно-духовной службы священниками. Правда, составленная съездом 1914 г. на основании моей книжки «Служение священника на войне» «Памятка для служащих на войне священников» давала полную возможность всякому новичку — полковому, госпитальному, этапному, санитарно-поездному священнику — обстоятельно ознакомиться со всеми своими обязанностями, со
370
всеми особенностями священнического служения военного времени. Но ведь еще Грибоедовым было сказано: «Законы святы, но исполнители их — лихие супостаты». Требовалась внимательная проверка: как понята священниками «Памятка», как исполняются ими определяемые в ней обязанности. Требовалось проверить не только рядовых священников, но и благочинных, и штабных священников, и главных священников фронтов. Даже и к последним у меня не было абсолютного доверия, что они как требуется исполняют свое назначение.
Я не пропускал ни одного месяца, чтобы не побывать на том или ином фронте, стараясь выбирать для своих посещений наиболее тяжелые в боевом положении пункты. Высшее военное начальство оказывало мне полное содействие в передвижении и посещении воинских частей. Добравшись обыкновенно до штаба армии, я получал автомобиль и в сопровождении офицера Генерального штаба направлялся к стоявшим на позициях полкам и артиллерийским бригадам. Так, сопутствуемый начальниками дивизий, командирами полков и, конечно, священниками, я обходил, иногда под огнем, окопы, наблюдательные пункты, беседуя с офицерами и солдатами. Где части можно было собраться в укрытом от неприятеля месте, там я совершал молебны, произносил речи. Побывавши в ряде частей, я собирал священников и с ними беседовал о прохождении ими службы, об их нуждах, о замеченных мною явлениях и недостатках. Собрания наши происходили зимою в каком-нибудь домишке при свете мерцающей свечи, а летом — чаще всего на лужайке, леском закрытой от глаз неприятеля. Я с приятнейшим чувством и теперь вспоминал об этих наших летних беседах на лоне природы при постукивании орудий.
При обходе позиций я несколько раз попадал под обстрел, в Галиции в августе 1916 г. около села Тлуста Баба — под очень сильный, что не раз угрожало моей жизни. Начальство ценило мои труды и щедро награждало меня: кроме высоких орденов Владимира 2-й степени и Александра Невского я украсился за время войны еще Георгиевскими медалями 4—й, 3-й и 2-й степени. Но не эти награды, а другое утешало меня — то, что после таких поездок я, требуя от своих священников самоотвержения, мог без стыда смотреть им в глаза.
Теперь, когда мне идет 78-й год, я удивляюсь проявлявшейся тогда мною энергии, своей выносливости: бывали ведь дни, в которые мне на открытом воздухе, на ветру, иногда зимою в мороз и стужу приходилось побывать в 10-12 частях, в каждой части отслужить молебен и сказать речь, вечером до полуночи беседовать со священниками, а на другой день с 6 часов утра начать такую же работу и продолжать ее в течение 5-6 дней. Тут физических сил было недостаточно, нужны были еще горячая любовь к своему делу и увлечение им, сознание своего долга и ответствен-
371
ности пред Богом и Родиной. Все же не было в том ничего удивительного, что я возвращался в Ставку физически утомленный, с хриплым голосом. Но я получал от своих поездок большое моральное удовлетворение. Решаюсь думать, что и польза от них была немалая как для войск, в которых я поддерживал дух, так и для духовенства, для которого мои приезды были своего рода праздниками, так и для меня самого, ибо мои поездки знакомили и сближали меня и с армией, и с подчиненными мне священниками, увеличивая в то же время мой служебный опыт. В беседах с военными начальниками и благочинными, наконец, и с самими священниками я легко осведомлялся, как какой священник исполняет свои обязанности во время боя и в промежутках между боями, в чем проявляется начальствование главных священников фронтов, какая помощь требуется для лучшего исполнения священниками своего долга. К священникам, не старавшимся ни понять своих обязанностей, ни выполнить их, прибывших на войну не для труда и самопожертвования, а для получения наград и хорошего жалованья, я был неумолимо строг, ошибавшимся прощал и исправлял их ошибки, в отношении добрых пастырей я не жалел ни ласковых слов, ни наград. Давая указания, я никогда не приказывал, а просил: старался, чтобы мои подчиненные видели во мне не начальника, а собрата, друга, и всегда стремился блюсти правду, каждому воздавая должное, невзирая на лица и положение.
Перебирая в памяти разные случаи своей протопресвитерской службы, прихожу к заключению, что я был очень строг и взыскателен, а в некоторых немногих случаях даже жесток и беспощаден. Но военно-морское духовенство милостиво оценило мою протопресвитерскую работу и мое отношение к нему. В 1917 г., когда во многих епархиях духовенство сбрасывало с архиерейских кафедр своих владык, не считаясь ни с их возрастом, ни с прежними заслугами, происходивший в июле этого года в г. Могилеве Съезд выборных представителей пятитысячного фронтового и тылового, военного и морского духовенства избрал меня своим пожизненным военно-морским протопресвитером, о чем уведомил и Святейший Синод, и председателя Совета министров. А только что прибывший с московского совещания Болгарский экзарх Стефан сообщил мне, что он был потрясен теми трогательными хвалебными отзывами о моей протопресвитерской деятельности, которые ему в эту поездку довелось услышать от многих российских архиереев и в особенности от служивших под моим начетом священников. Получаемые мною от времени до времени от своих бывших сослуживцев письма также свидетельствуют, что злом не поминают меня мои бывшие подчиненные.
Пожалуй, чаще всего и более всего влетало от меня главным священникам и прежде всего о. В.Н. Грифцову, которого я очень
372
ценил за его работу предвоенного времени и который оказался не на высоте в положении главного священника. Не сумел он завоевать себе нужное положение в штабе, очень увлекся письменной, канцелярской работой в ущерб живому делу, а его неряшливость была анекдотичной. Расскажу один случай.
Кажется, летом 1915 г. я заехал к нему в г. Брест-Литовск — там тогда помещалась штаб-квартира главнокомандующего Юго-Западным фронтом. О. Грифцов жил в невзрачной, довольно грязненькой лачуге, помещаясь с своим братом-секретарем в небольшой убого меблированной комнате. Побеседовав о делах, я обратился к нему: «У вас же найдется для меня обед?» Я был уверен, что главный священник, как это водилось, питается в штабной столовой. «Да, да, — засуетился Грифцов и обратился к брату: — Иди позаботься, чтобы для нас были оставлены там три места». Секретарь немедленно ушел, а через час и мы отправились в столовую. Грифцов привел меня к стоявшей на окраине города грязненькой халупе. Из крохотных грязных сеней мы влезли в грязное помещение, уставленное грязными же непокрытыми столами, за которыми сидели в убогих, запачканных краской, известью костюмах рабочие. «Вы здесь всегда обедаете? Недостаток средств заставляет вас тут столоваться?» — с удивлением спросил я. Грифцов промолчал. Поданные нам блюда соответствовали столовой: вместо супа была подана какая-то бурда, на второе нас угостили чем-то вроде каши. Секретарь скрасил обед купленной по пути в столовую коробкой каких-то рыбных консервов. Я постарался объяснить о. Грифцову, что из-за этой одной столовой он может стать притчей во языцех в штабном офицерском кругу. И после при каждой новой встрече спрашивал его: «А вы продолжаете столоваться в знаменитом главно-священническом ресторане?» До войны я убедился, что о. Грифцов был бережливым хозяином: он сумел обновить свой собор, сумел возродить военно-свечной завод, но высокая административная должность не давалась ему. Он и на войне успел проявить свои хозяйственные способности, убедив меня начать сначала сбор пожертвований, а потом устройство в Старицком уезде Тверской губернии около военно-свечного завода поселка для ушедших в отставку военных и морских священников и инвалидного дома для раненых и увечных воинов. Духовенство фронта и тыла откликнулось на это начинание: все священники обязались вносить ежемесячную лепту по три рубля и собирать пожертвования в своих частях. Скоро у нас образовалась сумма, давщая нам возможность приступить к осуществлению нашего проекта и, кроме того, приобрести в Ессентуках три приличных домика с полным инвентарем, не исключая посуды и самоваров, и небольшой с фруктовым садом усадьбой для нуждавшихся в ессентукском лечении наших священников. Когда я сообщил обо всем этом на-
373
чальнику штаба генералу М.В. Алексееву, он посоветовал мне обратиться ко всем начальникам войсковых частей армии с просьбой отчислить на наше дело некую лепту из хозяйственных сумм, подлежащих по окончании войны сдаче в казну. «Они располагают колоссальными суммами и засыплют вас деньгами. А для верности попросите государя, чтобы он разрешил вам от его имени обратиться к ним», — сказал генерал Алексеев. Я послушался его совета, попросив государя разрешить мне в конце войны побеспокоить начальников. «Можете теперь же обратиться к ним. Сообщите, что я очень одобряю ваше начинание и надеюсь, что начальники откликнутся на него», — ответил мне государь. Генерал Алексеев уверял меня, что в моих руках окажутся десятки миллионов, а я уже строил планы, что в Военно-духовном ведомстве будет не только поселок с инвалидным домом, но и своя специальная семинария для подготовки военно-морских священников, своя типография и многое другое, необходимое для процветания ведомства. Революция разбила все наши планы. Что сталось с о. Грифцовым, виновником этого много обещавшего начинания, не знаю. Последнее известие о нем: в 1918 г. его видели пришедшим в Курск в рабочем костюме, с мешком и топором за плечами. Бывал он неуклюжим, был неряшливым, но всегда оставался честным и неподкупным человеком...
Когда я вспоминаю о войне 1914-1917 гг., о главных священниках фронтов, мне всегда приходит на ум протоиерей Сергий Алексеевич Голубев. Любил я его за его остроумие, веселость, отзывчивость, не забывал его доброго отношения ко мне на Русско-японской войне, но я всегда отделял личные приятельские отношения от служебного дела. Когда в 1911 г. мой родной брат Василий, только что окончивший курс Санкт-Петербургской духовной академии, обратился ко мне с просьбой дать ему место военного священника — он был священником, я отказал ему, хотя он был недурным священником. От Русско-японской войны у меня осталось впечатление об о. Голубеве как о веселом собеседнике, даже приятном человеке, но неудачном главном священнике. И доселе кажется мне, что гораздо менее он интересовался пастырским делом на поле брани, чем связями с влиятельными генералами и орденами, что ему очень удавалось. Его неразлучными приятелями на войне были дежурный генерал А.А. Благовещенский и начальник судной части армии генерал Витольд Корейво, с которыми он ежедневно обедал и ужинал, всякий раз, как рассказывали, с доброй выпивкой. За время войны он успел украситься несколькими орденами, митрой, которая тогда считалась чрезвычайно редкой наградой, и даже наперсным крестом на георгиевской ленте — боевой наградой, хотя ни в каких боях он не участвовал и никаких подвигов на поле брани не совершал.
374
Когда была объявлена Великая война, он обратился ко мне с просьбой назначить его главным священником одного из фронтов. Я отклонил его просьбу, что, конечно, обидело его. После, в 1915 г., я предложил ему место штабного священника при одной из армий. Он согласился. Но прибыв в Барановичи и вылезая из вагона, он оступился и упал на спину. От этого падения, повредившего спинной мозг, приключилась какая-то болезнь, в 1917 г. сведшая его в могилу. Умер он 56 лет от роду. Мог бы еще долго жить.
В рядах духовенства действовавшей армии кадровые священники не были многочисленны, и число их все уменьшалось по мере того, как выбывали из строя убитые, раненые, тяжко заболевшие. В несколько раз превосходило их число мобилизованных, то есть назначенных из епархий на время войны.
Назначение в армию этих последних производилось таким образом. Я писал в Святейший Синод, что для армии потребуется, скажем, сто священников, и просил указать мне епархии, из которых могут быть взяты эти священники. Синод извещал меня, что им приказано таким-то преосвященным наметить для армии столько-то священников, которых я могу вызвать в любое время. Так как вскоре обнаружилось, что некоторые епархии пользовались случаем, чтобы сплавить в армию весь негодный материал, то я, обращаясь к Святейшему Синоду с просьбою о назначении кандидатов для служения в армии, начал присоединять другую просьбу: чтобы епархиальные преосвященные, избрав кандидатов, сообщали мне обстоятельные сведения об их возрасте, образовании, моральных качествах и прохождении ими в епархиях службы, дабы, прежде чем назначить их в армию, я мог убедиться в годности их для служения воинству на поле брани. К концу войны, таким образом, получилось, что в моей «духовной армии» были священники решительно из всех российских епархий. После многократных во время поездок по фронту наблюдений за работой мобилизованных священников я пришел к следующим заключениям.
Главнейшую часть пастырского служения составляет совершение богослужений. Чтобы отвечать своей цели, быть действенным, богослужение должно совершаться благоговейно, отчетливо, разумно, художественно. Голое, движения, весь вид священника должны отражать смысл и содержание нашего возвышенного богослужения. Совершение богослужений на фронте редко когда удовлетворяло, а иногда возмущало меня. Не было единства в образе совершения богослужений. Каждый священник служил по-своему; один по-полтавски, другой по-тобольски, третий по-кавказски: один без нужды растягивал богослужение, другой бестолково сокращал его; одни были слишком анемичны и в движениях, и в голосе, другие играли, как арти-
375
сты, и так далее. То же и в проповеди — каждый проповедовал по своей манере, — ив обращении с начальством, с сослуживцами, с нижними чинами, когда некоторые усваивали несоответствующие тон и манеры, не отвечающие достоинству пастыря. Все это приводило меня к двум другим заключениям. 1) Обязанные подготовлять достойных, добрых кандидатов священства, наши российские духовные семинарии не выполняли как следует своего назначения, не развивая в своих питомцах способностей проникновенно и красиво совершать богослужения, разумно и внушительно проповедовать, уметь держать себя и в крестьянской среде, и в культурном обществе, и даже не давали им необходимых в пастырском служении знаний, например знания церковного устава, совершенного понимания славянского языка, на котором совершались все церковные службы, и так далее. В общем, духовные семинарии давали своим питомцам хорошее умственное развитие и совсем недостаточную пастырскую подготовку. 2) Епархиальные архиереи и их доверенные трудники — благочинные не заботились о том, чтобы подчиненные им священнослужители совершенствовались на службе, продолжая учиться, обогащать себя новыми знаниями, дополнять недостаточные старые, преуспевать в годности к пастырскому служению. Я знал двух-трех архиереев, которые серьезно относились к совершенствованию своих священников, и, наоборот, знал множество архиереев, которые упивались своим архиерейским величием, а на священников не обращали никакого внимания, не интересуясь ни их бытом, ни их работой. Благочинные... Они были духовными чиновниками, сподручными архиерея и консистории канцеляристами. Не переводились между ними и такие, что держались правила: ущедри мя и прославлю тя. Ублажавшие таких благочинных приношениями негодные пастыри сходили за добрых и украшались наградами. Воспитанием подчиненных священников благочинные не занимались, ошибок их не исправляли, недостающее у них не восполняли. Среди благочинных много было добрых канцеляристов, усердных слуг архиерейских, немало было и старательных доносчиков, спешивших осведомить архиерея о всех священнических прегрешениях, и редко-редко встречались между ними широко и глубоко понимавшие свой благочиннический долг быть наставниками, братьями, друзьями своих священников, помогать им и в разумении, и в исполнении их высокого пастырского служения, меньше карать, а больше научать и исправлять их. А между архиереями встречались и такие, что любили слушать о недостатках и грехах подчиненных им священников, чтобы потом ущемлять виновных, и совершенно не интересовались священническими добродетелями и успехами. В этом отношении не выходит из моей памяти архиепископ Серафим (Ме-
376
щеряков)84, человек образованный, незлой, весьма гостеприимный, могший быть интересным собеседником и всегда бывавший радушным хозяином. Но его уши как будто так были устроены, что они могли воспринимать только плохое, греховное, скандальное из бытовой и служебной жизни его священников, а самые лучшие, талантливые, продуктивные пастыри оставались вне поля его зрения.
Переучивать собравшихся отовсюду на театре военных действий священников нелегко было. Все же составленная на съезде «Памятка» и мои беседы при поездках по фронту кое в чем помогали им право править свое дело. Во всяком случае, они не могли оправдываться незнанием, что от них требуется то-то и то-то: так-то служить, так-то проповедовать, так-то обращаться со своими пасомыми, там-то быть и то-то делать во время боя и прочее.
При всех недочетах, какие приносили с собою прибывавшие на войну епархиальные священники, они представляли ценный материал, о котором лишь можно было жалеть, что опытная, умелая рука не постаралась, как требовалось, обработать его. Они были патриотичны, — патриотизм был историческою, традиционною чертою русского духовенства, самоотверженны, выносливы и легко поддавались доброму влиянию. Многие из них заслужили благодарную память в армии, многие из них украсились увечьями и ранами, некоторые вместе с воинами сложили свои головы на поле брани, многие вместе с ними разделили тяготы плена. Для военного священника плен не мог считаться позорным, так как он доказывал, что священник во время боя находился не вдали от своей части, а при ней, многие за выдающиеся подвиги были награждены золотыми наперсными крестами на георгиевской ленте, а некоторые даже самой высокой и редкой наградой — офицерским крестом Святого Георгия 4-й степени, который до Великой войны за все время существования военного духовенства имели только пять священников85.
Оценивая деятельность военного духовенства в ту войну, необходимо принимать во внимание положение, в котором находилась тогда армия. Ни для кого не секрет, что армия наша вышла на ту войну не только с не отвечавшими в нередких случаях своему назначению военачальниками, но и достаточно безоружной. Военное министерство, и в частности Главное артиллерийское управление, проявили великую непредусмотрительность, если не сказать небрежность, беспечность, преступность в отношении обеспечения армии снаряжением и боевыми запасами для Великой войны, к которой они готовились. Опыт минувшей Русско-японской войны не научил ничему. И теперь, как тогда, многие думали, что война не продлится более трех месяцев; и теперь, как и тогда, не учли возможного расхода патро-
377
нов и снарядов для неминуемых великих боев. Результат скоро заявил о себе. Уже в конце 1914 г. чувствовался недостаток и в снарядах, и в патронах, а летом 1915 г. не хватало и ружей. Многие солдаты были вооружены дубьем вместо ружей, войска отбивались камнями и палками, когда враг засыпал их снарядами и пулями. Надо было удивляться, что наши войска в это страшное время продолжали сохранять бодрый дух и отбивались от неприятеля. Могу с уверенностью сказать, что этому в значительной степени содействовало и военное духовенство, не перестававшее подавать пример жертвенности и всеми способами вдохновлявшее своих пасомых — воинов. И неприятель, и наше высшее военное начальство оценили работу военного духовенства. В немецких газетах не раз сообщалось о важной роли военного русского духовенства, какую оно играло в поднятии духа нашей армии. Великий князь Николай Николаевич несколько раз в присутствии начальника штаба и других генералов говорил мне: «Мы должны в ноги кланяться вашему духовенству за его работу на войне». Подобное же я несколько раз слышал и от государя. «От всех представляющихся мне военных начальников я слышу самые лучшие отзывы о работе военного духовенства», — два или три раза говорил он мне.
Не для самохвальства, а для установления истины решаюсь я тут высказать свое предположение, что некая доля есть и моей заслуги в похвальной работе подчиненных мне священников на войне. Конечно, во время своих (хоть и очень частых) поездок по фронту я не мог увидеть всех священников, каждого проверить и каждого наставить. Но я свои устные беседы дополнял письменными приказами-разъяснениями разных сторон и положений пастырской службы на поле брани. Вот, например, одно из моих разъяснений для госпитальных священников, сделанное в начале войны.
Как сказано ниже, некоторые госпитальные священники на Русско-японской войне, ссылаясь на высочайше утвержденное положение, заявляли, что они должны исповедовать умирающих, хоронить умерших и только. И главный священник о. С.А. Голубев внушал мне, что в военных госпиталях, по положению, не должно быть никаких антиминсов, никаких литургий. Я же в самом начале Великой войны дал такое разъяснение: «Госпитальный священник обязан служить чинам и больным госпиталя всеми доступными для него средствами. В частности, он должен:
1) неопустительно совершать богослужение в положенные для этого Церковью дни; при невозможности приспособить помещение под церковь священник может совершать богослужение на госпитальном дворе, в госпитальных бараках, палатках и тому подобных местах: литургия должна совершаться возможно ча-
378
ще; после литургии священник с крестом и антидором обходит палаты больных; забота об организации хора лежит на обязанности священника:
2) ежедневно обходит священник палаты больных, беседуя (без надоедливости) с больными и узнавая от сестер милосердия и больных (осторожно), нет ли нуждающихся в напутствии Святыми Тайнами; изъявивших желание приобщиться он причащает Тела и Крови Христовой;
3) священник госпитальной церкви пользуется всяким случаем, чтобы подать отраду и утешение больным и раненым; случаев таких может быть множество: написать за больного письмо на родину, снабдить выздоравливающего книжкой для чтения, организовать чтение в палате выздоравливающих, поручив это более грамотному чину из выздоравливающих, утешить умирающего, что о нем будет послана весточка на родину, и прочее. Если госпитальный священник сумеет уврачевать и телесную рану больного, перевязав ее, когда не достает медицинских рук, он также выполнит свой прямой долг.
4) не получившим полного богословского образования иеромонахам и священникам в особенности рекомендуется не вступать в богословские и научные споры с врачами и офицерами. Подобные споры могут только уронить их. Их долг — с любовию, кротостью и смирением неустанно служить всем и каждому, и только таким служением они могут снискать уважение у своих сослуживцев»86.
Последний, 4-й пункт был вызван печальными случаями, что малообразованные, не по разуму ревностные пастыри, в особенности иеромонахи, ввязывались в ученые споры или пускались обличать казавшихся им неверующими докторов и офицеров, а те, чтобы поразвлечься, ловко высмеивали их. Старые моряки могли бы рассказать множество забавных, хоть и нерадостных курьезов о своих судовых иеромонахах.
Подобными разъяснениями сопровождались почти все мои поездки по фронту. В них я отражал замеченные мною недочеты и упущения в нашей пастырской службе военного времени, нуждавшиеся в исправлении. Из них за три года войны составилась целая книжка, которая могла послужить полезным руководством для будущего времени.
Не ограничиваясь такими разъяснениями, я от времени до времени приглашал главных священников фронтов к себе в Ставку и обсуждал наиболее важные возникавшие вопросы, давал указания, знакомил со своими взглядами и предположениями — словом, делился своим опытом, чтобы и у них позаимствовать их опыт и объединить их в действовании. О выработанных нами на таких совещаниях мерах главные священники немедленно осведомляли благочинных, а те — священников. Таким об-
379
разом, у нас дело не оставалось в застое, а развивалось, росло применительно к нараставшим нуждам и запросам.
В описываемую войну обнаружилось явление, не имевшее прецедентов в истории военного и морского духовенства. Как только началась война, первый викарий Московской епархии епископ Трифон, в миру князь Борис Туркестанов (род. 29 ноября 1861 г.), заявил о своем желании исполнять священнические обязанности в армии. Может быть, кровь воинственных предков заговорила в нем. Я назначил его штабным священником 7-й армии. Потом заявил о своем желании служить во флоте епископ Таврический Димитрий, в миру князь Давид Абашидзе (род. 12 октября 1867 г.). Что епископ Трифон оставил епархию, в этом ущерба могло и не быть: у Московского митрополита оставалось четыре викария. Но что епархиальный епископ оставлял свою ответственную епархию и бросался служить на корабле, это мне казалось и легкомысленным, и подозрительным: у этих воинственных кавказцев, думал я, тут дело обстоит непросто, и, по всей вероятности, увлекают их предстоящие военные награды. Все же я назначил епископа Димитрия на один из черноморских военных кораблей для выполнения обязанностей судового священника. Оба эти назначения я считал ненормальными, для меня стеснительными: я не забывал, что мой сан священнический, и вдруг моими подчиненными оказываются архиереи! Но от меня требовал их назначения Святейший Синод с ведома, конечно, царя. Идти против Синода мне не хотелось. Оба они вскоре украсились: епископ Димитрий по представлению командовавшего Черноморским флотом, а епископ Трифон по представлению командовавшего 7-й армией — панагиями на георгиевской ленте. 6 мая 1915 г. епископ Димитрий, кроме того, был возведен в сан архиепископа. Правду сказать, никаких особых подвигов они не совершили и прав на такую награду не имели, но военные и морские начальники рассуждали иначе: как же было не наградить владык, проявивших такое беспримерное смирение!.. Впрочем, состоя в подчинении мне, они проявляли достаточно смирения, особенно епископ Димитрий, сносившийся со мной не иначе, как рапортами и подписывавшийся «Ваш смиренный послушник». Однако это не помешало епископу Димитрию в 1918 г. в печати доказывать, что положение протопресвитера было неканоничным, что его нужно было заменить епископом. А проситься в подчинение протопресвитеру и считать себя его смиренным послушником епископ Димитрий в 1914-1915 гг. считал каноничным...
Летом 1915 г. я получил указ Святейшего Синода, который предлагал мне дать священническое место в армии архиепископу Пензенскому Владимиру, в миру Всеволоду Пугяте (род. 2 октября 1869 г.), бывшему офицеру лейб-гвардии Преображенско-
380
го полка, в 1911 г. претендовавшему на место протопресвитера военного и морского духовенства. Тут уже пахло дело настоящей авантюрой. Я хорошо знал владыку Владимира как совершенно неуравновешенного человека и умственно, и морально. Воспользовавшись пребыванием государя в Ставке, я решил положить конец таким архиерейским претензиям. Испросив чрез начальника походной царской канцелярии князя Владимира Николаевича Орлова аудиенцию, я доложил государю, что указ Святейшего Синода поставил меня в крайне затруднительное положение: «Для замещения вакантных священнических мест в армии и флоте у меня достаточно кандидатов-священников; по поручению Синода я уже имею двух архиереев: одного в армии, другого во флоте. Теперь Синод требует, чтобы я дал место и третьему; хорошие архиереи нужны в настоящее трудное время для епархий, а плохие не нужны для армии и флота: архиепископа Владимира я считаю ненужным для армии...» «Я согласен с вами. Напишите Синоду, что вы не имеете возможности устроить архиепископа Владимира в армии», — сказал государь. Так я и ответил Синоду, что не имею подходящего места для архиепископа Владимира. В 1918 г. Владимир печально кончил свою архиерейскую карьеру: он был не только лишен сана, но и отлучен от Церкви. После моего ответа Синод не предлагал мне архиереев для служения в армии и флоте.
Заканчивая главу о работе военного и морского духовенства в Великую войну, я в доказательство его самоотверженной деятельности в эту войну приведу некоторые статистические данные. Пусть они будут не абсолютно точные, но и при своей приблизительной точности, за которую я ручаюсь, они весьма показательны и убедительны.
В Русско-японской войне, которая тоже была нелегкой, погиб только один военный священник (25-й пехотной дивизии) и то во время ночной тревоги от русской пули, а в Великую войну среди убитых и умерших от ран было около 30 военных священников87. Раненых и контуженных в Русско-японскую войну было не более 10 священников, в Великую войну — более 400.
В плен попало в Великую войну более 100 военных священников. А я уже говорил, что для священника плен не позор. Если священник попадал в плен, это означало, что он не сидел в тылу, а находился на боевой линии своей части.
Во всей предшествовавшей истории военного и морского духовенства было всего пять случаев награждения священников орденом Святого Георгия 4-й степени. В Великую войну 13 или 14 священников были награждены этим выеоким орденом.
Чем же ответили многострадальному фронтовому духовенству Родина, Церковь? Когда наступила революция, на фронте начались издевательства над офицерами и над священниками.
381
Спасаясь от бесплодной смерти, многие священники остриглись, обрились, переоделись в солдатское платье и в таком виде отправились к родным очагам. Многие архиереи, и не какие-то, а очень видные, заслуженные, прославленные, нелюбезно встретили их. Киевский митрополит Антоний (Храповицкий) с насмешкой и брезгливостью относился к «стриженым и бритым» военным священникам. Самому доблестному из всех военных священников, прославившемуся и на русском, и на французском фронтах, потерявшему кисть левой руки, украшенному за свои исключительные подвиги всеми орденами, кончая орденом Владимира 3-й степени с мечами, крестом наперсным на георгиевской ленте и даже орденом Святого Георгия 4-й степени и орденом Почетного Легиона, своей беспримерной храбростью и самоотверженностью удивлявшему французов, протоиерею Сергию Михайловичу Соколовскому было отказано в должности псаломщика при парижской церкви на Рю-Дарю — ему предпочтен был совсем не мудрый и в церковной, и в гражданской грамоте, но искусный в шитье священнического платья диакон, кажется, бывший простой солдат. Глубоко оскорбленный, болезненно самолюбивый, о. Соколовский начал резко выражать свой протест, за который митрополитом Евлогием и премудрым Карловацким Синодом был лишен сана. После этого он начал искать защиты на стороне — в Парижской Советской легации, у французов как кавалер французского ордена Почетного Региона и, наконец, перешел в католичество, хоть, как он сам сообщал мне в Париже, ничто в мире не заставит его быть в душе нерусским и неправославным. В 1918 г. я получил заявление, подписанное многими бывшими военными священниками. «От наших архиереев, — писали они. — мы терпим гораздо больше, чем терпели на фронте от немцев и австрийцев». Я передал это заявление Патриарху Тихону, сказав ему: «Раньше я сумел бы помочь им. теперь я бессилен. Уповаю, что вы этих пастырей, доблестно исполнивших на фронте свой долг, не оставите без своей защиты». Патриарх Тихон был добрый, справедливый и рассудительный человек. Думаю, что моя просьба была принята им во внимание.
Немногие принадлежавшие к моей многочисленной духовной рати пастыри продолжают священнодействовать в Советской России. От некоторых из них я получал трогательные письма, чрезвычайно утешавшие меня своей сердечностью и благодарными воспоминаниями о нашей совместной службе. Гораздо больше таких, которые, рассеявшись по всему свету, трудятся в беженских приходах. Огромное же большинство — одни мирно, другие в страданиях — отошли в иной мир, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий, но жизнь бесконечная и правда неподкупная.
382
Одним из крупных церковных явлений, связанных с Великой войной, было предпринятое Святейшим Синодом и производившееся Волынским архиепископом Евлогием воссоединение галицийских униатов. С ним в сильной степени приходилось считаться мне и военному фронтовому духовенству. Этому событию я посвящу следующую главу.
XVIII. Опыт воссоединения галицийских униатов с Русской Православной Церковью
Как только в августе 1914 г. наши войска вступили в Галицию, Святейший Синод поспешил приступить к воссоединению галицийских униатов, о котором мечтали многие русские православные люди.
Галичина была исконно русской и исконно православной страной. Святой князь Владимир просветил ее. До 1340 г. она составляла нераздельную часть Русского государства. В этом году она попала под власть Польши, а в 1772 г. была присоединена к Австрии. Поддерживаемые Римом Польша и Австрия, чтобы окончательно оторвать Галичину от России, с которой ее продолжала более всего связывать православная вера, всеми способами старались поддерживать распространение унии. Почти за шесть веков они достигли больших результатов. По официальной статистике, в 1910 г. в Галичине числилось 3 миллиона 378 тысяч 451 униат, а православных оставалось всего 2845 человек. В церковном отношении галицийских униатов возглавлял Львовский митрополит, носивший титул митрополита Галицкого, архиепископа Львовского и епископа Каменец-Подольского. Ему подчинялись два епископа-суффрагана — Перемышльский и Станиславовский. В Львовской епархии насчитывалось 5 округов, 54 деканата (благочиния), 752 прихода, 948 священников и 21 иеромонах-базилианин, 1245 церквей и около 1 миллиона 457 тысяч душ паствы. В Перемышльской епархии насчитывалось 40 деканатов, 688 приходов, 848 священников (в том числе 651 женатый и 129 вдовцов), 7 базилианских монастырей с 133 монахами и 1 миллион 131 тысяча 296 душ паствы. В Станиславовской епархии в 1910 г. насчитывалось 21 деканат, 433 самостоятельных и 296 приписных церкви, 529 приходских священников, 13 иеромонахов, 11 женских монастырей и 950 тысяч душ паствы.
Галицийские епархии возглавлял митрополит Андрей Шептицкий, природный поляк, большой администрато; Перемышльскою епархиею управлял епископ Константин Чехович, а Станиславовскою — Григорий Хомишин. Все ксендзы и униат-
383
ские священники в Галиции были с высшим образованием88. Руководимое талантливейшим начальником, галицийское униатское духовенство представляло большую враждебную православию силу. Повести борьбу с такой силой Святейший Синод поручил Волынскому архиепископу Евлогию (в миру Василию Георгиевскому, род. 10 апреля 1868 г.).
Архиепископ Евлогий полупил значительную известность в церковных кругах как член Государственной Думы, ревностно защищавший Холмское православное и русское дело. К архиепископу Евлогию, уроженцу тульской губернии, весьма приложима была сложившаяся о туляках поговорка: «Хорош заяц, но беляк: хорош парень, но туляк»89. Очень неглупый, прогрессивного образа мыслей, весьма доступный, ласковый и приветливый, общительный и одинаковый в общении со всеми, он многих привлекал к себе своей простотою, необычною для архиереев старого времени, своей невзыскательностью, своей отзывчивостью на церковные нужды и запросы нашего времени, своей, так сказать, церковной разумной прогрессивностью. Но часто общавшиеся с ним указывали и на многие его недостатки: он бывал чрезвычайно упрям, подозрителен, злопамятен, неискренен. Мне лично бросалась в глаза его неряшливость в отношении не только собственных костюмов, но и его церковных одеяний. Я никогда не был щеголем, но меня коробило, когда у священника, а тем более у архиерея при богослужении грязноватый подрясник оказывался длиннее подризника, когда заношенный воротник рубашки вылезал из-под подрясника и даже когда я видел священнослужителя в засаленных, грязных рясе и подряснике. Я привык к тому изяществу, которое я наблюдал в Петербурге при архиерейских и особенно при митрополичьих служениях, при которых все было предусмотрено, налажено и ничто не резало ни слуха, ни глаза. Увидев в парижском храме на Рю-Дарю вошедшего для совершения литургии митрополита Евлогия в заношенной, волочившейся по полу рясе, а потом в коротком подризнике, из-под которого вершка на два спускался грязный же подрясник, я был возмущен не столько самим митрополитом Евлогием, сколько окружавшими его, которые должны были заботиться об его благолепии.
После я убедился, что митрополит Евлогий своего рода небрежность иногда проявлял и в отношении серьезнейших дел. Правда, ему надо приписать многие заслуги: им приобретено и устроено на Рю-де-Криме, 93, Сергиевское подворье с богословским институтом; им чрез устройство многочисленных православных церквей распространено православие по всей Франции; он мужественно принимал и сносил все нападки на него за богословский институт, за участие в экуменическом движении. Но отделить тут, что. собственно, принадлежало ему и что исхо-
384
дило от его советников, весьма трудно. Надо, однако, не забывать того, что во Франции, и особенно в Париже, был сгруппирован цвет и мозг нашей эмиграции, что близкими к митрополиту Евлогию людьми были бывший председатель Совета министров граф Владимир Николаевич Коковцев, бывшие обер-прокуроры Святейшего Синода Петр Петрович Извольский и Антон Владимирович Карташов, многие другие выдающиеся профессора, государственные и общественные деятели, оставшись без которых митрополит Евлогий способен был делать роковые ошибки. Я, например, считаю его весьма виновным в скандальной истории Карловацкого раскола. Митрополиту Евлогию Патриархом Тихоном были даны и его преемниками подтверждены все права управления эмигрантскими церквами и их духовенством. Но митрополит Евлогий, попав в Белград, начал расшаркиваться пред своим бывшим учителем митрополитом Антонием (Храповицким). отказался от многих своих прав, а когда заметил, что карловцы желают совсем подчинить его себе, начал борьбу с ними, не послужившую к чести Православной Церкви. Производившееся же архиепископом Евлогием воссоединение галицийских униатов было переполнено ошибками. На нем я остановлюсь.
И здравый разум подсказывал, и история подтверждала, что массовое воссоединение — весьма деликатное дело, требующее от воссоединителей большой осторожности, глубокого понимания обстановки, мудрой предусмотрительности в принятии мер, знания, наконец, истории прежних воссоединений. Архиепископ Евлогий приступил к воссоединению без всякой подготовки. с одним пламенным желанием поскорее воссоединить галицийских униатов. Он даже не потрудился познакомиться с вышедшей в 1910 г. моей книгой о воссоединении белорусских униатов в 1833-1839 гг., которая во многом осведомила бы его и этим спасла бы его от многих ошибок. Прибыв в Ставку, он ни единым словом не обмолвился со мной о воссоединении, хотя не мог не знать, что воссоединительное дело было мне слишком хорошо известно и моя и моего духовенства помощь была бы для него драгоценной. Не принял архиепископ Евлогий во внимание и мудрых советов одного из виднейших вождей православного движения в Галиции С.Ю. Бендасюка, заплатившего за борьбу с унией двухлетним тюремным заключением. 14 сентября 1914 г.
С.Ю. Бендасюк в собрании Галицко-русского общества в Петрограде говорил, что «пример Холмщины, где вследствие неосторожного и неумелого образа действий сотни тысяч униатов предпочли католичество православию, показывает, что действовать нужно крайне осторожно, равномерно и спокойно, хотя в некоторых случаях нужно поступать с твердостью и решительностью. В частности, необходимы следующие меры.
385
1) Нужно присоединять лишь тех, которые сами обратятся с просьбой о присоединении после беседы со священниками и миссионерами. Страшный вред для дела принесло бы какое-либо давление светской власти или обещание выгод от перехода.
2) Для воссоединившихся с Православною Церковью нужно оставить неприкосновенными все те особенности местной церковной жизни, все обряды и обычаи, которые не противоречат догматическому учению православия.
3) Если местных священников, перешедших в православие, будет недостаточно и придется призывать их из России, то желательно. чтобы они были с высшим образованием. Все ксендзы и униатские священники в Галичине имеют высшее образование, и если бы православные священники его не имели, то это подорвало бы их влияние, особенно в городах.
4) Языком богослужения должен остаться язык церковно-славянский, но проповедь нужно говорить на малоросском наречии, а не на великорусском. Проповеди священник должен говорить не реже чем каждую неделю и непременно живою речью, а не по тетрадке, так как народ привык к такой именно проповеди.
5) Униатское и католическое духовенство в Галичине хорошо обеспечено, и православное духовенство должно быть поставлено в этом отношении не хуже других, чтобы оно могло всецело отдаться своему делу и чтобы престиж его в глазах народа не упал»90.
Я привел не все, а лишь наиболее заинтересовавшие меня советы С.Ю. Бендасюка. Так как к 14 сентября 1914 г. воссоединительная система архиепископа Евлогия вполне определилась и с нею не мог соглашаться всякий, сколько-нибудь разбиравшийся в униатском вопросе и тогдашнем положении Галичины, ставшей театром военных действий, то я решаюсь думать, что г. Бендасюк давал свои советы, имея в виду именно неудачные, чреватые печальными последствиями действия архиепископа Евлогия. Последний действовал как бы наперекор всем советам г. Бендасюка.
Архиепископ Евлогий выехал на «апостольское дело», как называл воссоединительную деятельность его скворцовский печатный орган «Колокол», не с образованными сотрудниками, способными заменить галицийских униатских священников, а с несколькими полуграмотными монахами Почаевской лавры. Попечительный обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер дал в помощь архиепископу Евлогию чиновника своей канцелярии П.Д. Овсянкина, совершенно не разбиравшегося в униатском вопросе и задачу своего пребывания при архиепископе Евлогии понявшего таким образом, что его долг не помогать архиепископу, а следить за каждым его шагом и решительно обо всем замеченном немедленно извещать своего патрона. Так он и делал. Из его
386
почтительных писем В.К. Саблеру составился довольно объемистый том. из которого грядущие поколения могут узнавать, когда архиепископ Евлогий ложился спать и когда вставал, когда и что ел и пил, с кем встречался, кого принимал, о чем разговаривал, даже о чем думал. Мой товарищ по академии и земляк П.Д. Овсянкин был своеобразным опекуном архиепископа Евлогия.
Помощником архиепископа Евлогия в воссоединительном деле стал его викарий епископ Дионисий (Валединский), впоследствии митрополит Варшавский, живший в г. Кременце, на границе с Австрией. Как он сотрудничал, об этом будет сказано ниже. Вскоре затем в помощь архиепископу Евлогию Святейшим Синодом был назначен иеромонах Смарагд (Латышенков), очень способный, блестяще окончивший курс Санкт-Петербургской духовной академии, но незнакомый с воссоединительным делом. Заехав в Ставку по пути в Галицию, он спрашивал меня, какого же направления ему в отношении униатов держаться — евлогиевского или какого другого. А затем помощниками нашего воссоединителя были почаевские иеромонахи, необразованные, неряшливые и вдобавок полуголодные: архиепископ Евлогий по недостатку имевшихся у него средств и отчасти по скупости выдавал каждому из них по 10-15 рублей в месяц. В отсутствие Евлогия они вынуждены были жить подаянием.
О начале воссоединительных действий в Галиции я узнал случайно из купленной мною (кажется, 12 сентября 1914 г.) в Вильно при возвращении с фронта скворцовской газеты «Колокол», где была помещена статья об «апостольской» поездке епископа Дионисия по Галиции. Приехав в село Н., епископ Дионисий, сообщалось в статье, вызвал униатского священника. «Ты папист?» — спросил владыка. «Да, папист», — ответил священник. «Вот тебе два дня на размышление. Если не откажешься от папы, будешь отстранен от должности», — определил владыка. Священник остался униатом и чрез два дня был лишен места, а вместе с местом и куска хлеба. Прочитав эту статью, я пришел в ужас. «Значит, — подумал я, — наши новые воссоединители начинают дело с насилий над униатским духовенством, превращая обездоленных униатских священников в мучеников. Потом в воссоединениях примут участие жандармы. Повторяются ошибки белорусских воссоединителей — епископа Смарагда и его сотрудников. Ясно, к каким приведет это последствиям. Белорусское воссоединение (1833-1839) производилось в мирное время и у себя дома, и то оно сопровождалось обидами, протестами, возмущениями и даже бунтами, которые приходилось усмирять казацким отрядам. А тут театр военных действий, тыл которого нуждается в спокойствии. А главное, воссоединители упускают из виду, что Галицийская уния — более политическое, чем церковное дело. Австрийское правительство всеми силами поддерживало ее, чтобы
387
чрез отделение галичан от Православной Церкви отдалить их и от России. Счастье военное переменчиво: сегодня наши войска занимают Галицию, завтра могут оставить ее. Тогда австрийские власти посмотрят на воссоединенных как на государственных преступников: виселицы и расстрелы будут ожидать последних».
Прибыв в Ставку, я доложил Верховному главнокомандующему содержание статьи «Колокола», как и свои мысли и опасения, вызванные этой статьей. Великий князь, выслушав мой доклад, пригласил генерала Янушкевича и предложил мне повторить доклад. Оба они совершенно согласились с моими мыслями и опасениями, и великий князь тут же приказал генералу Янушкевичу составить телеграмму — просить царя приказать немедленно остановить воссоединительные действия в Галиции. Телеграмма в тот же день была послана. А на следующий день был получен царский ответ, что велено прекратить воссоединения.
Я не стану тут описывать дальнейшей истории этого «исторического» воссоединения. Она более или менее подробно изложена в IX главе моей рукописи «На войне. Три года в Ставке Верховного главнокомандующего». Упомяну лишь о самых ярких моментах ее.
Копия царской телеграммы по приказанию обер-прокурора Святейшего Синода была приобщена к делу, но «воссоединение» продолжалось. При многократных встречах со мной генерал-губернатор Галиции граф Г.А. Бобринский чуть не со слезами жаловался мне на архиепископа Евлогия, своими воссоединительными операциями причиняющего ему множество неприятностей, огорчений и затруднений. Военные начальники и священники осуждали действия архиепископа Евлогия, считая их вредными для военных действий, опасными для воссоединяемых. Даже протоиерей Венедикт Туркевич, священник при штабе Галицийского генерал-губернатора, друживший с архиепископом Евлогием, осуждал его действия и особенно возмущался голодавшими, нищенствовавшими иеромонахами, привезенными Евлогием для работы в Галиции. По доходившим до меня сведениям, воссоединение проходило с затруднениями, с привлечением на помощь жандармов. Архиепископ Евлогий со своими сотрудниками гениально повторял все ошибки белорусских вос- соединителей 1833-1839 гг. и даже превосходил их в ошибках. Разница лишь в том была, что белорусский воссоединитель епископ Смарагд (Крыжановский) был гораздо талантливее архиепископа Евлогия и не окружали его такие помощники, как евлогиевские полуграмотные монахи.
17 или 18 февраля, после поездки по Галиции, я послал в Синод рапорт, в котором доказывал, что управлять галицийскими униатскими церквами надо нашим православным священникам, которым надо удовлетворять все духовные нужды остав-
388
шихся без своих священников униатов, а воссоединения надо прекратить, тгпс как они могут в случае отхода наших войск подвергнуть воссоединенных великим опасностям и несчастиям.
По приказанию обер-прокурора мой рапорт не докладывался Синоду. Обер-прокурора не интересовала судьба воссоединяемых. Будучи в ноябре 1914 г. в Ставке, он ни единым словом не обмолвился, беседуя со мной, о происходившем воссоединении и только просил меня повлиять на великого князя, чтобы тот приказал дать им (Синоду) «два-три домика у святого Юра», в роскошной резиденции униатского митрополита в г. Львове. 12 апреля на станции Броды при остановке царского и великокняжеского поездов после посещения Львова и Перемышля я по приказанию Верховного главнокомандующего сделал царю обстоятельнейший доклад о происходивших воссоединениях, не скрыв ни одного из своих опасений. Мой доклад произвел на царя огромное впечатление. «О. Георгий совершенно перевернул мой взгляд на воссоединение галицийских униатов», — сказал царь Верховному. Верховный и граф Г.А. Бобринский после этого сердечнейше благодарили меня за то, что я помог им разрешить чрезвычайно болезненный вопрос. Все разъехались довольные: царь — с перевернутым взглядом на воссоединение. Верховный и Галицийский генерал-губернатор— с радостью, что больной вопрос разрешен. А воссоединения все равно продолжались. 6 мая этого года, менее чем через месяц после моего доклада, архиепископ Евлогий за воссоединительные действия был награжден царем бриллиантовым крестом для ношения на клобуке, наградой, можно сказать, беспримерной для 46-летнего и исключительными дарованиями и заслугами не отличавшегося епископа.
Я остановился на приведенных эпизодах истории печальной памяти евлогиевского воссоединения галицийских униатов, ибо в них запечатлелся характер нашего несчастного государя и его царствования. Государь наш действовал не по своей воле, а под влиянием других. Прибыв в Ставку, он подпадал под влияние Верховного и становился противником воссоединения; в Петрограде на него наседали царица, Распутин, Саблер, и он щедро награждал воссоединителей. Так было и во веем. Это и довело его до катастрофы.
Крах воссоединительной евлогиевской системы наступил в мае 1915г., чрез три дня после увенчания ее возглавителя высокой наградой. Кажется, 9 мая этого года под напором австрийско-германских войск началось наше отступление из Галиции. Началась и расправа с воссоединенными. По свидетельству достоверных лиц. до 40 тысяч воссоединенных было расстреляно или повешено — их расценивали как государственных преступников; до 80 тысяч воссоединенных бросились в Россию, где на
389
Волыни, Украине и Дону пришлось печаловаться о них. Деятельность архиепископа Евлогия в Галиции прекратилась. В мае 1916 г. наши войска снова вступили в Галицию. По поручению государя граф Бобринский, зайдя ко мне в Ставке, сообщил, что Его Величеству желательно, чтобы я взял в свои руки управление церковным делом в Галиции и Буковине. Я ответил, что не могу не исполнить желания Его Величества, но считаю необходимым, чтобы, прежде чем поручать мне это запутанное и серьезное дело, государь ознакомился с моим взглядом. В тот же день пред едой государь обратился ко мне; «Печально вышло с воссоединением в Галиции. Я помню ваш прошлогодний доклад в Бродах. Как это вы узнали, что именно так случится?» «История научила меня, — ответил я. — В прошлом веке в Белоруссии подобным же образом воссоединяли униатов. Тут вышло гораздо печальнее, потому что воссоединение происходило на неприятельской территории и неприятельских подданных» «Граф Бобринский сообщил мне, что вы желаете представить мне докладную записку. Пожалуйста, представьте», —сказал государь. Дня через два я представил записку, главные пункты которой были следующие.
1) В отношении галицийских униатов нам необходимо быть сугубо осторожными, так как Галиция — театр военных действий, а уния — дело австрийского правительства.
2) Мы должны проявить сердечнейшую заботу о духовных нуждах галицийских униатов, в первую очередь бежавших униатских священников замещать своими самыми достойными и образованными священниками, которые могли бы не уронить православие; священники эти должны быть казною вполне обеспечены, дабы не нуждались они ни в каких вознаграждениях за требы.
3) Никаких публичных воссоединений не производить, а считать самый факт обращения униата к православному священнику за его воссоединение.
4) В деле управления галицийскими и буковинскими церквами освободить меня на время войны от подчинения Святейшему Синоду, который может мешать моей работе.
На моей записке государь начертал: «Одобряю». Я вступил в управление, взяв себе в помощники знатока униатского дела профессора Киевской духовной академии протоиерея Федора Ивановича Титова. Дело у нас пошло мирно и, кажется, достаточно успешно. Нашими помощниками были не полуграмотные иеромонахи, а совершенно надежные священники, на которых вполне можно было полагаться, что они не уступят бывшим униатским.
Меня не удивляло, что неглупый и религиозно настроенный архиепископ Евлогий, берясь за большое и весьма ответственное
390
дело, не постарался ознакомиться с историей прежних воссоединений, не прислушивался к мнениям опытных людей, не считался с военными обстоятельствами и не прозревал в возможное будущее воссоединявшихся им. Самонадеянность, самоуверенность в собственных силах, собственном опыте и знаниях отличали многих наших высокопоставленных деятелей. В России встречались губернаторы, не заевшие отличить колоса пшеницы от колоса ячменя, а им вручались судьбы крестьянского населения целой губернии. Я знавал генералов, которые за десятки лет службы ничему новому не научились, а многое из приобретенного в военных училищах и даже академиях перезабыли и со своими скудными устаревшими знаниями выходили на войну командовать дивизиями, корпусами и даже армиями. Я знал Тобольского архиепископа Варнаву, бывшего огородника, который не умел грамотно написать двух слов, а в своих проповедях с церковного амвона пускался разрешать самые сложные церковные и политические вопросы, и образованные тобольские люди приходили в собор, чтобы послушать этого чудомора-проповедника во владычнем сане. Наука и система были у нас не в большом почете. Меня поэтому не удивляет тогдашнее поведение архиепископа Евлогия в воссоединении галицийских униатов. Меня удивляет другое: что он и в течение следующих 30 лет не смог осознать своих прежних ошибок и отошел в иной мир с убеждением, что он правил слово истины в Галиции, а другие, в том числе и я, мешали его работе. Об этом свидетельствует написанная под его диктовку Т. Манухиной и изданная после его смерти в Париже книга «Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия».
В этой книге, со слов митрополита Евлогия, рассказывается, что в Петрограде пред вступлением в должность воссоединителя он докладывал государю, что «генерал-губернатор (гр. Бобринский) — малосведущий в нашем (церковном) деле и вообще в административных вопросах»91: что после аудиенгщи он не заехал к Верховному «и за эту капитальную ошибку больно расплатился»92; что во Львове из слов генерал-губернатора он заключил, что его «приезд считают несвоевременным, а наше положение неустойчивым»93: что 26 ноября 1914 г.; Верховный в Ставке сказал ему: «Я не очень сочувствую созданию особого управления церковными делами в Галиции. Война — дело неверное; сегодня повернется так, завтра иначе. Я понял, что он разделяет точку зрения протопресвитера Шавельского, которому не нравилось нарушение единства военного управления всей занятой войсками территории. Кроме военного духовенства, он не признавал другой церковной организации в пределах фронта и ближайшего тыла»94. Далее в книге сообщается, что епископ Дионисий в Почаеве предложил ему посетить обращенные из унии приходы, «но
391
только надо жандармов с собою взять, потому что священники ключей от храма не дают, надо будет их отобрать», и затем приводятся примеры насилий над униатскими священниками, вызвавшие телеграмму Верховного; «Предлагаю вам никаких насильственных мер не принимать»95. Там же сообщается: «Подобные случаи (грубых насилий), к сожалению, во время оккупации бывали. В Галицию посылали не лучших чиновников, а сплавляли худших. В результате — пьянство, растраты, мордобой...»96 Из этой же книги я узнал, что архиепископу Евлогию показалось, что мне, как и генерал-губернатору, «было неприятно, что встречать государя (во Львове) будет он, а не я»97; что его не наградили за Львовскую встречу и за очень неудачную речь, произнесенную при встрече государя, возмутившую Верховного; что в несогласии с его воссоединительной политикой он видел клевету, против которой и «знак монаршей милости98 был бессилен»99.
Трагичны страницы книги, описывающие финал евлогиевского воссоединительного дела: «С тяжелым чувством вернулся я (по сдаче Перемышля) в Галицию. Во Львове настроение было напряженное, тревожное, близкое к смятению.... Что делать с православными приходами? Как оберечь их от ужасной участи — вновь очутиться под австрийской властью и принять кару за измену? А если их перевешают, перестреляют?.. Тревога о Галичанах не давала мне покою... Как могут рассосаться 50-100 тысяч пришлого населения в нищих, истощенных военными реквизициями приграничных областях? Они двинулись табором, неорганизованным потоком. Стар и млад, лошади, коровы, телеги, груженные домашним скарбом... Положение галицийского каравана было ужасно. В пыли, грязи, под дождем и зноем, рожая и умирая в пути, двигался грандиозный табор беженцев, не зная, где и когда он осядет. Надо было кормить скот и самим кормиться. Наши крестьяне, оберегая свое достояние, на свои луга чужой скот не пускали, а кормиться самим в беженских условиях галичанам было тоже трудно. Я поспешил вперед, чтобы направить главную массу беженцев в Шубково. Там около 50 тысяч галичан и осело. Местность, пригодная для полигона, оказалась далеко не пригодной для поселения. Кругом болота, колодцев не хватало. В жару люди бросались к воде, и в результате новое бедствие — холера...»100
Митрополит Евлогий умолчал о числе повешенных и расстрелянных галичан. По доходившим до меня верным сведениям, число это достигало до 40 тысяч человек.
В рассказе митрополита Евлогия о производившемся им воссоединении сказался его характер. Он верил только самому себе. Всех несогласных с его действиями он подозревал в недоброжелательстве или даже в клевете. Меня он считал главным виновником своих неприятных переживаний, подозревая, что я веду
392
против него интригу, руководствуясь недобрыми побуждениями. Он не хотел понять, что я служу делу. Родине, Церкви, а не каким-то посторонним целям: что я рад был бы видеть не только Евлогия, но и десятки архиереев, сотрудничающих на фронте; что меня побуждали не соглашаться с политикой Евлогия не какие-то недобрые чувства (ревность, зависть), а только одно ясное понимание ошибочности его воссоединительной политики, опасной и вредной и для нашей Церкви, и для армии, и в особенности для воссоединяемых. Печальный финал его дела, который я предсказывал и царю, и Верховному, и всем, кто меня спрашивал о воссоединении, не вразумил архиепископа Евлогия, что правы были его «клеветники», а не он. Против меня он затаил великую злобу.
Гневаясь на меня, он прежде всего начал вымещать свой гнев на моих подчиненных — военных священниках, спасавшихся от смерти при развале фронта, бежавших и искавших у архиепископа Евлогия помощи и защиты. Вместо хлеба они получали от него камень. «Мы от немцев и австрийцев терпели меньше, чем от архиепископа Евлогия», — писали они мне, изливая скорби, в Москву. Потом Евлогию представился случай уязвить и меня. В 1922 г. русский представитель в Болгарии А.М. Петряев от имени русских беженцев в Софии и от своего имени просил архиепископа Евлогия назначить меня на освободившееся место настоятеля Софийской посольской церкви. Евлогий отказал и назначил епископа Серафима (Соболева), совершенно бездеятельного человека, вскоре ставшего на сторону врагов Евлогия и причинившего ему немало огорчений.
В 1926 г. у Евлогия произошел разрыв с карловцами. Софийский епископ Серафим стал одним из самых рьяных противников Евлогия. А я в вопросах, касающихся правды, блага Церкви или Родины, забывал о моих личных врагах и друзьях и старался содействовать правому. Мне казалось, что на стороне Евлогия больше правды, чем на стороне Карловацкого Синода. И я открыто стал на сторону Евлогия, что чрезвычайно озлобило его противников. Меня объявили евлогианцем, хоть я не объединялся с ним и не подчинялся ему: потом начались старые инсинуации, что я масон, что я еврей, хоть я, к стыду своему, совсем не интересовался масонством и лишь поверхностно знал его, а предки мои, включительно до прадедов, были духовными: священниками, дьячками, пономарями — и по отцовской, и по материнской линии. Наконец, премудрый епископ Серафим объявил все мои священнодействия как евлогианца безблагодатными. Митрополит Евлогий как будто оценил мое отношение к его положению. У меня имеется толстая пачка его писем, в которых он высказывал мне глубокую благодарность за оказываемую ему огромную моральную поддержку, объяснялся в любви и признательности.
393
звал меня на службу к нему, предлагая самые почетные места: настоятеля лондонской церкви, настоятеля собора на Рю-Дарю в Париже, инспектора и профессора Парижского богословского института и обещая сделать меня своим преемником101. По правде сказать, его предложения были для меня заманчивы, но капризный, женоподобный характер митрополита Евлогия, обещавший неминуемые столкновения, путал меня, и я отказывался от всех предложений.
И тут митрополит Евлогий остался самим собою. Диктуя Т. Манухиной свои воспоминания, он кого только не вспомнил, а мне приписал такие чувства и такие намерения, каких у меня никогда не было, а о моей помощи, оказывавшейся ему в один из самых трудных периодов его жизни, о тех предложениях, которые он многократно делал мне, он не обмолвился ни единым словом. Очевидно, он до конца дней своих продолжал думать, что в Галиции я эгоистично противодействовал его воссоединительной работе. Обидно, что он так и не смог понять тогдашнего моего поведения. Он искренно, по свойству своего характера заблуждался. И я не упускаю случая, чтобы молиться об упокоении души его.
XIX. Жизнь в Ставке Верховного главнокомандующего. Поездки по фронту
Ставка Верховного главнокомандующего помещалась в районе 2-го Железнодорожного батальона, примыкавшем к местечку Барановичи с 35-тысячным еврейским населением. Поезд Верховного стоял в роще напротив одного из батальонных домиков. Чины генерал-квартирмейстерской части, канцелярии дежурного генерала и других управлений Ставки жили или в штабном поезде, или в железнодорожных домиках.
При выборе места для Ставки, между прочим, руководились и тем, чтобы поместить Ставку в наиболее укромном, незаметном для постороннего глаза месте. Расчет оказался совершенно неверным: не только каждый барановичский еврей знал, что в отныне ставших знаменитыми Барановичах живет Верховный со своим штабом, но и все проезжавшие по железной дороге чрез Барановичи, где пересекались дороги Московско-Брестская, Полесская и Белостокская, не могли не заметить, что тут помещается какой-то большой штаб, а от первого встречного еврея не узнать, что тут Ставка Верховного. Между тем в петроградских и московских штабах упорно скрывали местонахождение Ставки даже от тех, кто назначался на службу в Ставку. 30 августа 1914 г. из Троице-Сергиевой лавры в Ставку иеромонах Максимилиан привез весьма чтимую, написанную на доске от гробницы преподобного Сергия, со времени Петра I сопутствовавшую
394
нашим войскам во всех войнах икону «Явление Божией Матери преподобному Сергию». Он так и не узнал в Москве, где же находится Ставка, и в течение нескольких дней добирался до Барановичей.
Жизнь моя в Ставке протекала таким образом. В свитском вагоне для меня было отведено двухместное купе 1-го класса. Чай пил, обедал, ужинал я в вагоне-столовой великого князя, конечно, безвозмездно — щедрый Верховный кормил за свой счет всю свою свиту. Вставши утром и помолившись Богу, я в столовой пил чай, а затем отправлялся в свою канцелярию, помещавшуюся в одном из железнодорожных домиков вблизи от Полесского вокзала. Канцелярской работы у меня было достаточно: переписка с Синодом и епархиальными архиереями, как и с военными начальниками, назначения и увольнения священников, различные указания и наставления священникам, переписка, наконец, с Духовным правлением и своим помощником. В 12 часов дня я возвращался в вагон. В половине первого обедали. В вагоне-столовой строго были распределены места. Мне было указано место за столиком (каждый столик был рассчитан на 4 человека) Верховного: на одной стороне столика сидел сам Верховный, напротив него генерал Янушкевич и я. Когда в Ставку приезжал какой-либо большой и любимый Верховным сановник, великий князь сажал его за своим столиком слева около себя. Этой чести сподоблялись министры, главнокомандующие, варшавский генерал-губернатор и некоторые другие. Саблера и Сухомлинова усаживали за другим столиком, их великий князь не жаловал. К 3-4 часам я снова отправлялся в канцелярию и там оставался до 7 часов вечера, где мне приходилось не только заниматься канцелярской работой, но и принимать разных просителей — приезжавших с фронта священников и других лиц, нуждавшихся в моем совете или помощи. Само собою понятно, что ежедневно утром и вечером я находил время, чтобы побывать на совершавшихся там богослужениях. Обед продолжался до восьми с половиной часов, а в конце десятого подавали чай, к которому иногда выходил и Верховный. Я редко бывал на этом чаепитии.
В общем, жизнь в Ставке представляла много интереса. Я всегда бывал в курсе всего происходившего на фронте. Ни генерал Янушкевич, ни генерал Данилов не скрывали от меня общего положения, а сам Верховный иногда делился со мной самыми сокровенными переживаниями. Ежедневно в Ставке появлялись новые лица. Кого только там не перебывало: министры, всех рангов военачальники, земские деятели, корреспонденты и прочие. Из духовных лиц в Ставку приезжали: архиепископ Евлогий, протоиерей Иоанн Восторгов и архимандрит Григорий, последний как посланец митрополита Макария (Московского). Все они приглашались к великокняжескому столу.
395
Со всеми чинами Ставки, и высшими, и низшими, у меня были самые лучшие отношения. Я поставил правилом никогда не путаться не в свои дела, сторониться от всяких интриг, быть со всеми приветливым и вежливым, никому не причинять неприятностей, а по мере своих сил и возможностей помогать всем. Благодаря этому моя близость к Верховному ни в ком не возбуждала зависти и не вызывала опасений. Кроме того, в Ставке было много офицеров Генштаба, которые учились в Академии Генштаба, когда я был священником Суворовской церкви, и там привыкли относиться ко мне с уважением. Если бы не частые неудачи на фронте, я считал бы время, проведенное мною в Ставке при Верховном — великом князе, весьма счастливым в моей жизни. По отношению ко мне моей паствы оно напоминало мне мое пребывание в должности настоятеля Суворовской академической церкви, когда я был окружен редкими вниманием и любовью и не знал никаких интриг и подвохов. Но такие катастрофы, как сольдаусская, как галицийское отступление, падение Варшавы, крепостей Новогеоргиевской, Ивангородской, Ковенской, и другие наши военные неудачи, как, наконец, безоружность (особенно летом 1915 г,) наших войск, испытывавших страшный недостаток в боеприпасах и даже в вооружении, — все это остро чувствовалось и болезненно переживалось мною.
Великим утешением для всех чинов Ставки, а для меня в особенности, служила штабная церковь. Должен сказать, что в Петербурге я был избалован совершавшимися там богослужениями и в особенности пением церковных хоров. В Суворовской церкви пел небольшой, но стройный и, главное, в строго церковном духе хор. Хор моей протопресвитерской церкви, управлявшийся Александром Павловичем Рождественским, был известен всему Петербургу и своей художественностью привлекал массу богомольцев. Я ценил высокие его музыкальные достоинства, но, признаюсь, он мне не нравился. Чудесный голос, тонкость исполнения, много чувства и воодушевления, но... много в нем было слащавости, светскости и не доставало церковности, той помазанности, которая должна отличать все совершающееся во время богослужения в храме. Я не переставал мечтать о таком хоре, у которого художественность соединялась бы со строгою церковностью, который в исполнении песнопений проявлял бы не только силу чувства, но и высоту смирения, смиренного благоговения пред Творцом неба и земли. Помнится, в 1912 г, я сделал попытку обзавестись таким именно хором и пригласил хор известнейшего композитора Александра Андреевича Архангельского. Архангельский охотно согласился, но к организации хора для моей церкви отнесся крайне невнимательно: хор он составил из случайных певцов и над ними поставил случайного регента. Составился убогий хор, хромавший на оба колена (3 Цар. 18, 21), не
396
умевший прилично исполнить даже самые простые песнопения. А в Великую пятницу на вечернем богослужении он устроил такую какофонию, что была возмущена вся церковь. Как ни тяжело мне было огорчать почтеннейшего старца А.А. Архангельского, я после этого скандала освободил его хор от пения в моей церкви и снова пригласил А.П. Рождественского. Конечно, Архангельский был обижен, а я понимал его обиду и болезненно переживал ее, но иначе не мог поступить.
Хор Ставки состоял из 10 человек. Это были отборные певцы — солисты Придворной капеллы и лучших петербургских хоров — Митрополичьего и Казанского собора с двумя регентами Придворной капеллы — Носковым и Егоровым. Все они были взяты на военную службу и теперь вытащены из разных воинских частей. Придворная капелла отличалась тем достоинством, что она умела соединять высокую художественность с большой скромностью и совершенной церковностью. Своим регентам я предъявил требование, чтобы наш хор не уступал капелле в художественности и церковности, но превзошел ее теплотою, сердечностью. Они поняли меня и блестяще выполнили мое желание. Конечно, Барановичи никогда не слышали подобного пения, но и для всех чинов Ставки, главным образом петербуржцев, наш хор служил великим утешением. Мне многие чины штаба сознавались, что в минуты скорбных переживаний они спешили в церковь и там при чудном пении наших хористов молитва утешала, успокаивала их. Неудивительно, что ежедневные богослужения, утром и вечером совершавшиеся в нашей церкви, никогда не оставались без богомольцев.
Тут необходимо отдать должное и священникам штабной церкви. О. Владимир Рыбаков служил скромно, но всегда благоговейно. Искренняя молитвенность чувствовалась и в его движениях, и в его голосе. Даже некоторая его простоватость, бывшая результатом его 14-летней провинциальной службы в селах и г. Бугуруслане Самарской губернии, совершенно компенсировалась его природным умом, образованностью и неподдельным благочестием.
С 30 августа 1914 г. помощником о. В. Рыбакова в совершении богослужений стал прибывший с иконой Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Максимилиан. Он тоже оказался отличным священнослужителем. Его образование было небольшим — монастырским, которое состояло в том, что он хорошо пел и читал, кое-как писал и основательно знал церковный устав с житиями святых. Однако, несмотря на свою полуграмотность, он сумел снискать себе любовь и известное уважение всех чинов штаба, которых привлекали его мягкость, общительность, сердечность, готовность услужить каждому и его полная нестяжательность. Иным нравилась даже его наивная непосредственность, над ко-
397
торою остряки мило подшучивали, а благочестивые ею умилялись. Манера совершения богослужений у о. Максимилиана была очень удачной: служил он без всяких фокусов, к которым имеют обыкновение прибегать некоторые не проникающие в суть богослужебного дела священнослужители, скромно, но всегда благоговейно и проникновенно. Видно было, что он не только служил, но и священнодействовал, молился. Я заметил у о. Максимилиана только один недостаток, если можно назвать его недостатком: о. Максимилиан бывал многоречив, встретившись с кем-нибудь, он начинал говорить без умолку и мог говорить без конца. Иным это нравилось. О. Максимилиан понедельно с о. Рыбаковым совершал богослужение. В воскресные и праздничные дни я вместе с ними служил.
Протодиакон Власов своей малограмотностью и даже поведением смущал многих. Но русские в отношении дьяконов имели особый вкус: если голос дьякона подобен был иерихонской трубе, да и вид его был исполинский, тогда дьякону все прощалось и самые тяжкие грехи ни во что вменялись.
Вспоминаю свои школьные годы. Когда я учился в духовном училище и семинарии, в Витебском кафедральном соборе служил архидиакон Нектарий. Сердце у него было доброе, товарищ он был верный и человек очень неглупый, но страдающий одним страшным недостатком — запоем, повторявшимся довольно часто и всякий раз продолжавшимся по несколько дней. В периоды запоя о. Нектарий становился невменяемым: шатался по разным непотребным местам, ночевал где попало, ругался, скандалил, дрался. Часто полиции приходилось усмирять его. Так как о. Нектарий обладал неимоверной силой, то витебскому полицеймейстеру приходилось иногда наряжать большие отряды полиции, чтобы схватить и удалить буяна. Но православное население города, не обращая никакого внимания на такую «слабость» о. Нектария, продолжало благоговеть пред ним. О. Нектарий был городскою знаменитостью. И даже еврейское население, наслышавшись от православных, гордилось им. Однажды ночью о. Нектарий произвел невероятный дебош, разбросал, как мячики, большой отряд полиции, высланный угомонить его. После этого скандала архиерей уволил его от службы. Что началось тогда! Одна за другой потянулись к владыке депутации — светские и духовные, православные и еврейские. Наконец, явился к владыке начальник жандармского управления генерал-майор князь Шаховской от лица всего города с просьбой не лишать город его украшения. И владыка оставил о. Нектария при соборе.
Кончина о. Нектария была не совсем непостыдной. В 1886 г. в субботу на Масляной на всенощной на левом клиросе кафедрального собора пел наш семинарский хор. Служил другой дьякон, а
389
о. Нектарий воспевал вместе с нами. Как сейчас вижу его мощную фигуру, поместившуюся в правом углу клироса, и слышу звуки его бесподобного голоса. Никаких признаков усталости или болезненности у него не было заметно. Вернувшись после службы в свою келью, помещавшуюся тут же около собора, в архиерейском доме, он уничтожил неимоверное количество блинов со всякого рода хмельными и нехмельными добавками. А когда на следующий день мы пришли в собор петь литургию, нам с утра сообщили, что ночью Нектарий скончался. Весь собор был в величайшем унынии.
Похоронили о. Нектария на кладбище Маркова монастыря (в двух верстах от города). Огромнейшая толпа, среди которой много было и неправославных, провожала останки о. Нектария до места вечного упокоения. Вскоре город украсил могилу о. Нектария ценным по тому времени памятником. Ни один общественный или государственный деятель, ни одно духовное лицо в г. Витебске ни раньше, ни позже не удостоилось такой чести.
Чем же о. Нектарий приворожил к себе город? Своим удивительном голосом. Мне приходилось служить со всеми знаменитыми дьяконами предреволюционного времени: с петербургскими — Громовым, архидиаконом Иоанном Сокольским, московскими — Розовым и Здеховским, с харьковским — Вербицким и другими. Только Малинин силой голоса превосходил о. Нектария, но по музыкальности и уменью придать величественность богослужению о. Нектарий стоял выше Малинина.
Власов только ростом и своей величественной фигурой превосходил о. Нектария. Во всем прочем он уступал о. Нектарию. Голос о. Нектария был несравненно сильнее и красивее голоса Власова, в церковно-славянской грамоте и знании церковного устава о. Нектарий был безукоризнен, в отношениях со своими сослуживцами всегда благороден. Власов не страдал запоем, но у него была другая страсть — шататься по чужим домам. Когда он требовался, приходилось разыскивать его по всему местечку. Он любил интриги и сплетни. Но многим из посетителей нашей церкви он нравился, даже более того, у него были свои поклонники. Приходилось слышать: «Голос-то, голос у нашего протодиакона. А фигура! Походка! Красавец!» Мне он не мог нравиться, и я решил освободиться от него. Я ждал, когда представится возможность продвинуть его на такое место, которым он остался бы доволен. Случай нескоро представился.
Верховный главнокомандующий был весьма набожным человеком. Он крепко верил в Промысел Божий, управляющий судьбами и народов, и отдельных людей, в удачах видел милость Божию, в несчастьях надеялся на помощь Божию. Он и его брат великий князь Петр Николаевич не пропускали ни одной воскресной и праздничной литургии, приходили иногда и на всенощ-
399
ные бдения. В храме стояли благоговейно, молились усердно. Оба они страдали болезнью ног. Поэтому на левом клиросе для них около стенки были устроены такие сиденья, что присутствующие в храме не замечали, что великие князья присаживаются.
Несомненно, Верховный искренно и глубоко веровал в Бога, всегда и во всем полагался на Него, но отношение его к православному духовенству было очень холодным. Приближенные его рассказывали мне, что в своем тульском имении Першино он небрежно относился к тамошнему священнику и, только выдерживая этикет, изредка приглашал его к завтраку. То же приблизительно было и в Ставке. Я невольно вспоминал, как генерал-адъютант А.Н. Куропаткин старался обласкать каждого встретившегося ему священника. Потом я увидел, что и государь был внимателен к духовенству. Для великого князя как будто не существовало штабного духовенства. Он знал только меня и мне оказывал исключительное внимание, что удивляло давно служивших при нем, знавших его отношение к духовенству вообще.
Вслед за Верховным старались посещать штабную нашу церковь и чины его штаба. Железнодорожные служащие и другие барановичские жители увлекались благолепным совершением богослужений и чудным пением хора. В воскресные и праздничные дни наша церковь переполнялась народом.
Мне лично наша церковь давала много утешения. В минуты тяжких переживаний, бывало, зайду в церковь. Убранство в ней скромное, напоминавшее мне церковь в моем родном селе, где прошли мои юношеские годы, где впервые я под руководством своей несравненной матери приобщился к церковной жизни и испытал сладкие минуты религиозного подъема. Однако богослужение идет благоговейно, задушевно, проникающе в душу, а квартет нашего хора, — по будням за утренними и вечерними службами пел квартет — зачаровывает, услаждает, успокаивает душу. В храме почувствуешь близость всемогущего Творца, связь с надземным миром и утешенным, ободренным выйдешь из храма на предстоящую работу.
Ставка жила нервной жизнью: при больших победах бурно радовалась, при больших неудачах унывала и скорбела. Как переживала Ставка радость успехов генерала Реннекампфа в Восточной Пруссии в первой половине августа 1914 г., я не могу сказать: во время получения Ставкой известия об этих успехах я был на фронте. Но победа на Галицийском фронте, сообщение о которой было получено 30 августа 1914 г., вызвала бурный восторг в Ставке: была занята огромная территория, взято в плен 28 тысяч солдат, много офицеров, орудий и всякого снаряжения и припасов. Пред самым получением известия об этой победе в Ставку прибыла икона Троице-Сергиевой лавры. Почти одновременно с
400
известием о Галицийской победе было получена весть о победе французов на Марне. Мистически настроенной Верховный в этих трех событиях увидел тесную связь. «Это Божия Матерь послала нам столько великих радостей!» — сказал он мне. Восторгу его не было границ. Галицийская победа в значительной степени компенсировала сольдаусское несчастие, после которого из Петрограда102 поползли слухи о якобы совершенно изменившемся отношении государя к великому князю — Верховному. Ставка из многочисленных писем, получавшихся петроградцами — чинами свиты и штаба, узнавала о всех петроградских салонных сплетнях, предметом которых была главным образом война, Ставка и отношение к ней государя. Письма же согласно вещали, что царь охладел к Верховному. Туг я должен сказать несколько слов о довоенном отношении царя и царицы к великому князю Николаю Николаевичу и его жене.
В Петербурге до войны все знали, что из всех великих князей самым влиятельным был Николай Николаевич. И на самом деле было так. Николай Николаевич пользовался у царя большим вниманием и имел на него большое влияние. Это объяснялось многими причинами: Николай Николаевич между великими князьями был старшим103; в государстве он занимал самые ответственные места — главнокомандующего Петербургским военным округом и председателя Комитета государственной обороны: царь признавал его государственный ум, а он всегда смело высказывал свое мнение и умел настоять на его исполнении: в бытность Николая Николаевича командиром лейб-гвардии Гусарского полка царь, тогда бывший наследником, служил в этом полку офицером и, как он сознался на одном из обедов в Ставке, привык бояться его. Возможно еще и то, что царь видел любовь к нему Николая Николаевича и не сомневался в совершенной его преданности и верности.
Было также время, что супруга Николая Николаевича Анастасия Николаевна (черногорка) со своей сестрой Милицей Николаевной, женой великого князя Петра Николаевича, находились в самой тесной дружбе е царицей Александрой Феодоровной. Дружба их развилась главным образом на религиозной почве: Милица Николаевна увлекалась богословием, царица — набожностью: Анастасия Николаевна тоже не отставала от своего мужа в религиозности. У всех них, не исключая и великого князя Николая Николаевича, религиозность была с мистическим пересолом, с надрывом: они все время ждали знамений и чудес, искали прозорливцев, пророков, святых. И нарвались на Распутина. Увлечение Распутиным началось с дома великого князя Николая Николаевича. Он сам однажды сказал мне: «Ужас в том, что Распутин прошел через мой дом». Найдя этого праведника, Милица и Анастасия Николаевны познакомили с ним царицу. А ту Распу-
401
тин очаровал не только своим таинственном даром врачевать больного наследника, но и своею дерзкою развязностью, с которою он осмеливался наставлять, а иногда и обличать царицу и царя и строго приказывать. В бессвязных изречениях тобольского мужика царица видела откровения свыше, самая дерзость Распутина казалась ей пророческой, святой. Генерал М.В. Алексеев однажды в беседе с царицей выразил удивление: что она может находить в этом грязном мужике? Царица ответила ему: «То, чего не могу найти я у наших митрополитов. Спросишь митрополита о чем-либо и получаешь ответ: «Как угодно будет Вашему Величеству». А мне-то хочется знать не то, как мне угодно, а как митрополит думает. У Распутина же всегда есть решительный, прямой ответ. Этим и нравится он мне».
Вскоре после того, как Распутин был введен в царскую семью, великий князь Николай Николаевич с черногорками очнулись от обаяния распутинского и решились поправить свою ошибку — раскрыть глаза царице. Но мистически истеричная царица уже так была очарована старцем, что он стал ей дороже всей ее высочайшей родни, в том числе и недавних ее наперсниц-черного- рок. Произошел полный разрыв между ними. В последние пред войной годы только на торжественных выходах черногорки встречались с царицей, но отношения между царем и Николаем Николаевичем как будто оставались прежние. Самое назначение последнего Верховным главнокомандующим свидетельствовало об этом. У меня нет фактических данных, но я убежден, что царица сильно не сочувствовала этому назначению: религиозность не мешала ей быть чрезвычайно властной и славолюбивой — она мечтала о великом царствовании своего сына, о славе своего мужа. Что не имевший ни способностей, ни знаний, необходимых для верховного командования на войне армией, царь после объявления войны решил стать Верховным — это произошло не без настояния царицы.
Доходившие из Петрограда слухи об изменившемся отношении царя к нашему Верховному сильно беспокоили Ставку. Не только в Ставке, но и во всей армии великого князя продолжали любить, а главное, продолжали верить ему и считать, что никем другим он не может быть заменен. Замечательно, что все ошибки Ставки, а их указывали много, ставились в вину генералам Янушкевичу, Данилову, а великий князь представлялся жертвой этих бездарных помощников. О замене великого князя самим государем думали только самые черносотенные генералы, как, например, А.Д. Нечволодов, огромное же большинство страшились такой возможности, считая, что не подготовленный к верховному командованию царь должен оставаться в Петрограде и там заниматься государственными делами, а не бросаться на управление сложными и опасными для его престижа военными операциями.
402
Наконец, в Ставке разнеслась весть: государь приезжает. Ставка восприняла это известие как радостный знак царского благоволения и к Верховному, и к Ставке, обещающий благие последствия: приедет царь, побеседует по душам с Верховным, и все недоразумения, если они были, исчезнут и утвердится между ними согласие. Так рассуждали в Ставке.
Начались приготовления к встрече дорогого гостя. Комендант Ставки генерал Саханский изощрялся в искусстве, как представить царю в более красивом виде Ставку. Везде чистили, выметали, убирали. Для царского поезда было устроено место по другую сторону генерал-квартирмейстерского домика, шагах в 50 от великокняжеского поезда. Верховный заметно нервничал. Почти два месяца не виделся он с царем. За это время было пережито много событий, накопилось много вопросов, о которых требовалось переговорить с царем. Наконец, Верховный знал, что за эти месяцы много интриг было пущено с целью восстановить царя против него, что в особенности царица и Распутин усердствуют в этом. У Верховного были основания думать, что под влиянием таких интриг царь изменил свое отношение к нему, что прежних родственно-близких отношений между ними не стало. Еще более нервничали генералы Янушкевич и Данилов, знавшие, что ими очень недовольна армия, и теперь опасавшиеся, что и царь изъявит им свое неудовольствие. Нервность старших передавалась всей Ставке.
Царский поезд прибыл 21 сентября, в воскресенье. Великий князь с генералом Янушкевичем встретили царя на вокзале. Весь штаб поджидал государя в штабной церкви. Вошедшего в храм царя я встретил приветственной речью. Тут произошел неприятный случай: только я начал свою речь, как потухло электричество, а день был пасмурный, в храме водворился полумрак, только слабо мерцали поставленные в церковных подсвечниках пред иконами свечи: я кончал свою речь и пели затем молебен без электрического освещения, и лишь когда певчие запели «Тебе Бога хвалим», церковь озарилась ярким электрическим светом. В происшедшем многие увидели дурное предзнаменование: когда потухло электричество, полковник Генштаба С.М. Трухачев сказал: «Не к добру это!»
Государь пробыл в Ставке до вечера 24 сентября. Во все дни его пребывания в Ставке Верховный и старшие чины штаба завтракали и обедали у царя в его поезде. Царя мы видели всегда благодушным, и Верховного также не оставляло хорошее настроение. От него я узнал, что и встреча, и последующие разговоры с царем его радовали. Иногда у него прорывались фразы: «Всему она (царица) причиной! Не будь ее, совсем иным был бы он». Каждый вечер к Верховному заходил князь В.Н. Орлов и засиживался у него долго.
403
XX. Царь и Верховный главнокомандующий — великий князь. Распутин и царица против Верховного. Роль придворных — князя В.Н. Орлова и В.Н. Воейкова
В последующее время государь каждый месяц посещал Ставку и там оставался в течение двух-трех, а иногда и более дней. Каждый приезд его сопровождался знаками высочайших благоволения и милости. Славные и неславные военачальники украшались высокими знаками — орденами Святого Георгия разных степеней и разнообразными звездами. В один из осенних приездов царя и я, по представлению Верховного, был награжден орденом Владимира 2-й степени, а в январе 1915 г. — еще более высоким орденом. Святого Александра Невского. Таким образом, две новые звезды засияли на моей груди. Оба ордена я получил из рук самого государя при многомилостивых изъявлениях мне благодарности за отличную, самоотверженную службу. Но если бы царские звезды и высокие ордена делали жалуемых ими более зрячими, чистыми, самоотверженными, более мудрыми! А то часто они надмевали людей, развивая в них вредную для службы важность и неприступность, оскорбительную для других чванливость и легкомысленную самоуверенность. Совершенно искренно признаюсь, что на меня жалуемые звезды не производили никакого впечатления: чувствовались мне их суетность, непрочность и даже для тогдашнего моего дела малоплодность, ибо с ними и без них я одинаково делал бы свое дело. А потом... Обо всех украшавших мою грудь звездах и вспоминать приходится как о совершенно бесполезной для дальнейшего существования вещи.
В частности, в отношении георгиевских кавалеров мне и другим приходилось наблюдать неприятнейшие случаи. Как известно, Георгиевский крест давался за мужество и храбрость; награжденному он открывал широкий путь к блестящей карьере. Случалось же так, что раньше славившийся храбростью георгиевский кавалер по получении ордена храбрых переставал быть храбрым, берег себя, сторонился от всякой опасности. У других развивалась отвратительная жестокость, когда они с легким сердцем укладывали дивизии и корпуса, лишь бы украсить и шею свою следующим Георгием...
Во время первого и следующих приездов царя в Ставку ряд высоких наград выпал на долю «счастливцев»: Верховный, генералы Иванов, Рузский были награждены Георгием 3-й и 2-й степени, генералы Рузский и Брусилов пожалованы в генерал-адъютанты, Янушкевич и Данилов украсились Георгиями 4-й степени и были произведены в полные генералы. И так далее. Последняя награда для генералов Янушкевича и Данилова, совсем недавно произве-
404
денных в генерал-лейтенанты, была столь поспешной, что старшинство в пожалованном чине начиналось для первого 6 декабря 1919 г., а для второго — 7 апреля того же года.
Что же сталось с наградами и награжденными? Награды Янушкевича и Данилова вызвали в армии еще большую ненависть к ним. Было много разговоров и по поводу всех прочих наград. А дальше? Все награжденные только в разное время и разными путями ушли в сырую землю: генералы Янушкевич и Рузский были зверски убиты; бывший Верховный — великий князь Николай Николаевич — и Данилов умерли в изгнании во Франции. Великий князь после несметного российского богатства доживал свои дни в нужде. Брусилов похоронен в Москве, а Иванов — в Новочеркасске. Я зарыл свои российские звезды в русской земле, а сам 78-летним старцем продолжаю оставаться странником в чужой державе, терпеливо доживая дни свои. «Суета сует — все суета!» — сказал ветхозаветный мудрец (Еккл. 1, 2). «Sie transit Gloria mundi», — говорилось у римлян.
Государь приезжал в Ставку всегда со значительной свитой. Лица свиты менялись, но три человека всегда сопутствовали ему: начальник походной канцелярии, свитский генерал-майор князь В.Н. Орлов; комендант, свитский генерал-майор В.Н. Воейков и гофмаршал, свитский генерал-майор князь В.А. Долгорукий. Последний был безгранично предан царской семье и вместе с нею погиб в Екатеринбурге, но политикой он не занимался и в дела, не касавшиеся царской кухни, никогда не путался. Первые же два играли немаловажную роль в придворной политике.
Между князем В.Н. Орловым и В.Н. Воейковым только и было общего, что оба они были преданы своему государю. Но и преданность у них была разная: князь Орлов был предан, потому что любил своего государя и чтил его как помазанника Божия; Воейков был предан в расчете, что его преданность будет вознаграждена царскими милостями, он уже добился многого, его дальнейшей мечтой было место министра двора, которое занимал тогда быстро дряхлевший его тесть, граф В.Б. Фредерикс. Во всем прочем они резко различались. Князь Орлов был открыт, честен, прямолинеен, это был тип древнего русского боярина, не боявшегося и царям говорить правду. Воейков всегда был себе на уме, скрытен, осторожен, хитер. Князь Орлов был умнее и смелее Воейкова, а тот был практичнее и хитрее князя. Орлов мог только служить, а Воейков мог и прислуживаться. Первый считал своим долгом оберегать царя не только от физических опасностей, но и от дурных влияний, а второй в первую очередь оберегал свою особу от каких-либо неудовольствий со стороны царя и царицы. Князь Орлов гораздо лучше Воейкова разбирался в политике, зато Воейков был большим мастером торговых и церемониальных дел. Отношения между князем Орловым и Воейковым были от-
405
вратительными: князь презирал Воейкова за его меркантильность, неискренность, пронырливость, ловкачество и неразборчивость в средствах и не упускал случая, чтобы уязвить его: в свою очередь, Воейков ненавидел князя Орлова за его резкость и язвительность, за его моральное превосходство, ненавидел и как неизбежного конкурента на пост министра двора. В отношениях между царем и Верховным оба они, как увидим, играли большую роль. К сказанному надо добавить, что Воейков был весьма обязан великому князю, который, избрав его в командиры лейб-гвардии Гусарского полка, тем самым приблизил его к царю. Однако Воейков был из тех, которые ради своей карьеры преспокойно жертвуют чувством благодарности.
Из изданных в Берлине в 1922 г. книгоиздательством «Слово» «Писем императрицы Александры Феодоровны к императору Николаю II» видно, какие страхи внушала этой царице Ставка. Ориентируемая генералом Воейковым и флигель-адъютантом Н.П. Саблиным, подстрекаемая Распутиным, царица видела в Ставке заговор, измену, страшилась усиливгшшегося влияния великого князя Николая Николаевича. Уже 20 сентября 1914 г., в день первого отъезда царя в Ставку, она пишет мужу: «Наш Друг... всегда боится, что галки104 хотят, чтобы он105 достал трон П.106 или Галицкий»107. Вспоминая прошлое, она 5 ноября 1916 г., пред приездом великого князя Николая Николаевича в царскую Ставку, предупреждает Николая II: «Вспомни во имя России, что они108 хотели сделать — выгнать тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумааги были готовы) — а меня в монастырь»109. Предостережениями царя, что Николаша (великий князь Николай Николаевич) все больше захватывает в свои руки власть, умаляя этим престиж императора, пестрят все ее письма. В действительности же дело обстояло совсем не так страшно.
Когда великий князь Николай Николаевич получил увольнение от должности Верховного главнокомандующего, я не удержался сказать ему: «За что так карает вас государь? Ведь вы верноподданный из верноподданных». «Да! Я действительно верноподданный из верноподданных. Меня так воспитали, чтобы я всегда помнил, что он мой государь. Кроме того, я как человека его люблю», — выпрямившись во весь рост, ответил мне великий князь. Все обращение Николая Николаевича свидетельствовало о его исключительной любви и почтительности к своему государю. Он никогда не обращался к царю иначе, как «Вы», «Ваше Величество», хотя царь всегда называл его на «ты: «Ты, Николаша». Беседуя с царем, держал себя скромно, руки по швам. Это в особенности бросалось в глаза при сравнении его с другими, в первую очередь с маленькими князьями — Константиновичами, Дмитрием Павловичем, которые позволяли себе совсем фамильярно обращаться с царем.
406
Со мною великий князь был всегда откровенен. Я многократно видел его страшное возмущение Распутиным, многократно слышал его чрезвычайно резкие отзывы об императрице, вредно влияющей на царя, ведущей его к гибели и для спасения царя и Родины нуждающейся в одном — в заключении в монастырь. Но к царю он был всегда снисходителен и сострадателен: тяжело переживал его ошибки, старался оправдывать его слабость. Каждую награду, давалась она ему или кому другому, он расценивал прежде всего как царскую милость и потому дорожил ею. Он чрезвычайно ценил каждое ласковое царское слово, а всякий намек на какое-либо царское неудовольствие чрезвычайно огорчал его. Но с другой стороны, он и еще больше великие княгини Анастасия и Милица Николаевны своими неосторожными суждениями и действиями давали основание агентам царицы подозревать какие-то преступные планы.
И письма императрицы, и мои личные наблюдения не оставляют у меня никакого сомнения, что в Ставке всегда, а в особенности во время пребывания в ней государя, шла усиленная слежка и за Верховным, и за всеми заподозренными лицами, не исключая и некоторых, как князь Орлов, лиц царской свиты. Князь же Орлов, всегда сопровождавший царя в его поездках, прибыв в Ставку, ежедневно в десятом часу вечера приходил к Верховному и засиживался у него до позднего времени. Скрыть посещения князя Орлова нельзя было, да он и не пытался скрывать их. О чем беседовали Николай Николаевич и Орлов? Мне, знавшему настроение их обоих, нетрудно ответить на этот вопрос. Они оба лютой ненавистью ненавидели Распутина, ненавидели и императрицу, в которой видели главное зло, главную причину правительственных неурядиц. Оба они пытались найти способ, чтобы освободить царя от пагубного влияния этих двух людей. Летом 1915 г. у Верховного стали прорываться фразы, что для спасения царя и государства надо заключить царицу в монастырь, и тогда все пойдет по-иному, и царь станет совсем иным. И это говорилось не только в моем присутствии, но и в присутствии других чинов штаба. А ведь у некоторых людей бывает особого рода страсть — хвастать слышанным от сильных мира.
Еще более невоздержанны были в разговорах черногорки, особенно Анастасия Николаевна, менее умная и более болтливая, чем ее сестра Милица. В Ставку Анастасия Николаевна приезжала всего один раз — на именины своего мужа (27 июля). Тогда я слышал от нее целые филиппики по адресу царицы и ее «друга» Распутина. В Киеве сестры, конечно, давали волю своим языкам. Возможно, ими там говорилось, что настало время маленького безвольного Николая II заменить величественным Николаем III, наследником которого как бездетного станет сын Милицы князь
407
Роман Петрович. Сестрам улыбалась перспектива: одной стать царицей, а другой — матерью наследника престола. А в Киеве было достаточно дворцовой, подчиненной генералу Воейкову полиции: ведь там кроме черногорок жила еще царица-мать.
Раз или два великие княгини-черногорки приезжали из Киева в Петроград и останавливались во дворце великого князя Петра Николаевича на Мойке. Мне сообщали, что князь Орлов ежедневно навещал их там. Надо сказать, Орлов был несдержан в разговорах и часто говорил такие вещи, с которыми не могла мириться придворная политика. В уверенности в крепкой любви к нему царя, в надежде на свою родовитость и на свое огромное богатство он не стеснялся обличать зло, от кого бы оно ни исходило. Чаще всего доставалось от него генералу Воейкову, которого он старался уязвить при всяком удобном случае. И князь Орлов, подобно великому князю Николаю Николаевичу и черногоркам, часто высказывал мысль, что главное зло — в царице, что посадить ее в монастырь — и государственная жизнь пойдет по-иному.
Все подобные речи были только опасной болтовней. Я не представляю себе, как это было бы возможно жену царствующего самодержавного императора, горячо любимую им, оторвать от него и заточить в монастырь. Чтобы осуществить такой план, надо было бы сначала обезвластить самого императора. Но верноподданные из верноподданных — великий князь Николай Николаевич и князь Орлов — тогда были очень далеки от подобной мысли, А между тем и в Ставке, и в Киеве, и в Петрограде такие разговоры подслушивались и сообщались царице, а та придавала им большую цену, чем они стоили.,.
Не могу тут не высказать своего впечатления от многократных встреч с сестрами-черногорками. Обе они были черные и властные. Обе окончили курс Николаевского Смольного института. Обе получили одинаковое первоначальное воспитание в конаке черногорского короля Николая, наложившее след на всю их последующую жизнь. Доктор Б.З. Малама, несколько раз вместе с великим князем Николаем Николаевичем гостивший у короля Николая, рассказывал мне о жизни этого полувосточного правителя, Весь уклад королевской жизни был патриархальным. И отношения короля со своими подданными были патриархальными: в королевстве не было человека, которого не знал бы король, но и не было дома, с которого он не получил бы ту или иную взятку. Воспитание в отцовском доме отражалось на обращении великих княгинь с прислугой. Гофмаршал великокняжеского двора, ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка (синих кирасир) Вольф рассказывал мне, что Анастасия не стеснялась иногда заушать своих горничных. Свою верную фрейлину Петерсон она уволила, ничем не обеспечив ее, и уже царица, сжалившись над обиженной, исхлопотала ей пенсию110. Сам Вольф однажды гру-
408
бостью великой княгини был доведен до такой степени, что явился к великому князю просить его об освобождении от придворной должности, так как он не в силах дальше переносить грубости великой княгини. Великий князь несколько раз молча прошелся по кабинету, а потом спросил Вольфа: «В течение дня вы сколько времени бываете с великой княгиней?» «Минут десять», — ответил Вольф. «Десять минут... И не можете ужиться. А я все время с нею и однако живу. Идите с Богом! И продолжайте служить у меня», — сказал великий князь. Неудивительно, что все чины великокняжеского двора очень любили великого князя, раньше бывшего очень резким и даже грубым, а потом ставшего чрезвычайно ласковым, внимательным и заботливым о своих подчиненных, и более чем холодно относились к его благоверной супруге.
Милица была гораздо умнее и образованнее своей сестры. В особенности она увлекалась богословием и, в частности, святоотеческой литературой. На этой почве у нее завязалась большая дружба с известным аскетом того времени, инспектором, а потом ректором Санкт-Петербургской духовной академии, архимандритом, а потом епископом Феофаном (Быстровым), дружба, приведшая ее к знакомству и дружбе с Распутиным. Насколько помнится мне, по представлению епископа Феофана она была избрана почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии. Богословская начитанность и мистическое настроение Милицы Николаевны производили неотразимое впечатление на набожного, также увлекавшегося мистикой великого князя Николая Николаевича. В доме, в жизни, в направлении деятельности этого великого князя Милица Николаевна играла большую роль. Великий князь ценил ее мнение, прислушивался к ее советам. В семье великого князя она была чем-то вроде авгура. Анастасия Николаевна более всего интересовалась славой своего мужа и хозяйственными делами, но в мистических увлечениях старалась не отставать от своего мужа и своей старшей сестры.
Чинам Ставки очень заметно было неодинаковое отношение Верховного к князю Орлову и генералу Воейкову: к первому Верховный относился с изысканной любезностью и предупредительностью, со вторым он держал себя сухо-официально, здороваясь, как бы нехотя протягивал руку, разговаривал только по служебным делам. В отношениях Верховного к Воейкову чувствовалась не только холодность, но и своего рода брезгливость, глубокое нерасположение. А все знали, что генерал Воейков был женат на дочери всеми, в том числе и Верховным, уважаемого министра двора графа В.Б. Фредерикса, раньше был очень близок к теперешнему Верховному, когда тот был главнокомандующим Петербургским военным округом и своей блестящей карьерой в значительной степени был обязан ему.
409
Из отдельных фраз Верховного я вынес заключение, что он так относился к Воейкову, потому что считал его своим недоброжелателем, перекинувшимся в распутинскую клику, опутавшую царицу, шпионом царицы, вредным для государства человеком. В таком представлении Верховного верно было только то, что Воейков, как покорный раб, усердно исполнял веления своей госпожи и сообщал ей все замеченное им и его подручными в лагере ее противников. Этим он выслуживался пред нею. Но генерал Воейков не мог быть уверенным, что песня великого князя Николая Николаевича спета, что он у слабовольного царя не приобретет снова того внимания и влияния, какими он пользовался до войны. Поэтому, «верноподданно» служа царице, он пользовался случаем, чтобы услужить и великому князю. Иначе нельзя объяснить обращение царицы к своему мужу; «Подтяни Воейкова, если он дурит, я уверена, что он боится встретить там людей, которые могут подумать, что он был против Н. (Николаши) и Орлова, и, чтобы сгладить впечатление, он тебя просит за Н. (Николашу) — это было бы самой большой ошибкой и уничтожило бы все то, что ты так отважно... И весь большой внутренний бой оказался бы бесплодным»111.
Распутинцем же генерал Воейков никогда не был и не мог быть и по складу своего ума. и по настроению своего сердца. Я имею основания думать, что он презирал и ненавидел Распутина не менее, чем великий князь Николай Николаевич, князь Орлов и другие, но борьбу с Распутиным он считал для своей карьеры опасной, проигрышной, а физическое устранение старца он не мог совершить по моральным основаниям. Когда в марте 1916 г. я сказал ему. что в армии сильно обвиняют его за то, что он не борется с опасным влиянием Распутина на царскую семью, он мне нервно ответил: «Легко обвинять... А что я могу сделать, чего они хотят от меня? Если бы я с пятого этажа бросился вниз головой, была бы кому от этого польза? Ничего нельзя сделать!..» А когда я сказал ему, что я все же хочу поговорить с императором о Распутине, он, улыбаясь, сказал: «Поговорите. Может быть, что и выйдет». Не находя, таким образом, ни средств, ни способов успешной борьбы с роковым старцем. Воейков повел иную линию: он игнорировал распутинский вопрос, как будто его совсем не было, и усердно исполнял лежавшие на нем полицейские обязанности при Дворе, не исключая и слежки за противниками Распутина, которых царица, как видно из многократных заявлений в ее письмах, считала своими и престола врагами.
Так действовал не один Воейков, а и некоторые другие — большинство члены царской свиты. Обер-гофмаршал двора, разумный и благородный граф П.К. Бенкендорф отстранился от распутинского дела, потому что он «католик и ему нельзя путаться в православно-религиозные дела». Как будто Распутин был вырази-
410
телем православия... Умный и прямолинейный лейб-хирург профессор С.П. Федоров, когда я в задушевной беседе высказал ему, что ему следовало бы серьезно поговорить с царем о Распутине, ответил мне, что он в эти дела не путается, что его дело — лечить наследника и он честно исполняет свой долг, а Распутиным пусть занимаются другие. Другие члены царской свиты, такие как адмирал К.Д. Нилов, гувернер наследника П.В. Петров, презирали, ненавидели Распутина, за глаза ругали его, а заодно с ним и царицу, но их ругань не приносила никакой пользы. К чести Воейкова надо сказать, что, хотя он и не оказывал противодействия Распутину, но он и не пресмыкался пред старцем, как это делали некоторые министры, например Штюрмер, Протопопов, Шаховской112 и даже умный Барк113 и честный старик Горемыкин114; как унижались митрополиты Петроградский Питирим, Московский Макарий и многие архиепископы и епископы, и многие, многие, им же несть числа, высшие и средние сановные лица. Надо ли тут упоминать о множестве великосветских дам, которых Распутин умел покорять одним своим взглядом. Царский духовник протоиерей А.П. Васильев подтверждал мне верность ходившего в Петербурге слуха, что 12 фрейлин, княгинь и графинь смиренно мыли в бане Григория Ефимовича Распутина, а Распутин находил весьма благочестивым такое упражнение. Семья — жена и дети этого царского духовника — при встрече с Распутиным целовали его руку, а сам духовник этого тобольского конокрада и развратника считал великим праведником. В этой многочисленной компании, пожалуй, самым честным к благонамеренным был сам Распутин, ибо влияние пришло к нему само собою и он дальше действовал открыто, не скрытничая, не притворяясь, не утаивая своих страстей и недостатков и даже не ища своей выгоды и наживы. Генерал Воейков был гораздо выше всех таких поклонников старца, своим низкопоклонством пред тобольским мужиком пробивавших себе путь к высоким должностям или упрочивавших свое положение.
Ко мне генерал Воейков относился весьма доброжелательно. Он видел, что меня очень ценили и Верховный, и государь, и гордился тем, что он выбрал меня в протопресвитеры. Из бесед с ним я вынес впечатление, что он недооценивал влияние царицы и Распутина на государя и на государственные дела. Весьма ловкий и практичный в житейских делах и наблюдении за внешним порядком, тут он оказывался недальновидным, не в меру оптимистом. Считая своей обязанностью оберегать царя от внешних опасностей и блестяще выполняя эту обязанность, он совершенно забывал о другой своей обязанности — спасать царя и от злых влияний. Катастрофы он не прозревал, не допускал возможности ее. В беседах с генералом Воейковым я был откровенным. Да и нечего было мне скрывать от него. Но потом меня предупредили,
411
чтобы я в разговорах с этим генералом был осторожнее, дабы не повредить и другим, и себе.
Вообще в то время трудно было разбираться, где свои и где чужие, кто противники и кто сторонники Распутина. Меня нисколько не удивляло, что более ханжа, чем обер-прокурор Святейшего Синода, легкомысленный и неразборчивый в средствах В.К. Саблер ухаживал за Распутиным: что невысокого ранга чиновник, умственно и нравственно ничтожный князь Жевахов, пролезая в товарищи обер-прокурора Святейшего Синода, заискивал перед Распутиным. Еще менее меня удивляет, что растерявший полученные в военных школах знания, забросивший генеральские занятия и собиравший молитвенники115, слащавый, низкопоклонный, неприятный старик генерал Н.К. Шведов, пробираясь к обер-прокурорскому в Святейшем Синоде креслу, пресмыкался пред Распутиным, называя его «отцом Григорием». За свою преданность старцу он потом был награжден назначением с 1 января 1917 г. членом Государственного Совета. Но меня чрезвычайно удивило сообщение императрицы, что генерал Шведов пробирался к Распутину чрез главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерал-адъютанта Н.И. Иванова116, что этот генерал-адъютант сплетничал на генерала М.В. Алексеева, не сочувствовавшего дружбе царицы с Распутиным117, и, очевидно, за свою преданность распутинской клике был превозносим Распутиным, старавшимся провести его в военные министры. Об этом упоминается во многих письмах императрицы. А ведь генерал Н.И. Иванов был очень набожным человеком. Но и царский духовник протоиерей А.П. Васильев тоже был набожен. Набожность бывает неприятной и опасной, когда она соединяется с недомыслием или фанатизмом, и становится омерзительной и вредной, когда ею начинают управлять расчет и подлость.
XXI. Впечатления от царских приездов в Ставку Верховного главнокомандующего
Государя я в первый раз близко увидел и разменялся с ним несколькими фразами 9 марта 1903 г., когда он посетил Академию Генштаба и академическую Суворовскую церковь. Я встретил его в церкви. Государь очень внимательно осмотрел всю церковь, заинтересовавшись в особенности оставшимися от времени Суворова предметами: Евангелием, Апостолом, по которому сам Суворов читал, кадилом, которое сам Суворов подавал служившему священнику, подсвечником, который он выносил. Наконец государь, обратил внимание на прикрепленную к правой церковной внутренней стене большую плиту из белого мрамора с надписью:
412
«Здесь лежит Суворов». «Почему эта плита здесь прикреплена?» — спросил государь. Начальник академии генерал Владимир Гаврилович Глазов смутился. Я выручил его. «Эта плита. Ваше Величество, раньше лежала на могиле Суворова в Благовещенской лаврской церкви. Потом ее заменили другою с титулом Суворова — князь Италийский, граф Рымникский, генералиссимус Российских войск и так далее — и датами его рождения и кончины, а ее нам отдали. «А этак лучше было: «Здесь лежит Суворов», — сказал государь.
Вторая моя встреча с государем была в марте 1906 г., когда я по возвращении с Русско-японской войны представлялся ему в царскосельском Малом дворце. Представлялось более 15 человек военных и моряков, я как бывший главный священник 1-й Маньчжурской армии и доктор Склифосовский, бывший главный медицинский инспектор 3-й Маньчжурской армии. Нас выстроили в шеренгу в зале. Вышедший к нам из кабинета государь каждому из нас подавал руку и с каждым обменивался несколькими фразами. Я внимательно следил за каждым словом, за каждым движением царя. Государь удивил меня тогда своей памятью: он припоминал мельчайшие подробности из жизни частей, к которым принадлежали представлявшиеся, вспоминал встречи: мичману Иванову 16-му вспомнил, в каких боях участвовал его корабль, какие понес потери и так далее. Иных спрашивал об их семейном положении, раненых — о состоянии их здоровья. Однако при всем своем благоговении пред государем я вышел с приема неудовлетворенным однообразными, шаблонными вопросами государя. Все его вопросы напоминали: «Здравствуйте! Как поживаете? Я знал ваших дедушку и бабушку, несколько раз обедал у них». А я ждал от государя таких вопросов, ответы на которые дадут ему ценные сведения.
Следующая моя встреча с государем была 6 мая 1911 г., когда в том же царскосельском дворце я представлялся ему как протопресвитер армии и флота. Об этой встрече уже сказано. После я очень часто, иногда по три-четыре раза в месяц видел государя на парадах и следовавших за ними завтраках, при освящении соборов и церквей. При каждой встрече государь обменивался со мною двумя-тремя фразами, и только. Более продолжительный разговор с царем я имел 20 октября 1913 г. при докладе об освящении мною лейпцигского храма. Но все эти встречи не создали во мне определенного духовного образа государя. С одной стороны — благоговение пред царем, с детства внушенное мне, его чудные глаза и постоянная приветливость. С другой стороны — невзрачный, совсем не царский его вид, распространявшиеся слухи, что он безволен, малообразован, неумен, что им командуют его истеричная жена и развратный тобольский мужик... Я блуждал между этими двумя крайностями, не найдя опреде-
413
ленной точки опоры. Приезды государя в Ставку дали мне возможность разобраться в моих чувствах и составить более определенное представление о нем.
Как я уже сказал, во время пребывания государя в Ставке я приглашался ко всем царским завтракам и обедам, происходившим почти всегда в вагоне-столовой. Мне приходилось сидеть вблизи государя: я мог слышать каждое его слово: всякий раз после еды он беседовал с приглашенными, в том числе и со мною. Я, кроме того, узнавал государя из бесед с его приближенными и Верховным. Таким образом, в Ставке у меня составился законченный образ тогдашнего российского самодержца.
Кто видел мощную, величественную, действительно самодержавно-царственную фигуру императора Александра III, тому не мог импонировать наружный вид преемника этого могущественного императора. В императоре Николае ничего не было отцовского, начиная с его наружного вида. Тот был великаном, во всем смелым, решительным и когда надо — грозным. Император Николай II был невысокого роста, щупленький. В 1914 г. ему шел 47-й год, а он еще выглядел молодым человеком. В обращении с людьми он был очень мягок, деликатен, скромен, застенчив. Он по большей части соглашался с мнениями докладчиков: в случаях же несогласия он выражал свое мнение кротко, деликатно, как бы предположительно. Решившись уволить неудавшегося или ставшего неугодным министра, император Николай с особенной любезностью, не подавая вида, что завтра этот министр перестанет быть министром, выслушивал его доклад, а на следующий день очарованный исключительной любезностью как знаком особенной царской милости, министр с удивлением читал собственноручное письмо монарха, в котором тот, рассыпаясь в благодарностях за службу, извещал его, что по стечению разных обстоятельств он освобождается от должности министра. Так было с графом В.Н. Коковцевым, В.А. Сухомлиновым, В.К. Саблером и многими другими. У царя не хватало духу сообщить министру неприятную весть, и он прибегал к такой форме, за которую некоторые называли его иезуитом. А тут иезуитского ничего не было, а была робость, заставлявшая царя избегать неприятных личных объяснений, обид и тому подобного. При разговорах с представлявшимися императору Николаю II приходилось иногда выслушивать большие нелепости и глупости, на которые его отец, да и иной император ответил бы соответствующей репликой. Император Николай II делал вид, что не замечал глупости, или же очень деликатно, чтобы не обидеть собеседника, возражал на нее. Даже при неприятных ему докладах он всегда благодарил докладчика, хоть эта благодарность не мешала ему потом в беседе с царицей высказать свое неудовольствие по поводу сопровождавшегося благодарностью доклада. Царя обвиняли за это в не-
414
искренности. А тут кроме нежелания обидеть докладчика его «заставляла» лицемерить боязнь вызвать неудовольствие грозной императрицы.
От отца император Николай II унаследовал огромную физическую силу и аристократическое благородство. Об императоре Александре III рассказывают, что он преспокойно сгибал серебряный рубль. Я не видел, чтобы Николай II проделывал то же, но силу его рукопожатия я испытывал всякий раз, когда он здоровался со мной. А его выносливость была исключительной: в Барановичах, а потом в Могилеве осенью и зимой, какая бы ни случалась погода, он, выехав за город, в одной рубашке совершал ежедневные десятиверстные прогулки пешком. В январе 1916 г. на праздник Богоявления в трескучий мороз он с открытой головой, в легкой шинели сопровождал крестный ход от штабной церкви до устроенной на реке Днепре иордани и обратно, а от церкви до иордани было более версты. В этом тщедушном на вид человеке таились огромные крепость и сила.
В моральном отношении государь стоял выше всяких подозрений. Это был образцовый семьянин, верный супруг, безгранично любивший и жену, и детей своих. Он с отвращением относился ко всякой человеческой моральной нечистоплотности и тем более подлости. Я сам слышал, как однажды во время завтрака в Ставке сказал он: «Этот кронпринц... Болван. Руку подал... Кому? Энверу, убийце!» Речь шла о германском кронпринце. Во время войны ходили тревожившие многих слухи, что государь может заключить сепаратный мир с немцами. Абсурдность таких слухов не подлежала сомнению: по своим религиозным и моральным убеждениям государь не мог пойти на это.
Кстати, о религиозности государя. Приезжая в барановичскую Ставку, государь не пропускал ни одного воскресного или праздничного дня, чтобы не отстоять литургию в штабной церкви. В церкви он стоял с вниманием, вникая в смысл всего совершавшегося. Пение «Тебе поем...» и «Отче наш...» выслушивал, стоя на коленях. В богослужении он ценил простоту, естественность, разумно-благоговейную отчетливость. Он был сторонником старых напевов и старых композиторов, а новые композиторы, многое заимствовавшие от светской музыки, не нравились ему. В Могилевской Ставке я еще лучше понял отношение государя к Церкви и богослужению. Он любил богослужение в некотором отношении эгоистично: потому что оно успокаивало, ободряло его. Однажды в Могилеве он сказал мне: «Сегодня мне не удалось побывать на службе у вас. И так это неприятно. Когда побываешь в церкви, так легко становится на душе. Возвращаешься из церкви совсем иным человеком». Забота же о спокойствии в жизни государя занимала важное место. Однажды он сказал министру иностранных дел С.Д. Сазонову: «Я, Сергей
415
Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и считаю, что только так можно править Россией. Если бы я все принимал близко к сердцу, я давно был бы в гробу». Это я слышал от самого С.Д. Сазонова. Такое настроение царя не могло считаться блестящим и многообещающим. Но это было так. Наш последний царь был фаталистом. Фаталистом, покорно подчинявшимся судьбе и не задумывавшимся над ударами, которые она ему наносила. Религиозность помогала ему переносить их.
Однако бывали моменты, когда становилось обидно за царя, ни над чем не задумывавшегося. Вспоминается мне несколько таких моментов. Сольдаусская катастрофа, предвещавшая и в будущем великие неудачи. Виноват в ней не генерал Самсонов, заплативший за эту неудачу своей смертью, а штаб фронта, бросивший не готовую к бою 2-ю армию в единоборство с вооруженным с ног до головы сильнейшим противником. Виновата, вероятно, была и Ставка Верховного, не сделавшая все зависевшее от нее. Катастрофа потрясла Верховного. Его пугала не только постигшая неудача, но и мысль, как отнесется к разгрому 2-й армии государь. А государь ответил Верховному: «Будь спокоен: претерпевший до конца спасется» (Мф. 10, 22).
7 мая 1915 г., в четверг, Верховный чествовал пребывавшего в Ставке государя обедом. Вина и закуски специально были привезены из Петрограда. Обед происходил в большой палатке, поставленной рядом с поездом Верховного. За столами сидело более 50 человек. Обед проходил весело. Царь и Верховный были в отличном настроении. В самый разгар обеда в палатку вошел дежурный адъютант Верховного, поручик князь В.Э. Голицын. Проходя мимо меня, он шепнул: «Адмирал Эссен скончался». Меня как громом поразило это известие. Я успел знать адмирала Н.О. Эссена, проникнуться к нему глубоким уважением как к блестящему флотоводцу и любовью как к удивительному человеку. У него счастливо соединялись блестящий ум моряка, огромная воля и такая же любовь к своему делу. Будучи строгим и требовательным начальником, он привлекал к себе подчиненных своей общительностью, доступностью, сердечностью и строгостью прежде всего к самому себе. Занимая высокий и весьма ответственный пост командующего Балтийским флотом, адмирал Н.О. Эссен мог удивлять всякого скромностью в жизни. Я сам был удивлен, посетив его на квартире. Небольшая квартирка в четвертом или пятом этаже на невзрачной 6-й Рождественской улице, на Песках, с низким потолком и простенькой обстановкой. Я уверен, что редкий младший морской офицер удовлетворился бы ею. Хотя адмирал Эссен был лютеранином, но он очень ценил работу духовенства во флоте и старался помочь мне поднять духовное дело на кораблях. Не раз мы с ним беседовали о желательной деятельности духовенства во флоте. Мои собствен-
416
ные наблюдения при посещении кораблей Балтийского флота и слышанные мною отзывы многих моряков убедили меня, что адмирал Эссен был замечательным флотоводцем, поднявшим Балтийский флот на чрезвычайную высоту, достигшим того, что этот значительно меньший германского флот был страшен для немцев118. В российском флоте не было другого человека, который мог бы вполне заменить Эссена. Я задрожал, услышав от Голицына ужасную весть. Голицын отдал телеграмму Верховному, а тот, прочитав ее, передал государю. При чтении телеграммы у государя пробежала по лицу скорбная тень. Сказав два-три сочувственных слова, он обратился ко мне, может быть, заметив мое волнение: «А вы, о. Георгий, хорошо знали адмирала Эссена?» «Очень хорошо. Ваше Величество! Замечательный был человек», — ответил я. Этим и кончилась царская скорбь по поводу потери незаменимого флотоводца. Обед пошел своим порядком, веселье возобновилось...
Ноябрь 1916 г. Неспокойно в России. Мрачные облака ходят над нею, надвигается великая гроза. Слепые видят приближение ее, глухие слышат приближающиеся ее раскаты. А царь по-прежнему не задумывается... Начальник штаба генерал М.В. Алексеев в ужасе от царского спокойствия: «Что можно сделать с этим ребенком?! Пляшет над пропастью и спокоен», — чуть не со слезами говорит он мне. Я не присутствовал при отречении царя, не видел его в заточении, но я убежден, что он и тогда не задумывался, веруя, что «претерпевший до конца спасется». И счастливая, и несчастная натура...
Начиная с умного, честного, преданного престолу и Родине начальника штаба генерала М.В. Алексеева, кончая младшими офицерами многие невольно приходили к мысли, что не для данного момента, не для великой, взбаламученной войной России этот царь. Становилось обидно за царя, страшно за Россию. Вырывались резкие слова осуждения у одних, возмущения — у других. Верноподданническая любовь к царю в войсках заметно слабела. А у тех, кто встречался лицом к лицу с царем, кто заглядывал в его удивительные, полные тоски и ласки глаза, кто испытывал его приветливость и участливость, тому становилось жаль этого доброго и благородного человека, волею судьбы принявшего на свои слабые плечи непосильное бремя управления Российским государством, может быть, в самый тревожный и опасный момент его истории.
За время частого общения во время войны с государем я подметил еще одну черту его характера. Государь быстро привязывался к людям. У каждого новоназначенного им министра, военачальника. приближенного был свой медовый месяц, когда он пользовался неограниченным вниманием и доверием государя. Но привязанность государя никогда нельзя было считать проч-
417
ною, долговечною: под влиянием царицы, Распутина и разных наушников он также быстро мог разочаровываться, как и очаровывался. От любви его недалеко было до опалы. Самый влиятельный из всех великих князей великий князь Николай Николаевич и самый преданный и верный из всех приближенных князь B. Н. Орлов в августе 1915 г. стали опальными, поднадзорными. Такая же или почти такая участь постигла и многих министров, в том числе и самых сильных, лучших из них — П.А. Столыпина, C. Ю. Витте и других. В этом отношении государь представлял полную противоположность своей матери, которая до гроба верною оставалась тем, кто верно служил ей.
Каждый из возлюбленных государем имел свой медовый месяц, когда он мог пользоваться неограниченным влиянием на государя и быть всемогущим. В марте 1916 г. главнокомандующий Северным фронтом генерал А.Н. Куропаткин говорил мне: «Скажите Михаилу Васильевичу119, что теперь его медовый месяц, теперь он может добиться, чего захочет, от государя. Пройдет время, и царь охладеет к нему, тогда труднее будет». А Куропаткин, долго занимавший министерский пост, хорошо знал нрав государя. Приблизительно то же говорил мне в июле того же года состоявший при генерал-адъютанте Н.И. Иванове полковник Генштаба Борис Семенович Стеллецкий: «Я считаю вас великим преступником: вы не пользуетесь своим положением при государе. Разве вы не видите, как он вас любит? Выходя из своего кабинета к завтраку или обеду, он глазами прежде всего ищет вас. Вы же могли бы теперь все, что захотели бы. сделать. А вы не хотите понять своего положения». Добрые министры пользовались медовыми месяцами, чтобы осуществлять свои начинания. Но ведь между министрами бывали и Штюрмеры, и Протопоповы...
Для меня и до настоящего времени остается неясным, почему окружение царя было бледным. Царь ведь имел возможность выбирать себе приближенных со всей России, богатой всякого рода талантами. Каждый верноподданный считал бы особым счастьем попасть в царское окружение. Царю же в его окружении нужны были такие люди, которые служили бы его очами и ушами, помогали бы ему узнавать истину, оберегали бы его не только от физических опасностей, но и от дурных влияний, от ошибочных поступков и решений, а не являлись бы курьерами, сотрапезниками. спутниками в ежедневных прогулках, партнерами в играх или даже рассказчиками скабрезных анекдотов для увеселения царя, в каком занятии любил упражняться свитский генерал, командир царского конвоя граф А.Н. Граббе. Для царского окружения требовались люди образованные, хорошо знающие и понимающие Россию, с ее нуждами и запросами, преданные царю, но способные открыто выражать правду, не страшившиеся и пострадать за свою правду, а не «псы лающие» (Ис. 56, 10).
418
Самым умным и просвещенным в царской свите был лейб-хирург профессор С.П. Федоров. Но его девизом было: «Моя хата с краю». Когда я сказал ему, что не мешало бы и ему поговорить с царем о Распутине, он ответил: «Я врач, мое дело — лечить. А прочее — их дело». Самым влиятельным должен был быть министр двора граф В.Б. Фредерикс. Честный, благородный, заслуженный. он мог бы говорить царю правду. Он иногда и говорил ее. Рассказывали, что однажды во время не понравившегося царю доклада Фредерикса, кажется, о Распутине, царь заметил ему: «Вас как министра двора это не касается. Это мое личное дело». Фредерикс ответил царю: «Что касается государя, то касается и министра двора». Фредерикс был прав: личное дело царя перестает быть личным, как только оно начинает оказывать влияние на управление государством, на честь и славу царскую. В описываемое время царь и царица относились к Фредериксу со вниманием и уважением, но с его взглядами и мнениями не считались, видя в нем выжившего из ума старика. Революция застигла Фредерикса 78-летним стариком. Возраст не столь уж преклонный. Физически Фредерикс оставался достаточно бодрым, сохранившим военную выправку старого времени: бывало, во время бесед царя с гостями стоит граф Фредерикс как вкопанный, с ноги на ногу не переступит, и походка его еще оставалась бравой. Но его умственный аппарат сильно хромал: граф путал, забывал, где он и кто пред ним. Однажды, рассказывали мне. во время доклада он забыл, что пред ним сидит государь, и обратился к нему: «Я полный генерал, а ты только полковник. Следовало бы тебе стоять передо мной, а не мне перед тобой». Государь будто бы ответил ему, улыбаясь: «И вы, граф, сядьте. Так будет удобнее». Кроме того, граф Фредерикс был протестантом. Для царя и царицы он не мог быть авторитетом в религиозных вопросах, к числу которых относили и распутинский вопрос.
От природы очень способный, много читавший, много видевший, всегда прямолинейный адмирал К.Д. Нилов был нелюбим царицей за его совершенно отрицательное отношение к Распутину. Царь выслушивал его мнения по морским вопросам, в других же случаях мало считался с ним. Сам адмирал был виновен в этом: он часто бывал под хмельком, речь его была невнятная, суждения путаные. Авторитетом в царской семье он не был.
Прекрасные люди были начальник походной канцелярии Его Величества князь В.Н. Орлов и его помощник полковник А.А. Дрентельн. Оба они были решительными противниками Распутина и за это оба поплатились своими местами: Орлов был отправлен на Кавказ, а Дрентельн — на фронт командиром лейб-гвардии Преображенского полка.
Командир конвоя свитский генерал А.Н. Граббе славился в Ставке как рассказчик царю скабрезных анекдотов и царский
419
партнер в игре в кости. Гофмаршал князь Василий Александрович Долгорукий интересовался царской кухней, а не политикой, и никогда не вмешивался в дела, его не касавшиеся. Свою верность государю он доказал после отречения государя от престола: он не оставил царя и в изгнании и вместе с царской семьей погиб в Екатеринбурге.
О многочисленных царских флигель-адъютантах что сказать? Они были всегда с царем почтительны, скромны, молчаливы. Меня удивляло, что были безмолвны пред царем и старшие великие князья. Великий князь Георгий Михайлович в октябре 1916 г. сознался мне в этом. Признаться, я сначала осуждал чинов царской свиты за их пассивность, а потом, присмотревшись, пришел к убеждению, что надо было сочувствовать им. Царь и царица относились к чинам своей свиты как господа относились тогда к своей прислуге, которой не позволялось вмешиваться в господские дела и при которой господа остерегались вести разговоры. 21 ноября 1916 г. граф А.Н. Граббе сказал мне: «Теперь вы убедились, что мы значим. С нами кушают, гуляют, шутят, но о серьезных вещах с нами не говорят, а государственных вопросов никогда не касаются. А попробуй сам заговорить, так тебя или слушать не станут, или просто-напросто оборвут вопросом о погоде или еще о каком-либо пустяке. Для дел серьезных есть другие советники: Гришка (Распутин), Аннушка (Вырубова) — вот им во всем верят, их слушают, с ними считаются. Ох, тяжело наше положение!» Приблизительно то же я слышал и от профессора С.П. Федорова.
Я не упомянул еще об одном крупном чине царской свиты — о генерал-адъютанте Константине Клавдиевиче Максимовиче, бывшем донском наказном атамане, а потом варшавском генерал-губернаторе, во время Великой войны состоявшем помощником министра двора. Он несколько раз появлялся в Ставке. Придворные звали его Минимович — от слова «минимум». Меня удивляло, как это такой неумный, без взглядов и убеждений человек мог занимать такие высокие посты, для которых требовались и природный разум, и накопленные знания.
Царственные предки императора Николая II, кажется, по-иному относились к приближенным своим: они искали близкого, задушевного общения с ними, делились с ними своими тайнами, своими переживаниями, пользовались их опытом и их наблюдениями. Император Николай II был неглупым человеком, а своим образованием, своей начитанностью он превосходил предшествовавших ему российских императоров. Особенно он любил историю, которая должна была научить его, что великими становилась те цари и короли, которые, подобно пчелам, умеющим различать цветы и собирать с них мед, умели различать таланты и окружать ими себя, чтобы затем пользоваться их мудро-
420
стью и доблестями. Императрица Екатерина II — первый пример этому. Что мешало императору Николаю II следовать примерам своих мудрейших предков? Мне приходит на ум странный ответ: не боязнь ли «задумываться»? Если бы государь прислушивался к мнениям окружавших его. ему пришлось бы продумывать эти мнения, оценивать их, задумываться над ними. А он не любил задумываться.
Этим последним я объясняю и другую особенность характера государя: он всецело доверял «специалистам» и не терпел вмешательства беседовавших с ним в неподлежащей их ведению области. А «специалистом» он считал каждого министра в его ведомстве, Каждого начальника в его части. «Специалиста» он охотно, терпеливо выслушивал и с ним соглашался, а «неспециалиста» он деликатно отводил в сторону от начатого им разговора. Так бывало со мной, когда я касался общецерковных дел, так бывало и со многими другими, как я сам лично наблюдал это. Придворным была известна такая особенность характера государя. Однажды профессор С.П. Федоров во время царского обеда сказал мне: «У нашего государя особый характер: он слепо верит специалисту. Вот суп, что мы сейчас едим, дрянь. А скажи Валя Долгорукий (гофмаршал), что суп отличный, и государь станет утверждать, что суп действительно очень вкусен».
В характере государя замечалось много странностей, которые не могли способствовать его возвеличению и славе. Как известно, в бытность наследником престола он каким-то фанатиком был сильно ранен в голову: большой рубец на лбу продолжал свидетельствовать о тогдашнем его ранении. Не отразился ли нанесенный ему удар на его психике? Высказывалось такое предположение. А может быть, на нем сказалась игра природы. Бывает же так, что сын пьяницы проводит всю свою жизнь трезвенником, у глупого отца оказывается умный сын и, наоборот, у сильного волей родителя сын вырастает слабовольным и так далее. Император Александр был слишком волевым самодержцем. Преемнику не осталось и частицы его волевой силы.
ХХII. Победители и побежденные.
Наши победы и поражения
Победителей не судят. Побежденные отвечают и за свои, и за чужие грехи. Когда генерал-адъютант Ренненкампф в первой половине августа 1914 г. победоносно вторгся в Восточную Пруссию, имя его как победителя загремело по всей России. Из российских обывателей никому в голову не приходило доискиваться, кому и чему была обязана эта победа: блестящему ли таланту нашего военачальника или слабости сконцентрировавшего все
421
свои силы на Западном фронте противника. Вся Россия тогда славила генерала Ренненкампфа. Частица этой славы доставалась и Ставке Верховного. Никакому не только обывателю, но и военному специалисту не было возможности определить, что в этой победе принадлежит Ренненкампфу и что Ставке. Все знали, что Ставка Верховного всем верховодит в действующей армии. И Верховный, и генералы Янушкевич с Даниловым, и неприятный помощник последнего полковник Генштаба И.И. Щелоков, и прочие штабные офицеры после Ренненкампфовской победы чувствовали себя героями. Когда через недолгое время тот же генерал Ренненкампф потерпел неудачу в той же Восточной Пруссии, Ставка Верховного его одного обвинила в неудаче и отстранила от командования армией, хоть не подлежало сомнению, что часть вины лежала и на самой Ставке. Но ставочно-штабные стратеги тогда умыли руки: мы, мол, неповинны в поражении этого героя. После сольдаусского разгрома Ставка объявила козлом отпущения главнокомандующего Северным фронтом генерала Жилинского, действия которого она должна была корректировать. Свою неудачу командующий 2-й армией генерал А.В. Самсонов искупил своей смертью, хоть в своей неудаче он, кажется, менее всех других был виновен: пред смертью русские люди всегда преклонялись. Проявившие свою нераспорядительность и бездарность корпусные командиры самсоновской армии генералы Артамонов, Кондратович и Благовещенский, фактически уклонившиеся от участия в сольдаусском сражении, были отстранены от командования корпусами. Но их отставка так была завуалирована, что обывателю не под силу было разобраться, что под этой вуалью — обиженная красавица или зловредная безобразная старуха.
Во второй половине августа 1914 г. после галицийских побед на фронте, а потом и во всей России загремело имя главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Н.И. Иванова. Обывателю, конечно, трудно было разобраться в этих победах: обязаны ли они большому таланту главнокомандующего, или блестящей работе его помощников — начальника штаба генерала М.В. Алексеева, командующих армиями, лучших наших генералов — Брусилова. Лечицкого, Рузского, или, наконец, слабости противника — с фронтом генерала Иванова дрались же австрийцы, а не немцы. О самом генерале Иванове некоторые отзывались, что он иногда мешал, а не помогал своему фронту. Но победителем прослыл генерал Иванов. Царь украсил его двумя такими наградами, каких не имел ни один генерал тогдашней Российской армии. — Георгием 2-й степени и Владимиром 1-й степени с мечами. Последней наградой генерал Иванов украсился, не имея предшествующей — ордена Александра Невского с бриллиантами. Это свидетельствовало об особом цар-
422
ском внимании. Верховного возмутило, что генерал Иванов остался недоволен: почему царь прислал этот орден с флигель-адъютантом. а не сам лично вручил ему? Участие Ставки в галицийской победе едва ли было значительным. Генерал Янушкевич в Ставке оперативной работой не занимался. Значит, в истории галицийских успехов он напоминал ту муху, которая, сидя на рогу быка, тоже пахала. Как мне известно, генерал Алексеев жаловался на тугоумие, самоуверенность и упрямство генерала Данилова. Но возглавители Ставки также были причтены к лику галицийских победителей и награждены высокими отличиями: Верховный — Георгием 3-й степени, Янушкевич и Данилов — Георгием 4-й степени и производством в полные генералы, со старшинством лишь с 1919 г.
Когда с мая 1915г. началось очищение нашими войсками добытого потоками русской крови Галицийского плацдарма, немало наших генералов пострадало за неудачные действия. А в неудачах-то бывали виноваты не только генералы, части которых за неимением снарядов, пуль и даже ружей должны были отбиваться от сильно вооруженного противника камнями и палками. Тогда сильно обвиняли военного министра, не подготовившего армию к войне, и великого князя Сергия Михайловича, заведовавшего боевым снаряжением армии. Но не без вины был и генерал Янушкевич как начальник Генштаба, не предупредивший царя о неготовности армии к борьбе с могучим противником. Некая доля вины падала и на Верховного, бывшего председателем Комитета государственной обороны: он обязан был знать, какими ресурсами располагает вступающая в войну армия. Но «у сильного всегда бессильный виноват».
Центральными фигурами на боевом фронте, от которых страдалица Россия ждала чудес — побед безоружной нашей армии над вооруженным с ног до головы противником, были главнокомандующие фронтами. В начале войны главнокомандующими были генералы Н.И. Иванов и Я.Г. Жилинский. После сольдаусского скандала Жилинский был заменен Н.В. Рузским, а в апреле (или в мае) 1915 г. заболевшего Рузского заменил М.В. Алексеев. Лучше всего я знал Алексеева, с которым в бытность его профессором академии у меня установились дружественные отношения. На Русско-японской войне он был генерал-квартирмейстером 3-й армии, затем служил в Генеральном штабе, потом начальником штаба Киевского военного округа, командиром 13-го армейского корпуса, на войну вышел начальником штаба Юго-Западного фронта. Своей исключительною работоспособностью. добросовестностью и скромностью генерал Алексеев на всех местах быстро приобретал любовь и уважение своих подчиненных. Это был исключительный человек — великий патриот, никогда и нигде не искавший своего и все силы отдававший слу-
423
жению Родине. Драгоценной спутницей М.В. Алексеева, дополнявшей его великие таланты, была его жена Анна Николаевна, обладавшая большим умом и благородным сердцем. Она и в чисто военных делах часто помогала своему мужу, ценившему ее практический, наблюдательный ум.
Хорошо я знал и генерала Н.И. Иванова, во время Русско-японской войны командовавшего 3-м Сибирским корпусом, входившим в состав 1-й Маньчжурской армии, и никогда не был горячим его поклонником. Мне он представлялся добрым, скромным, набожным до ханжества человеком и самым заурядным генералом, создавшим себе славу на доблести сражавшихся под его командой сибирских войск. Генерал А.Н. Куропаткин невысоко ценил таланты генерала Иванова, а генерал М.В. Алексеев совсем отрицательно относился к его талантам. После освобождения его от должности главнокомандующего я еще лучше узнал его, так как не проходило дня, чтобы он не побывал у меня и всякий раз не менее часу беседовал со мной. Это был мужчина с женским характером: всегда ворчливый, на всех обижающийся и всем недовольный, любивший посплетничать, поплакаться, признаться, часто своими жалобами и обидами надоедавший мне. С освобождением его от должности главнокомандующего и назначением на его место генерала Брусилова Юго-Западный фронт сильно выиграл, а царская Ставка, к которой генерал Иванов был причислен, ничего не приобрела. Напротив, у меня сложилось впечатление, что им там тяготились и не знали, что с ним делать. Иначе я не могу объяснить его командировки летом 1916 г. в Финляндию для осмотра вырытых там окопов. Бывшего главнокомандующего, члена Госсовета, состоявшего при особе Его Величества генерал-адъютанта послали осматривать окопы, что мог не хуже его сделать любой саперный капитан. Сам генерал Иванов был обижен этой командировкой. О поведении генерала Н.И. Иванова в Ставке мною много сказано в моем труде «На войне». Дополнять сказанное считаю лишним.
В 1918-1919 гг. генерал Н.И. Иванов командовал каким-то астраханским отрядом, не оказывавшим влияния на ход Гражданской войны. Скончался он в 1919 г. в Новочеркасске. Интересна мелочь о происхождении Н.И. Иванова. Б Петербурге мне приходилось слышать, что отцом Н.И. Иванова был некий артиллерийский фельдфебель, служивший при великом князе Михаиле Николаевиче. Сам же генерал Иванов пред своей смертью открыл состоявшему при нем полковнику Генштаба Б.С. Стеллецкому, что он родился в г. Чите в семье ссыльнокаторжного. Стеллецкий сообщил мне это.
Генерала Н.Б. Рузского я меньше знал. До войны мне приходилось слышать от офицеров генштаба, что это один из лучших наших генералов. На войну он выступил командующим 3-й ар-
424
мией. Предоставленный ему высокий пост свидетельствовал, что и на верхах очень ценили его. Во время войны я несколько раз наблюдал его во время его приездов в Ставку, когда за завтраками и обедами он сидел рядом с Верховным, напротив меня. Генерал Рузский говорил мало, но всегда серьезно и авторитетно, смело возражал Верховному, иногда не соглашался с ним. Верховный относился к нему с уважением. Мне генерал Рузский нравился; чувствовался в нем человек, знающий свое дело, волевой. К сожалению, болезненность мешала его работоспособности и отрывала его от дела. Львовские бои в августе 1914 г. прославили его; после увольнения генерала Жилинского он стал главнокомандующим Северным фронтом. Закончил свою жизнь этот герой Великой войны печально: в 1918 г. он был казнен в Кисловодске. Над его памятью продолжает тяготеть обвинение, что он очень грубо обходился с отрекавшимся от престола императором. Насколько верно это обвинение, судить не берусь: государь отрекался в г. Пскове, а я в то время находился в Петрограде, будучи задержан там приказанием Временного Правительства.
Не больше до войны я знал и генерала А.А. Брусилова, вышедшего на войну командующим 8-й армией. О нем говорили как о дельном, настойчивом в своих взглядах и требованиях, увлекавшемся военным делом генерале. Говорили, что его большая самостоятельность не всегда нравилась начальству и это в мирное время отражалось на его службе. Все же, не бывши командующим военном округом, он с началом войны получил армию. В вышедшем в СССР большом труде, посвященном Брусилову, доказывается, что он был самым выдающимся генералом в Великой войне и что достигнутые им великие успехи в Галиции в августе 1914 г. были приписаны генералу Рузскому. Может быть, в этом и есть некая правда — в нашей армии нередки были случаи, что зарабатывал один, а пользовался заработанным другой. Во всяком случае, боевая работа генерала Брусилова в дореволюционное время не оставалась неоцененною: кроме Георгиевских крестов, украсивших его грудь и шею, он в апреле 1915 г. был пожалован званием генерал-адъютанта, а в марте 1916 г. стал главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Летом 1916 г. я посетил Брусилова в Бердичеве. Он встретил меня очень любезно и сразу же, подведя меня к огромной карте, начал знакомить меня с положением фронта, со своими планами и надеждами. Я вынес впечатление, что он был всецело погружен в военную работу. В мае 1917 г. он прибыл в г. Могилев как Верховный главнокомандующий. Об его пребывании в Могилеве будет сказано ниже.
Когда Румыния вступила в войну, помощником главнокомандующего Румынским фронтом, которым был сам румынский ко-
425
роль, был назначен генерал Д.Г. Щербачев, командовавший 7-й армией, которого я очень хорошо знал как бывшего начальника Академии Генштаба, Я уже говорил о нем. Ученостью генерал Щербачев не отличался. Но он был разумным практиком, умевшим найти верный путь в работе и избрать полезных сотрудников, Как начальник академии он не сумел заслужить благоволение военного министра Сухомлинова, которому не понравилось новаторство Щербачева, примкнувшего к группе военных профессоров — Н.Н. Головина, А.А. Незнамова, Юнакова и других, доказывавших необходимость коренных реформ в академическом преподавании. За свое новаторство он был освобожден от должности начальника академии и назначен корпусным командиром в Киев. На войне он получил 7-ю армию. Благодаря ли его здравому смыслу или благодаря блестящей работе избранных им его помощников — начальника штаба генерала Н.Н. Головина и генерал-квартирмейстера А.А. Незнамова, — дела 7-й армии шли отлично, имя Щербачева гремело, он украсился двумя Георгиями и званием генерал-адъютанта, наконец, стал помощником румынского короля, фактически главнокомандующим Румынским фронтом. Приятный это был человек; простой, всегда доступный, со всеми ровный и спокойный. Я искренно и любил, и уважал его. Скончался он во Франции беженцем.
Среди прочих командовавших армиями выделялся своим талантом генерал Платон Лечицкий. Сын священника Гродненской епархии, по окончании 2-го класса семинарии поступивший в Варшавское, считавшееся захудалым юнкерское училище и на нем окончивший свое военное образование, он самоучкой совершенствовался в военном деле, в Русско-японскую войну блестяще проявил себя в должностях командира 24-го Восточно- Сибирского стрелкового полка и командира бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и затем быстро достиг важного поста командующего Приамурским военным округом. С объявлением войны ему была дана 9-я армия.
В Великую войну армия генерала Лечицкого действовала великолепно. За время войны я два или три раза встретился с прославившимся генералом. Один раз в г. Черновцы, где стоял тогда его штаб. Несловоохотлив был генерал, любил он не слова, а дело, избегал рекламы, которою любили пользоваться некоторые наши генералы, и не допускал лжи. Себя в работе не щадил. В то время когда армия генерала Лечицкого со славою подвизалась в Буковине, престарелый отец генерала священник Алексей Лечицкий, при наступлении немцев эвакуировавшийся из своих родных мест, проживал в г. Орше Могилевской губернии. Посетив Оршу, где помещалось несколько военных госпиталей и одна запасная часть, я счел своим долгом навестить старца — отца знаменитого генерала. Сильно одряхлевший, ослабевший зрени-
426
ем, но сохранивший и разум, и память, старец был очень польщен моим вниманием и сердечно благодарил меня. А я попросил его побывать в наших госпиталях, которые рады будут встретить его как родителя знаменитого, всеми любимого генерала.
Наши провинциальные священники не были избалованы наградами. И о. Алексей Лечицкий, прослуживший более 50 лет и всегда отличавшийся усердием и добрым настроением, не был удостоен ни протоиерейского сана, ни Владимира 4-й степени, дававшегося за 50-летнюю службу. Вернувшись в Ставку, я доложил государю о своем посещении о. А. Лечицкого, не скрыв, что этот достойнейший священнослужитель, воспитавший такого редкого сына, остался не отмеченным епархиальным начальством. «Чем же я могу его наградить?» — спросил государь. «Он заслужил орден Владимира 4-й степени», — ответил я. «Тогда возьмите у князя Орлова этот орден и отвезите его о. Лечицкому. Скажите ему, что это ему от меня». — сказал государь. От Могилева до Орши всего 80 верст. Я на следующий день исполнил царское приказание. Надо было видеть радость старца, когда я сказал ему, что любящий его сына царь посылает ему эту награду. Старец расплакался, поцеловал орден и трогательно благодарил меня. Узнав же, что старец, перемогши свою дряхлость, посетил больных в наших госпиталях, я обратился к Синоду с просьбою наградить старца саном протоиерея. Святейший Синод удовлетворил мою просьбу, а Могилевский архиепископ Константин, мой большой приятель, немедленно выехал в Оршу, чтобы награжденного сделать протоиереем. Мне особенно приятны были обе эти награды, которыми был польщен не только награжденный, но и достойнейший сын его. Последний так и понял, что эти награды больше относились к нему, чем к его старику отцу.
В армии считались выдающимися генералами Владислав Наполеонович Клембовский, Абрам Драгомиров, Василий Иосифович Гурко, А.И. Деникин, А.М. Каледин, Лавр Григорьевич Корнилов. О храбрости последнего много говорилось в армии, но М.В. Алексеев отзывался о нем так: у него сердце львиное, а мозги бараньи. Хвалили молодых генералов Иосифа Романовича Довбор-Мусницкого, А.М. Крымова и некоторых других. Если бы наши войсковые части были снабжены всем необходимым для боевых действий, больше оказалось бы у нас победоносных генералов. А командовавшему безоружной массой генералу трудно было одерживать победы.
Если же говорить об одиозных в армии генералах, то в первую очередь надо назвать имена генералов Янушкевича и Данилова. Объезжая фронт, я наслушался самых резких отзывов о них. Их открыто ругали и младшие, и старшие, их обвиняли и в их собственных, и в чужих грехах, их считали главными виновниками наших неудач. Я иногда спрашивал: «А вы не боитесь,
427
что я все передам им?» Мне отвечали: «Пожалуйста, передайте, чтоб они знали, как думает о них армия». Но оба они из писем, которыми засыпали их. знали, как расценивает их армия. В этих письмах всячески поносили их. называя их злыми гениями и Верховного, и всей армии, угрожая им тяжкою ответственностью, которой они не смогут избежать по окончании войны; от них требовали, чтобы они. если у них осталось еще чувство офицерского долга и чести, отказались от непосильных для них должностей. Генерал Янушкевич показывал мне некоторые из полученных им писем, ища моего ответа на вопрос, что делать. А я только и мог ответить ему: «Да. Все это я не раз выслушивал на фронте. Доложите Верховному. Пусть он рассудит». И честный Янушкевич несколько раз докладывал и умолял освободить его от должности начальника штаба. Верховный решительно отказывал ему в этом. Генерал Данилов был более скрытным и менее близким ко мне. Он никогда не говорил о получавшихся им письмах. Но у меня нет сомнений, что и его засыпали ругательными письмами; в армии его имя было более одиозно, чем имя генерала Янушкевича. Народному суду, которым угрожали генералу Янушкевичу и Данилову, не пришлось заниматься делом: Янушкевич, как упомянуто выше, весною 1917 г. был убит в вагоне, когда его, арестованного, везли в Петроград, а Данилов во Франции закончил дни свои...
Одиозными были в армии и имена военного министра В.А. Сухомлинова и великого князя Сергия Михайловича. Их обоих справедливо обвиняли в неподготовленности к войне. Судьба того и другого была печальной: генерал Сухомлинов еще в царское время был заключен в Петропавловскую крепость и, кое-как оправданный при Временном Правительстве, закончил в чужой стране жизнь свою. Великий князь Сергий Михайлович был убит летом 1917 г.
В гвардии одиозною была величественная фигура ее командира — генерал-адъютанта В.М. Безобразова, вследствие бесталанности и безграничного упрямства которого гвардейские полки несли невероятнее потери. И у начальствовавших лиц, и у гвардейского офицерства, и даже у императрицы Александры Феодоровны было согласное убеждение, что этот злополучный генерал должен быть заменен другим. Но царь продолжал держать его как бы для окончательного уничтожения гвардии. Трудно сказать, что заставляло государя задерживать Безобразова во главе гвардии: привычка ли к этому давнишнему царедворцу или опасение освобождением от должности гвардейского командира сильно обидеть старика. Но это была роковая царская ошибка, о последствиях которой лучше не говорить.
Боевой успех каждого военачальника зависел не только от него самого, от его личных качеств и достоинств, но и от директив,
428
исходивших от высших управлений, от качественного состава подчиненного ему офицерства, от подготовки и настроения подчиненных ему войск. Как в оркестре каждый инструмент исполняет свою задачу и только при согласном действии всех инструментов получаются аккорды, создается гармония, так и в военном деле успех достигается согласным действием верхов, средин и низов. При слабости средин и низов самые гениальные директивы, исходящие сверху, не создадут нужного эффекта. При немощности верхов самые сильные низы не будут иметь успеха. В первом случае получится то, на что жаловался генерал М.В. Алексеев, который, отдавая приказание, не был уверен, что оно будет точно исполнено даже командующими армиями. Второе приводило к тому, что бесплодно и бесславно погибали такие блестящие, прекрасно выученные и великолепно снаряженные гвардейские полки. А в том и другом случае кто больше всего страдал? Беззаветно преданный Родине, всегда самоотверженный и доблестный русский солдат и русский офицер, не отстававший в этом от солдата. Генералы редко когда погибали на войне.
XXIII. Борьба между царицей и Верховным из-за влияния на государя
Царицей Александрой Феодоровной в ее письмах к мужу зафиксированы перипетии борьбы, происходившей между нею и Верховным из-за влияний на императора при выборе последним министров и военачальников. Борьба происходила на идейной почве. У царицы и Верховного были диаметрально противоположные взгляды на нужных в то время государству деятелей. У царицы был своеобразный критерий для различения своих и чужих, друзей и врагов престола и государства. Сторонники, почитатели, поклонники Распутина считалась приверженцами царской семьи и престола, верными слугами государства; противники, а тем более хулители Распутина объявлялись врагами царя и Родины. Верховный при выборе сановников руководствовался только государственными соображениями. У царицы главным был Друг — Распутин, пользовавшийся абсолютным авторитетом. Для Верховного всякий ставленник Распутина считался неприемлемым. Царь все время находился между молотом и наковальней и поддавался тому влиянию, которое было ближе и оказывалось более настойчивым. Во время его пребывания в Петрограде на него влияла царица, а в Ставке брал перевес Верховный. Благодаря своей настойчивости Верховный часто имел успех. Замена министра внутренних дел Н.А. Маклакова князем Н.Б. Щербатовым совершилась под влиянием Верховного, не любившего Маклакова и избравшего на его место родного
429
брата своего адъютанта, полковника князя Павла Борисовича Щербатова. Самой же крупной победой Верховного было смещение министров Сухомлинова и Саблера и назначение военным министром (в июне 1915 г.) А.А. Поливанова и обер-прокурором Святейшего Синода (в июле 1915 г.) А.Д. Самарина.
Оба эти назначения были встречены императрицей с возмущением. Она ненавидела обоих, а в особенности А.Д. Самарина. Поливанова она считала большим другом ненавистного ей А.И. Гучкова, а А.Д. Самарин, по ее словам, был «одним из скверной ханжеской клики Эллы120, близким другом Софьи Ивановны Тютчевой»121, врагом Друга — Распутина. «И он против нас. — писала царица мужу, — раз он против Григория». Замена Самариным преданного ей и Григорию Распутину Саблера представлялась ей чуть ли не государственной катастрофой.
При смене Сухомлинова и Саблера человеку беспристрастному и рассудительному нельзя было не встать на сторону Верховного. И в обществе, и в правительстве карьера генерала Сухомлинова считалась конченной: вскоре по увольнении от должности военного министра он был лишен генерал-адъютантского звания и заключен в Петропавловскую крепость, пострадав не столько за свои, сколько за легкомысленной и расточительной жены своей грехи. Впрочем, и на нем лежал тяжкий грех, хотя не за этот грех его судили: будучи военным министром, он с преступной небрежностью относился к подготовке Русской армии к войне и в отношении ее снаряжения, и в отношении ее командного состава. Если ходившие настойчивые слухи о причастности его к измене могут быть сильно оспариваемы, то его ответственность за не подготовленную к войне армию была несомненной.
Долго упражнявшийся в синодальной работе обер-прокурор Святейшего Синода, раньше в течение многих лет исполнявший должности — сначала управляющего канцелярией Святейшего Синода, а потом товарища обер-прокурора Святейшего Синода, Владимир Карлович Саблер во время Великой войны сменивший свою фамилию на фамилию своей жены Десятовский, был любим архиереями: архиепископ Антоний готов был и черного борова сделать архиереем, лишь бы сохранить на обер-прокурорском кресле драгоценного Владимира Карловича, хоть ни один из обер-прокуроров нашего столетия так деспотично и бесцеремонно не обращался с архиереями, как Саблер.
В противоположность своему предшественнику бывшему профессору Сергею Михайловичу Лукьянову, умному, серьезному, всегда проникавшему в глубь дела и во всем искавшему правды, истинного блага Церкви, ровному и ко всем благожелательному, В.К. Саблер отличался суетливостью, поверхностным отношением к интересам и истинным целям Православной
430
Церкви. Мне он представлялся совершенно не подходящим для того времени обер-прокурором. По моему разумению, он не помогал, а мешал нашей Церкви налаживать требовавшуюся от нее в то время работу.
О преемниках Сухомлинова и Саблера, рекомендованных Верховным, что можно было сказать? Генерал Поливанов был очень серьезным, спокойным и дельным работником, своей долголетней работой в Военном ведомстве стяжавшим доверие и уважение армии. Правда, он прогрессивно мыслил и дружил с А.И. Гучковым. Но мне тогда казалось, что дружба с Распутиным гораздо опаснее дружбы с патриотично настроенным и религиозным Гучковым. При умелом обращении царя с Гучковым последний мог стать надежным защитником трона, а мысли об измене Родине ему и в голову никогда не приходили.
О А.Д. Самарине не существовало двух мнений. Московское дворянство в течение многих лет выбирало его своим губернским предводителем. При выборах Московского митрополита москвичи хотели посадить его на московскую митрополичью кафедру. Серьезный, набожный, всегда и во всем честный, он пользовался всеобщим большим уважением. Но с точки зрения царицы, у него был чрезвычайно опасный недостаток: он был открытым, убежденным, неукротимым противником Друга царицы — Распутина.
В назначении Поливанова мне не пришлось принимать участия, это было дело военное, а я не в свои дела не вмешивался. Но перед назначением Самарина мне пришлось иметь много разговоров с обращавшимися ко мне Верховным, князем В.Н. Орловым, председателем Совета министров И.Л. Горемыкиным и несколькими министрами. Все они, решаясь выступить против Саблера, искали у меня обоснований его негодности.
Пришлось мне принимать участие и при назначении А.Д. Самарина, которого я до того времени знал только по слухам и лишь в Ставке ближе познакомился с ним122.
Ни генералу Поливанову, ни А.Д. Самарину не пришлось долго оставаться на своих важных постах. Назначение их было гневно и с ужасом принято царицей, и оба они скоро, всего чрез несколько месяцев, были заменены: первый — сереньким, невзрачным по внешнему виду, слишком простоватым в обращении генералом Дмитрием Савельевичем Шуваевым, скоро оказавшимся непригодным, второй — честным, несуетливым А.Н. Волжиным.
В то время как Верховный преуспевал в смене негодных министров, царица медленным, но верным путем подготовляла смену самого Верховного. Обстоятельства благоприятствовали ей. Наша безоружная армия не могла сдерживать мощного натиска немцев. Наши войска оставляли Польшу: 22 или 23 июля была сдана Варшава. 6 августа пала Ковенская крепость, кажется, без
431
сопротивления — ее комендант генерал Григорьев постыдно бежал. Сдача Ковенской крепости, которая должна была задерживать врага на пути в Россию, чрезвычайно потрясла Верховного.
Кажется, 7 августа между 10 и 11 часами утра ко мне прибежал чрезвычайно встревоженный великий князь Петр Николаевич, чтобы позвать меня к Верховному, которому очень худо. Я застал Верховного в истерике — он рыдал как ребенок. Забыв, что это Верховный, я прикрикнул на него, и это благоприятно подействовало. Меня тогда очень удивило, что этот величественный и грозный великий князь может так падать духом. Другой случай, за неделю пред тем происшедший, показал мне, насколько суеверен был наш Верховный главнокомандующий.
Православное население Барановичей, весьма польщенное тем, что в их еврейском местечке Западного края в течение целого года жил великий князь — Верховный, решило ознаменовать это событие пристройкой к их православной церкви придела в честь блаженного Николая, Христа ради юродивого, имя которого носил великий князь. Приготовились к закладке. Верховный назначил день закладки — 31 июля 1915 г. Меня попросили совершить закладку. В назначенный час прибыли Верховный с братом, адъютантом и доктором Б.З. Маламой. Я начал богослужение. Все шло чинно. Прекрасно, как всегда, пел хор Ставки. Внушительно служил протодиакон Власов. Верховный был в хорошем настроении. Но когда я взял наспех приготовленную из цемента и не успевшую высохнуть плиту, она распалась на мелкие части. Верховный позеленел и, как только кончилась служба, поспешил уехать. Весь день он был в отвратительном настроении. Доктор Малама объяснил мне, что Верховный потрясен происшедшим, в котором он увидел самое дурное предзнаменование.
Между тем наш боевой фронт все более приближался к Барановичам. которые вследствие этого становились негодными для Ставки. Стали избирать новое место. Назывались Витебск, Орша, Могилев, даже Калуга. Остановились на Могилеве (на Днепре). 9 августа наши поезда — Верховного и штабной — двинулись в путь; 10-го утром мы прибыли в Могилев.
В тот же день в 10-м часу вечера таинственно прибыл к Верховному военный министр генерал Поливанов. Просидев у Верховного около часу и не повидавшись с начальником штаба, он поспешил на поезд, чтобы следовать к генералу М.В. Алексееву. После отъезда Поливанова Верховный с братом и генерал-адъютантом князем Голицыным просидели до 6 часов утра. Утром 11-го генерал Петрово-Соловово сообщил мне: Поливанов привез отставку Верховному, который назначается наместником на Кавказ вместо одряхлевшего графа Воронцова-Дашкова; увольняются от теперешних своих должностей и генералы Янушкевич
432
и Данилов. Верховным будет сам царь, начальником штаба — генерал М.В. Алексеев.
Я не стану тут описывать всех перипетий отставки Верховного, волнений и надежд Ставки, всеобщих усилий поправить дело. Последнее пытались сделать и царица-мать, и многие великие князья, не говоря уже о министрах. Люди, преданные царю, находили, что для царя опасно в данное время брать на себя верховное командование, а с ним и ответственность за все последующие, вполне возможные неудачи, что он совершенно не подготовлен для верховного командования, что он ни в коем случае не может заменить великого князя Николая Николаевича, которого любит и которому продолжает верить армия. Но царица искала славы для своего мужа и ненавидела Николашу, как называла Верховного. Царь же искренно верил, что одна его близость к войскам совершит чудеса. Друг Распутин предсказывал ему как новому Верховному победы и славу. Царь устоял против всех отговоров. 24 августа он прибыл в г. Могилев как Верховный главнокомандующий. Встретились новый и старый Верховные спокойно, непринужденно, как будто между ними ничего не произошло. Я думал, что они на людях сдерживают себя, но великий князь Николай Николаевич сообщил мне, что они и наедине так же мирно и дружелюбно беседовали. Я удивлялся выдержке великого князя: при больших неудачах на бранном поле он терял самообладание, впадал в панику, а при собственной катастрофе он держал себя героем.
Ставка чрезвычайно болезненно переживала смену Верховного. В новом Верховном не было у нее уверенности. Будущее представлялось ей неясным — скорее мрачным, чем радужным. Дней за десять до царского прибытия в Ставку приехал генерал М.В. Алексеев и сразу же вступил в должность начальника штаба. Янушкевича и Данилова ставочная песня была спета. Но на их жалкое положение отставленных от должности никто в Ставке не обращал внимания: во-первых, особой любовью чинов Ставки они не пользовались, а во-вторых, внимание всех было занято сменой Верховного — великого князя Николая Николаевича любили и уважали в Ставке. 26 или 27 августа, точно не помню, великий князь Николай Николаевич уезжал из г. Могилева. Царь на вокзале провожал его.
Прошло 33 года после отъезда из Могилева великого князя Николая Николаевича, оставлявшего верховное главнокомандование. А и теперь как живая пред моими глазами картина этого отъезда. У перрона Могилевского вокзала стоит великокняжеский поезд с хорошо знакомым мне синим салон-вагоном великого князя посредине. За год с лишним много радостей и еще более скорбей пережил бывший Верховный в этом вагоне. Царь вошел в вагон и теперь беседует с великим князем. О чем беседу-
433
ют они? Конечно, о разных разностях, не касаясь больного вопроса. За 21 год царствования царь научился вести такие разговоры: они служили для него средством, чтобы «не задумываться». Около вагона царская свита: адмирал Нилов, генералы Воейков, Граббе, Долгорукий, профессор Федоров, флигель-адъютанты: с ними же дежурный генерал Кондзеровский, военных сообщений генерал Ронжин. В сторонке многочисленные чины штаба и среди них обездоленные генералы Янушкевич и Данилов. Генерал Воейков балагурит, свитские улыбаются, а среди штабных, бывших сотрудников великого князя, угрюмое молчание. На генералов Янушкевича и Данилова жалко смотреть, они не могут скрыть своей обиды и скорби. Вот показалась фигура выходившего из вагона государя, за ним шел великий князь, остановившийся у выходных дверей. Спустившись, государь остановился напротив великого князя. Раздался свисток кондуктора. Поезд начал плавно отходить от перрона. Великий князь стройно выпрямился и приложил руку к козырьку. Поезд уже скрывался от наших глаз, а нам продолжала виднеться как вкопанная величественная фигура бывшего Верховного, продолжавшего отдавать честь своему государю.
Поезд великого князя скрылся. Первым уехал с вокзала государь. Потом стали разъезжаться чины штаба. Все возвращались как с похорон: будущее для всех темно, для светлых надежд не видится оснований, в силу обаяния царского имени в Ставке уже никто не верил. Только и было утешение, что начальником штаба состоит способнейший и честнейший из наших генералов М.В. Алексеев. Все понимали, что отныне главнокомандовать сражающейся армией будет он. В военные таланты нового Верховного никто не верил. В жизни Ставки началась новая эра.
В этой главе я опустил многое, что должно было бы войти в нее, например о варшавских администраторах, о знаменательной беседе с варшавским римско-католическим архиепископом Каковским и другими — опустил потому, что оно описано мной в моем труде «На войне». На повторение сказанного не хотелось тратить время и бумагу.
Оглядываясь теперь на проведенное мною время в Ставке Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, я вновь, только с большей остротою, переживаю выстраданное тогда. У меня всякий раз поднимается горькая обида на предвоенных возглавителей армии, на которых лежал долг обеспечить ей на случай великой войны достаточный запас боевых припасов и подготовить достойных военачальников. А ведь война с немцами у нас ожидалась, в наших верхах были убеждены в неизбежности ее, об этом свидетельствовало обращение ко мне великой княгини Анастасии Николаевны 19 июня 1911 г. при моем представлении ее мужу, тогда главнокомандующему
434
Петербургского военного округа. Опыт же недавней Русско-японской войны должен был научить тех, кому следовало учиться, что если мы за два года не смогли победить японцев, то в три месяца нам уж никак не победить немцев. А у нас боеприпасов было заготовлено на три-четыре месяца войны. Вот Россия и одерживала победы в Галиции, Восточной Пруссии, пока у нее хватало пуль и артиллерийских снарядов. Сольдаусская катастрофа и другие неудачи того времени объяснялись исключительно слабостью наших военачальников, точнее сказать, слабостью нашего командного состава.
В феврале 1917 г. генерал Алексеев сказал мне: «Теперь наконец благодаря нашим союзникам и энергичной работе наших заводов мы снабжены решительно всем необходимым. Пополним части, подучим их, произведем передвижения и в апреле — мае начнем наступление. В один-два месяца закончим войну». М.В. Алексеев всегда был точен в своих расчетах и никогда не бросал напрасных слов.
А если бы наша армия вышла на войну сильной не только духом, но и необходимыми для ведения войны материальными средствами и с профильтрованным составом военачальников, тогда получилась бы совсем иная картина. Тогда война закончилась бы победно для нас в один или самое большее в два года.
Тогда не было бы несчастнейшего для нас 1915г., когда галицийские и польские земли были бесплодно и безрезультатно залиты реками русской крови, когда надо было удивляться, как это не капитулировала изнемогавшая в неравной борьбе наша многострадальная армия.
Тогда не было бы позорного для русского имени Брест-Литовского мира. Тогда не было бы и Гражданской междоусобной войны, во время которой братской кровью были залиты родные поля и луга.
Тогда, может быть, мирно, по-братски, эволюционным, а не революционным путем разрешились бы все проклятые вопросы, накопившиеся в русской жизни.
Тогда миллионы русских людей, культурных, образованных, принадлежащих к цвету русской интеллигенции, не скитались бы, как бездомные, по чужим землям, а трудились бы на родной земле для блага и расцвета родного народа.
Тогда, несомненно, не было бы той злобы и вражды, которые делят теперь народы на враждебные, готовые перегрызть друг другу горло лагери. Но история народов строится не по нашей воле, а по таинственному для нас плану...
Уехал великий князь. Ставка Верховного стала царской Ставкой. Все мы. таким образом, повысились в чине. Но странно: никто из нас не чувствовал радости от такого повышения.
435
XXIV. Царская Ставка
Могилев как стоянка был гораздо интереснее Барановичей. Губернский город со значительным, до 60 тысяч, населением, на правом берегу Днепра, весь в садах, с монастырем, двумя соборами и несколькими церквами, чистенький, достаточно благоустроенный, Могилев производил приятное впечатление. Кафедральный собор был построен в память бывшего в Могилеве свидания императрицы Екатерины II с австрийским императором Иосифом, почему собор и был назван Иосифовским — в память праведного Иосифа Обручника. Собор небольших размеров, украшение его — иконостас кисти известного художника Боровиковского. От города до железнодорожного вокзала было около 3 километров, что затрудняло сообщение города с вокзалом, но зато делало городскую жизнь более спокойной.
Сам Верховный поместился в губернаторском дворце, стоявшем на юго-восточной окраине города вблизи от Днепра, а штабные учреждения с чинами — в двух соседних с дворцом зданиях: здании губернского правления (слева от дворца) и здании окружного суда (справа от дворца), отделенном от дворца городским садиком, называвшимся садиком Дембовецкого123. Чины, для которых не доставало мест в этих двух зданиях, разместились в разных гостиницах.
Для меня большим утешением было, что в Могилеве в то время архиерействовал Константин (Булычев), ставший мне близким человеком с 26 сентября 1897 г., когда он убедил меня поступать в Санкт-Петербургскую духовную академию, а не в Казанскую, как я было решил. В 1901-1904 гг., когда он служил в Петербурге викарием, я очень сблизился с ним. По назначении меня в 1911 г. протопресвитером он, по поручению больного Санкт-Петербургского митрополита Антония, в Александро-Невской Лавре возложил на меня митру.
Архиепископ Константин происходил из вологодских купцов, окончил курс сначала физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, а потом Санкт-Петербургской духовной академии, от природы был человеком неглупым, отличался простотою и сердечностью. Теперь в свободные часы я мог навещать его и в беседе с ним отводить душу. Архиепископ Константин был на 12 лет старше меня, но это нисколько не мешало нашей дружбе и единомыслию.
Там же в Могилеве был благочестивый и очень скромный викарный 37-летний епископ Варлаам (Ряшенцев). Тут же я встретил очень симпатичного человека — ректора духовной семинарии, протоиерея и кафедрального протоиерея старца о. Мигая. Живя в Барановичах, я, признаться, отвык от общения с солидными и образованными епархиальными духовными лицами, и
436
теперь встречи и беседы с этими почтенными могилевцами доставляли мне большое удовольствие.
Архиепископ Константин предоставил в полное наше распоряжение старый, выстроенный в конце XVIII века знаменитым Могилевским архиепископом Георгием Конисским собор, очень красивый по стилю, с чудной акустикой. От собора до губернаторского дворца, где поместился Верховный, было не более 200 шагов. Ректор попросил у меня разрешения иногда сослужить мне. Таким образом, причт нашего штабного храма увеличился еще одним священнослужителем. С приездом в Ставку государя пришлось дополнить наш и без того чудный хор еще шестью певцами. Получился хор в 16 человек, давший нам такое пение, какого я ни раньше, ни после нигде не слыхал. Как и в Барановичах. у нас ежедневно совершались утром литургия, вечером вечерня с утреней. В будни за богослужениями пел квартет, накануне воскресных и праздничных дней, как и в самые эти дни — полный хор. Могилевцев удивляло пение нашего хора, и даже в будни наш храм не оставался без многих богомольцев. Вскоре полный хор начал петь и четверговые литургии. Это делалось, чтобы ознакомить Могилевскую публику с творениями наших новых лучших композиторов. По воскресным и праздничным дням пелись произведения только старых композиторов — Бортнянского, Турчанинова, Ломакина и других, так как новые церковные композиторы не нравились государю. Чтобы получалось полное впечатление, хор по четвергам пел песнопения одного какого-либо композитора: в один четверг — Чайковского, в другой — Гречанинова, в третий — Кастальского и так далее. В эти дни наш большой собор не вмещал молящихся. Для Могилевских церковных хоров пение нашего хора было очень поучительно: до того времени безвкусием и безголосием отличались они. Архиепископ часто присутствовал на наших четверговых литургиях.
Прекрасно было поставлено у нас в Ставке богослужение: величественный, благоукрашенный, с чудной акустикой храм, удивительный хор, благоговейное и разумное отношение священнослужителей к богослужению. Даже малограмотность и недостаточная гармоничность протодиакона не бросались в глаза. В эмиграции мне приходилось встречать бывавших на наших богослужениях в Ставке. Все они с восторгом отзывались о нашем ставочном храме в Могилеве.
Государь аккуратно посещал все наши праздничные и воскресные богослужения. Его место было на левом клиросе, сзади закрытом большой иконой. Туг же становились и царица, и царские дети, когда они бывали в Ставке.
Генерал М.В. Алексеев избрал для себя уютное местечко в уголке за передней правой колонной. Не наблюдаемый други-
437
ми, он там на подостланном для него коврике выстаивал, по большей части на коленях, наши службы, не обращая ни на кого внимания, всецело отдаваясь молитве. Чувствовалось, что этот замечательный, беспримерный по трудолюбию и безграничной любви к Родине человек в храме отдыхал душой, набирался сил для возложенной на его плечи работы. С вступлением государя в должность Верховного и работа по управлению фронтом, и ответственность за военные действия ложились на него. Все понимали, что государь совершенно не подготовлен к исполнению должности Верховного, и потому никто не ожидал, что он будет направлять действия наших фронтов. Все надежды возлагались на Алексеева, а от государя ожидали одного: чтобы он не мешал работе своего талантливого начальника штаба и не поддавался безответственным влияниям разных шептунов.
Все в Ставке верили в большую талантливость генерала Алексеева, но многих озабочивала его привычка самому исполнять всю работу, недостаточно пользуясь помощью своих сотрудников. Это приводило к тому, что генерал Алексеев положительно изнемогал под тяжестью лежавшего на нем дела. Ведь со вступлением государя в должность Верховного его начальник штаба стал как бы канцлером Российской империи. Армии касалась работа решительно всех министерств, и министры, прибывая в Ставку для докладов государю, по несколько часов проводили в беседе с генералом Алексеевым, которому при этом приходилось выступать в самых разнообразных ролях — дипломата, финансиста. путейского инженера и так далее. Только генерала Алексеева могло хватить на такую работу.
Работал генерал Алексеев сверх всякой меры — с утра до поздней ночи. Чтобы сберечь время, он отказался от присутствия на высочайших завтраках и обедах и только раз или два в неделю приходил к царскому столу, хотя царем было сказано ему, что его место за столом всегда будет свободным.
Привычка генерала Алексеева самому исполнять всю работу отражалась в двух сторонах: а) его здоровье заметно расшатывалось; б) генерал Алексеев не обращал большого внимания на выбор сотрудников — он мог бы выбирать самых талантливых, а выбирал подвернувшихся под руку и прежде всего удовлетворился оставшимся от прежней Ставки штабом.
Вместе с великим князем Николаем Николаевичем уехала на Кавказ и вся его свита, не исключая и брата его — великого князя Петра Николаевича, и генерал-адъютанта князя Дмитрия Борисовича Голицына, только генерал Петрово-Соловово остался состоять при Верховном.
Вскоре уехали на Кавказ же в качестве помощников великого князя-наместника князь В.Н. Орлов и генерал Янушкевич. Гене-
438
рал Данилов получил армейский корпус. Его место занял в Ставке генерал-майор генштаба Михаил Саввич Пустовойтенко. По моему разумению, он уступал Данилову и в работоспособности, и в опытности. Данилов весь отдавался делу, Пустовойтенко любил и погулять. По-видимому, и штабные офицеры были такого же о нем мнения: они называли его Пустоместенкой. Но при таком начальнике штаба, каким был М.В. Алексеев, от генерал-квартирмейстера не требовалась слишком усидчивая работа, генерал Алексеев работал и за себя, и за генерал-квартирмейстера. и за прочих чинов штаба. Во всяком случае генерал Алексеев был доволен Пустовойтенко.
Вместе с генералом Алексеевым в Ставке появился еще один чин — генштаба генерал-майор Вячеслав Евстафьевич Борисов. Многие из чинов штаба считали его приживалкой генерала Алексеева. Кажется, в действительности дело обстояло иначе. Генерал Борисов был давнишним другом генерала Алексеева: до поступления в Академию Генштаба вместе они служили в 64-м пехотном Казанском полку, вместе поступили в академию и вместе окончили в 1890 г. курс ее. Генерал Алексеев ценил большую начитанность Борисова и иногда пользовался его советами. На не знавших генерала Борисова он мог производить странное, отталкивающее впечатление: непричесанного, неряшливо одетого, жившего по-диогеновски, только не в бочке, а в грязной, не убранной комнате, его можно было счесть за опустившегося пропойцу. На самом же деле это был очень неглупый, начитанный и совсем трезвый человек, но не придававший никакого значения внешности. В Ставке он сразу стал притчей во языцех, предметом острот и шуток.
После смены Верховного я считал свое положение в Ставке не особенно прочным, — уже одна моя близость к бывшему Верховному была не в мою пользу. В Ставке поговаривали о возможности оставления мною Ставки. Но государь оставался внимательным ко мне. В первый же день по вступлении государя в должность Верховного гофмаршал князь Долгорукий сообщил мне, что Его Величество просит меня всегда и завтракать, и обедать у него. Этим мне оказывалась большая честь: кроме лиц царской свиты и пребывавших в Ставке великих князей только еще генерал М.В. Алексеев сподобился этой чести, но он, как я уже сказал, попросил освободить его от ежедневной трапезы за царским столом.
Небезынтересная особенность тогдашнего этикета при царском дворе: несмотря на переданное мне гофмаршалом приглашение, ежедневно за полчаса пред царским завтраком и обедом раздавался стук в дверь моей комнаты и гоф-фурьер высочайшего двора Климов сообщал мне: «Их Величество просят Ваше Высокопреподобие пожаловать к ним на завтрак (или на обед)».
439
Я не без удовольствия посещал царские завтраки и обеды, но не еда, а люди, трапезничавшие там, привлекали меня. Относительно еды надо сказать, что она сильно уступала той, которою пользовалась царская семья в Царском Селе и Ливадии. Там стол был изысканный, а здесь, в Ставке, блюда были простые и не всегда вкусные (свитские часто ворчали из-за них), и только закуски всегда были разнообразными. Но людей новых и часто очень интересных всегда приходилось встречать: почти все бывавшие на аудиенциях у царя приглашались к царскому столу.
Теперь я смог еще лучше изучить своего государя. Кроме того, что он был мягким, в обращении простым, ласковым, гостеприимным человеком, он еще был безусловно очень храбрым. Он в апреле 1916г. без страха поехал во Львов и Перемышль, когда великий князь Николай Николаевич очень боялся этой поездки. Посетив вместе с наследником Юго-Западный фронт, государь обходил там позиции, а великий князь Николай Николаевич не заезжал дальше ставок главнокомандующих фронтами. Храбрость государя сказывалась и в его отношении к моим поездкам по фронту. Великий князь Николай Николаевич всегда провожал меня словами: «Вы уж не лезьте куда не следует». А государь при моем докладе по возвращении с фронта всякий раз спрашивал: «А под огнем не пришлось вам побывать?» И ему было очень приятно, когда командующие 4-й и 7-й армии сообщили ему, что я под сильным обстрелом обходил окопы. Я думаю, что государь был бы отличным строевым офицером.
Своего рода игра природы: слабовольный и стеснительный в обращении с людьми, государь был храбрец на бранном поле, а волевой и смелый в обращении с людьми великий князь Николай Николаевич робел пред опасностью.
Жизнь в Ставке потекла своим порядком. Государь занял две небольшие, очень просто меблированные комнаты в губернаторском дворце: одна задняя комната служила спальней для него и наследника, а другая, примыкавшая к залу. — его кабинетом. Государь вставал в восьмом часу утра. Одевшись, умывшись и Богу помолившись, он пил чай, потом занимался делами: читал письма, просматривал бумаги, принимал представлявшихся и в 11 часов шел на доклад в свой штаб. Доклад делился на две части — оперативную и общую. На первой части присутствовали и генерал-квартирмейстер, и дежурный штаб-офицер Генштаба. На второй оставались только государь и генерал Алексеев. При первом докладе пытался проникнуть и сопровождавший государя генерал Воейков, но М.В. Алексеев не впустил его. Во все следующие разы пока государь принимал доклад, генерал Воейков проводил время в беседе с генералом Борисовым в его комнате, соседней с комнатой, где происходил доклад. Я не решился осведомиться у генерала Алексеева, как он
440
расценивал участие государя в обсуждении оперативных задач и планов. Я думаю, что генерал Алексеев нуждался в участии государя только в тех случаях, когда требовалось особое царское соизволение, а так эти доклады скорее отнимали драгоценное время, чем помогали делу. Более того, однажды генерал Алексеев чуть не со слезами сказал мне: «Удивительное дело! Я докладываю государю наедине, а на другой день весь Петроград говорит о моем докладе». Теперь меня это нисколько не удивляет: государь все, происходившее в Ставке и на фронте, описывал царице, а та делилась сообщениями мужа со своими «верными» друзьями — недалекой Аней Вырубовой и Григорием Распутиным. Разбалтывала ли Аня царские секреты, этого я не могу ни отрицать, ни утверждать. Но думаю, что по свойственной женщинам болтливости и своей недальновидности она могла проговариваться. От напившегося в ресторане Роде или еще где-нибудь Распутина можно было все выведать, и этим пользовались его злонамеренные приятели, разные манусы, рубинштейны и другие, это в Петрограде хорошо было известно. Чтобы тайные решения Ставки не становились преждевременно известными, генерал Алексеев вынужден был иногда скрытно от царя принимать решения и приводить их в исполнение. Создавалось необычное положение: от Верховного главнокомандующего приходилось скрывать наиболее важные дела и решения...
После почти полуторачасового штабного доклада проходил завтрак, затем приемы приезжавших в Ставку сановников и занятие разными делами, в 4 часа чаепитие, обязательная ежедневная прогулка — сначала на автомобиле, а затем пешком: по возвращении с прогулки снова приемы и занятие разными делами, в 7.30 вечера обед, поздним вечером игра в кости и сон. В самых редких случаях генерал Алексеев тревожил государя экстренным докладом. Несколько раз государь выезжал на фронт, иногда посещал тыловые города и почти каждый месяц или он выезжал к семье в Царское Село, или царица с дочерьми приезжала в Ставку. Наследник вскоре поселился с отцом. Может быть, для ученья и воспитания мальчика пребывание в Ставке было не особенно полезно, но для отца было большим утешением иметь около себя сына.
Мне казалось, что все великие и малые князья готовы были переселиться в Ставку. Каждый из них стремился хоть краем риз своих коснуться Ставки, чтобы быть причтенным к лику боевых защитников Родины. В Ставке поселился Сергей Михайлович, тут же пристроился Георгий Михайлович, мотались без дела Кирилл и Борис Владимировичи, адъютантствовали Дмитрий Павлович и Игорь Константинович; изредка показывались Михаил Александрович, Павел Александрович, Николай Михайлович, Андрей Владимирович, чаще Александр Михайлович. Правду
441
сказать, делом занимались: Сергей Михайлович — прекрасный артиллерист, состоявший начальником артиллерии; Михаил Александрович командовал не худо Дикой дивизией: Георгий Михайлович посылался царем для раздачи наград — тоже для великого князя, генерал-адъютанта, дело; Александр Михайлович — не знаю, худо ли или хорошо — направлял воздушный флот. Борис Владимирович вскоре получил звание атамана казачьих войск. Генерал Алексеев после того несколько раз с возмущением говорил мне, что этот атаман, выпросив у царя отдельный поезд, когда для армии дорог был каждый вагон, шляется без толку по фронту, затрудняя движение воинских поездов и беспокоя воинские части. У младших князей дело не обходилось без похождений и иногда довольно скандальных, которые очень смущали могилевцев, раньше не видевших высочайших особ и представлявших их совсем иными. В общем, царские сродники не помогали царю в несении принятого им на себя великого бремени и не прибавляли славы ни ему, ни его престолу. Прибывавшие в Могилев и пребывавшие в Могилеве великие и малые князья всегда приглашались к царскому столу.
Царская свита состояла почти без исключения из лиц, хорошо знакомых мне, с которыми я раньше многократно встречался на высочайших парадах и разных торжествах. Ближе всех ко мне должен был быть генерал Воейков — он же проводил меня в протопресвитеры, вместе с ним мы состояли опекунами сирот протопресвитера Е.П. Аквилонова; до войны наши отношения были безупречными. Но теперь я стал замечать некоторую осторожность в отношениях Воейкова ко мне. Он, может быть, остерегался демонстрировать нашу близость ввиду больших симпатий ко мне великого князя Николая Николаевича, ставшего опальным, и моего отрицательного отношения к Распутину и его клике.
Скоро более близкими ко мне стали адмирал К.Д. Нилов, профессор С.П. Федоров и даже граф А.Н. Граббе. Они откровенно делились со мною своими внутренними переживаниями в связи с распутинской историей, а я, как неопытный еще в придворных интригах, пользовался их советами и предупреждениями. Нас объединял одинаковый взгляд на царицу и Распутина, и предчувствие печальных событий беспокоило, хоть и в разной мере, всех нас.
Из великих князей определенными антираспутинцами были все три Михайловича и Димитрий Павлович. Владимировичи лавировали и царицей считались за ее союзников. Павел Александрович, кажется, подлаживался под настроение распутинцев и за это пользовался большим вниманием царицы.
Кстати, о великом князе Николае Михайловиче, старшем из Михайловичей (род. 14 апреля 1859 г.). Его считали большим историком. А генерал Н.И. Иванов, при котором на Юго-Западном фронте долго состоял этот великий князь, уверял меня, что он
442
был еще и большим интриганом. Я сам замечал особенность характера Николая Михайловича: он всегда критиковал или высмеивал кого-либо. Царица не любила этого своего родича.
В царскую Ставку, конечно, чаще, чем в Барановичскую, стали наезжать министры. Тут я знакомился с каждым новым министром. Познакомился я с Елочным Дедом, как его называли свитские, Б,В. Штюрмером, имевшим недобрую славу и на меня произведшим неприятное впечатление, с вертлявым и несерьезным, хоть и очень элегантным А.Д. Протопоповым, с А.Ф. Треповым, немногоглаголивым, но весьма вдумчивым, наблюдательным и решительным господином. Когда Штюрмера назначили министром иностранных дел, генерал Алексеев сказал мне: «Я не удивлюсь, если Штюрмер будет назначен на мое место».
Из старых министров, приезжая в царскую Ставку, заходили ко мне С.Д. Сазонов (министр иностранных дел), А.В. Кривошеин (земледелия), граф П.Н. Игнатьев (народного просвещения), Поливанов (военный). К сожалению, все это были нелюбимые царицей министры. Из пребывавших в Ставке нередко заходил ко мне бывший министр, а в то время возглавлявший красно-крестные учреждения в армии, первый чин двора П.М. Кауфман, а с марта 1916 г. моим надоедливым посетителем, ежедневно отнимавшим у меня много времени и своими беспрерывными жалобами на царское невнимание к нему терзавшим мои нервы, был генерал-адъютант Н.И. Иванов. Моими соседями по помещению стали дежурный генерал П.К. Кондзеровский и начальник военных сообщений генерал С.А. Ронжин, добрые и верные люди, с которыми я смело мог делиться своими переживаниями.
Не ограничиваясь богослужебной и канцелярской работой в Ставке, я продолжал выезжать на фронт. Государь очень сочувствовал моим поездкам и всякий раз, прощаясь со мной, просил передать войскам, что он не забывает о них и душевно переживает все невзгоды и страдания. На фронте меня ожидали новые встречи, разговоры и впечатления. К сожалению, 1915 г. был страшным в жизни нашей многострадальной армии, героически, но с ужасными потерями отбивавшейся от врага. Печальные картины тогда приходилось мне наблюдать на фронте, ужасные разговоры приходилось выслушивать.
В течение целого года, с конца июля 1914 до сентября 1915г., я не заглядывал в Петроград. Не тянуло меня туда: войска были на фронте, там же было и почти все мое духовенство. Доносившиеся до меня из Петрограда слухи говорили, что там невеселое настроение. Передав управление тыловым духовенством своему помощнику, который только в затруднительных случаях сносился со мной, я все свое внимание отдал фронту. Б сентябре же 1915 г. я заглянул в Петроград, чтобы и себя показать, и на своих
443
тамошних сотрудников посмотреть, и с настроением петроградским ознакомиться.
В барановичской Ставке я познакомился с женой младшего адъютанта Верховного князя Владимира Эммануиловича Голицына. Она была дочерью герцога Мекленбургского, по своей внутренней и наружной красоте очаровательнейшей женщиной124. У нее было большое желание, чтобы я познакомился с ее матерью, известной в Петрограде графиней Карловой, жившей в своем дворце на Фонтанке, рядом с Сергиевским подворьем.
Графиня Карлова была ярой антираспутинкой, хоть и не порывала добрых отношений с царицей. Очевидно, она была предупреждена дочерью о моем настроении и, когда я посетил ее, сразу же заговорила о всероссийской беде, какою представлялось ей увлечение царицы Распутиным и огромное влияние последнего на государственные дела. От нее я узнал, какими нечистыми путями и способами пользовались некоторые даже духовные лица, чтобы угодить царице и Распутину и заслужить их благоволение.
Моим однокурсником, одновременно со мною поступившим в академию и одновременно окончившим курс ее, был Николай Николаевич Кузнецов, сын единоверческого священника Санкт-Петербургской епархии. Раньше отец Кузнецова был раскольником и занимался сапожным делом. В.К. Саблер обратил его в православие и сделал его священником. У сердобольного Владимира Карловича такие дела делались просто и быстро, он мог кого угодно посвятить в епископы даже, а не то что в иереи. Николай Кузнецов был более чем посредственным студентом, но вкрадчивым, пронырливым, неразборчивым в средствах карьеристом и сребролюбцем. Ради карьеры он принял монашество с именем Алексия. Чтобы быстрее подниматься по иерархической лестнице, он написал книжку о юродивых — святых русской Церкви, в которой косвенно оправдывал и пьянство, и разврат Распутина, и эту книжку поднес императрице Александре Феодоровне. Хитрый монах достиг цели: книжка чрезвычайно понравилась царице, так как она «научно» оправдывала Распутина. Сорокалетний архимандрит Алексий стал епископом; сдетинившийся, ставший почитателем Распутина Московский митрополит Макарий в ноябре 1916 г. принял его в свои викарии. После этого епископ Алексий хвастался одному из своих знакомых: «Вот что значит потрафить Распутину! Теперь я московский епископ, живу в богатом монастыре, получаю более 25 тысяч рублев в год». Что с ним стало после революции, не знаю. Думаю, что ему не поздоровилось. А может быть, хитроумный монах и там нашел средство потрафить кому следовало...
«Вы не видели этой книжки? — спросила меня графиня Карлова, подавая книжку Алексия. — Обратите внимание на
444
места, отчеркнутые красным карандашом. Это сама царица отчеркивала. Она же и дала мне эту книжку, чтобы я внимательно прочитала ее». Я начал перелистывать книжку. Подчеркнуты были все места, где говорилось, что некоторые святые-юродивые проявляли свое юродство в пьянстве и половой распущенности. Я вспомнил о своей беседе с царским духовником в мае 1914 г., когда тот пытался убедить меня, что пьянство и распутство не мешают Распутину оставаться святым. Так еще больше запутывали и без того запутавшуюся в распутинских сетях царицу. Не любил я Кузнецова в академии, а теперь он стал омерзителен мне. Бывая в Москве, а потом в 1917-1918 гг. живя там, я избегал встречи с ним. Но что Кузнецов, когда митрополиты Питирим и Макарий кузнецовским же путем взобрались на свои митрополичьи кафедры! Макария еще можно было немножко оправдывать тем, что он сдетинился, а для Питирима не было никаких оправданий: он играл недостойную. позорную роль...
Побеседовав с графиней Карловой, я составил себе ясное представление о настроении петроградского высшего общества: царица и Распутин не сходили там с уст, распутинская история перетолковывалась на все лады. Все благоразумное и честное было против распутинщины. «А там, — сообщил мне царский духовник, — Распутин приобретал все большую силу». Не к добру шло дело.
XXV. Мое назначение присутствующим в Святейшем Синоде.
Наблюдения и впечатления
В первый месяц существования царской Ставки я не мог считать свое положение в ней совершенно прочным. Так же считали и многие чины Ставки. Мне часто приходилось отвечать на вопросы: «Не собираетесь переезжать в Петроград? А как государь относится к вам? Не дуется он на вас за вашу близость к бывшему Верховному?» И тому подобное. Но государь был всегда ласков и внимателен ко мне. Даже как будто он становился все ласковее и внимательнее. О свитских и говорить нечего — все они с исключительным вниманием относились ко мне. Мое положение выяснилось в октябре 1916 г., когда я был включен в зимнюю сессию Святейшего Синода. Поблагодарив государя за высокое назначение, я не обинуясь спросил его, как ему теперь будет угодно: чтобы я переехал в Петроград или продолжал оставаться в Ставке. Государь ответил: «Ваше главное дело в армии. Поэтому оставайтесь здесь, а в Синод будете наезжать». Мне оставалось еще раз поблагодарить государя.
445
Тобольское дело125, повлекшее за собою увольнение от должности обер-прокурора Святейшего Синода А.Д. Самарина, замену его гофмейстером А.Н. Волжиным и привлечение в члены Святейшего Синода нескольких новых архиереев и двух протопресвитеров — придворного и военного, как и мое участие в заседаниях Святейшего Синода подробно описаны в двух главах моего труда «На войне» — в III (стр. 292-313) и X (стр. 432-468). Повторяться я не стану. И лишь в самых общих чертах изложу свои наблюдения и впечатления, дополнившие уже сложившийся у меня взгляд на пастырское дело вообще и на архиерейское в частности.
Когда я теперь вспоминаю о своем присутствии в Святейшем Синоде в течение целых полутора лет, мне становится жутко и отвратительно при представлении тех трений, подвохов, опасностей, которые приходилось преодолевать, заседая в Синоде.
В Синоде я присутствовал обычно на двух-трех заседаниях в месяц. Сначала я отправлялся на фронт и оттуда заезжал в Петроград. В Синоде я застал неприятную атмосферу. С конца ноября 1915 г., после назначения экзарха Грузии архиепископа Питирима на Петроградскую митрополичью кафедру вместо переведенного в Киев митрополита Владимира, она стала отвратительной. Члены Синода разделились на две непримиримые партии — распутинскую и антираспутинскую. Первую возглавлял новый митрополит Питирим, благодаря Распутину вознесшийся на высоту, какая ему и не снилась. За ним шел старенький, умом одряхлевший Московский митрополит Макарий, также благодаря Распутину попавший в Москву. С ними же был очень неглупый, хитрый и беспринципный Черниговский епископ Василий. Число синодских архиереев-распутинцев, таким образом, было невелико. Но к ним присоединились еще несколько влиятельных синодских чиновников: товарищ обер-прокурора Даманский, управляющий канцелярией Святейшего Синода Гурьев, обер-секретарь Синода действительный статский советник Мудролюбов, а во второй половине 1916 г. — обер-прокурор Святейшего Синода Раев и товарищ его — убогий князь Жевахов. Сила же этой группы заключалась в том, что за этой партией стояли царица, Распутин, Вырубова и их присные, считавшие эту группу своею. Вторая группа возглавлялась митрополитом Владимиром, благочестивым, честным, благородным, но не ловким. не пригодным для борьбы. К ней примыкали лучшие наши тогдашние архиереи: Тихон Литовский, Сергий Финляндский. Арсений Новгородский — первые двое потом стали патриархами. Всецело примыкали к ней и оба протопресвитера. Серафим (Чичагов), архиепископ Тверской, играл в Синоде странную роль: на заседаниях Синода и в частных беседах с синодальными членами он старался показать себя ярым противником Распутина и иногда очень резко выступал против Питирима, а в салоне Выру-
446
бовой критиковал действия Синода126. Надо ли прибавлять к этому, что он всеми способами втирался в доверие царицы и по временам бражничал с Распутиным, уповая, что последний проведет его в митрополиты. Присутствовавший тогда в Синоде епископ Архангельский Нафанаил никогда не имел собственного мнения и всегда соглашался с обоими митрополитами и в тех случаях, когда они диаметрально расходились. Борьба происходила главным образом между митрополитами Владимиром и Питиримом. Питирим смиренно, но настойчиво проводил свою линию; митрополит Владимир неизменно нападал на него. К сожалению, митрополит Владимир не умел отделить принципиальное, служебное от личного — от неприязни к митрополиту Питириму, занявшему его петроградскую кафедру, нервничал, терял самообладание и всем этим давал Питириму основания в дурном свете представлять его пред царицей. Питирима поддерживал епископ Василий. Архиепископы Тихон, Сергий и Арсений очень осторожно вмешивались в пререкания митрополитов. Оба протопресвитера всегда поддерживали митрополита Владимира и критиковали митрополита Питирима, придворный
А. А. Дернов резко и решительно, а я более мягко и дипломатично. Что побуждало умных и влиятельных архиепископов быть сдержанными, привычное ли почтение к митрополичьему сану или какие-либо другие соображения, я затрудняюсь сказать. Но мы, протопресвитеры, обязательно поплатились бы за свои выступления против Питирима, если бы не разразилась революция. Хотя я бывал более мягок и деликатен в своих выступлениях против митрополита Питирима, но последний более обижался на меня, чем на о. Дернова, учитывая, вероятно, мою большую близость к государю. Когда его попытки склонить меня на свою сторону не удались, он пред своими приближенными грозил сломать мне шею.
После каждого бурного заседания митрополит Питирим спешил в Царское Село, чтобы доложить императрице о происшедшем в Синоде, и докладывал в выгодном для себя свете. У царицы создавалось впечатление, что крамола проникла и в Святейший Синод.
То было знамением несчастного времени, что лукавый и фальшивый, не блиставший ни умом, ни ученостью, залезший на Петроградскую митрополичью кафедру благодаря недостойной дружбе с Распутиным митрополит Питирим пользовался таким вниманием, любовью и полным доверием царицы, а с нею и царя, каким не пользовался раньше ни один из российских митрополитов, хотя между ними было немало достойнейших во всех отношениях. Для митрополита Питирима двери царского дворца всегда были открыты, там он принимался во всякое время как желанный гость, как свой человек.
447
Летом 1916 г. митрополит Питирим настойчиво от имени царицы убеждал меня стать архиепископом, доказывая, что это будет очень выгодно для меня: в управлении я получу больший вес и силу, в иерархии я как столичный займу первое место после Петроградского митрополита. Я решительно отверг это предложение, разгадав коварную цель Питирима — мирным и якобы почетным путем ликвидировать меня: стоило мне принять архиепископство, и я в скором будущем был бы сплавлен для пользы службы на какую-либо видную архиерейскую кафедру. А военное и морское духовенство дорожило тем, что во главе их стоит протопресвитер, а не архиерей, и в случае моего согласия на лукавое предложение митрополита Питирима обвинило бы меня, что я продал первенство за чечевичную похлебку.
Такова была атмосфера, царившая в Синоде. Облеченные высшим священным саном, члены Синода не доверяли друг другу, опасались друг друга. Моими близкими, которым я безусловно доверял и от которых не скрывал своих чувств и настроения, были архиепископы Сергий, Тихон и Арсений, талантливые и высоко порядочные люди, подлинные святители. Нисколько я не сомневался и в митрополите Владимире. Но он был малообщителен, и близости с ним у меня не было. Несимпатичен был мне архиепископ Серафим (Чичагов) своей двуличностью, лицемерием и постоянными интригами, хоть я и ценил в нем живость мысли, проявлявшуюся в некоторых его выступлениях и докладах, например, по приходскому вопросу. При разумном и влиятельном председателе архиепископ Серафим мог бы быть очень полезен для церковного управления. Митрополит Макарий совершенно бесплодно занимал членское место в Синоде: своего мнения он не имел, либо соглашался с митрополитом Питиримом, либо заявлял, что по глухоте он не расслышал прений и потому не может высказать своего мнения. Жалкий был старик, не годившийся ни для какой кафедры, а тем более для московской. Но дружба с Распутиным в глазах царицы покрывала все, его она считала великим молитвенником и праведником. Мое отношение к митрополиту Питириму было совершенно отрицательное: не мог я примириться с тем, что на первосвятительской российской кафедре сидит такой фальшивый, недостойный человек. Очень не нравился мне Черниговский епископ Василий, прожектер, коммерсант, с подвижной совестью субъект. Наружно красивенький Архангельский епископ Нафанаил был совершенно безличен и тащился на буксире. С Распутиным он как будто не имел связей.
Придворный протопресвитер Александр Александрович Дернов был лет на 14 старше меня. У меня было давнишнее знакомство с ним. Я бывал у него, еще будучи студентом. Я не считал его очень талантливым. Но это был человек разумный, безукоризненно честный и открытый, неспособный пресмыкаться пред
448
кем бы то ни было. Не считаясь с высоким саном, он резал митрополиту Питириму такую правду, что она походила на большую дерзость. Митрополит скрепя сердце выслушивал ее. Чины синодальной канцелярии удивлялись смелости придворного протопресвитера. Солидарность между нами была полная. Мы вместе и приезжали в Синод, и уезжали из Синода. У меня не было собственного экипажа, а о. Дернов по своему положению пользовался придворной каретой. Вот он и заезжал всякий раз за мной, чтобы довезти меня до Синода. И в синодальных выступлениях расхождений между нами не бывало.
В начале октября 1915 г. на место Самарина обер-прокурором Святейшего Синода был назначен гофмейстер А.Н. Волжин. Волжин сразу определил свой курс, когда наотрез отказался сделать визит фрейлине А.А. Вырубовой, хотя многие убеждали его оказать такое внимание этой временщице. При всей своей неопытности в церковных делах Волжин в самое короткое время успел разгадать недоброкачественность Питирима, и, когда тот 23 ноября 1915 г. получил Петроградскую митрополичью кафедру, между ними уже были холодные отношения. Эти отношения все ухудшались по мере того, как митрополит Питирим выявлял свою недоброкачественность, и скоро перешли в открытую борьбу обер-прокурора с митрополитом. Волжин не рассчитал своих сил. Он утешался тем, что правда на его стороне, и надеялся, что государь, который как будто благоволил к нему, поддержит его. Но ведь царское благоволение бывало непрочным. Вырубова и Распутин стояли за спиною митрополита Питирима. Председатели Совета министров Горемыкин и Штюрмер покровительствовали ему. Наконец, к нему с особым благоволением относилась императрица, причислившая его к лику великих молитвенников, надежнейших столпов царского престола. Волжин проиграл. Пробыв всего 11 месяцев обер-прокурором, он в начале сентября 1916 г. был заменен директором женских курсов Н.П. Раевым. Распутин и царица посадили Раева в это высокое кресло. Распутин увидел в нем «воистину посланника Божия»127, а царицу он прельстил, кроме того, тем, что Раев якобы очень хорошо поставил женские курсы и был сыном митрополита Санкт-Петербурга Палладия († 6 декабря 1898)128. Первое было совершенно ошибочным. Я, правда, не знал этих курсов, но хорошо знавшие их серьезные люди уверяли меня, что эти курсы совсем не так уж были хороши. Да и трудно было поверить, чтобы неталантливый, большой женолюб Раев мог блестяще поставить женские высшие курсы. Второе было верно. Раев действительно являлся сыном Санкт-Петербургского митрополита Палладия. Но и митрополит Палладий не блистал особенными дарованиями, да и совсем не обязательно, чтобы сыновья митрополитов оказывались весьма даровитыми. Как я
449
потом узнал, ближе познакомившись с Раевым, это был человек посредственных способностей и непрочных моральных устоев. Скоро распутинец Раев привлек в Синодальную канцелярию еще двух распутинцев: обезьяновидного князька Ж., занявшего высокий пост товарища обер-прокурора Святейшего Синода, и уволенного Волжиным действительного статского советника Мудролюбова, ставшего помощником управляющего канцелярией Святейшего Синода. Святейший Синод стал похож на распутинскую контору. Входишь, бывало, в Синод и на каждом шагу встречаешь распутинца: управляющий канцелярией Синода и его товарищ, обер-прокурор со своим товарищем, потом митрополиты, епископы и так далее. Каждое твое слово может быть подхвачено, перетолковано, переиначено и доложено царице и распутинской клике. Отвратительное время. Я рад был, что мог редко заглядывать в Синод.
Как Самарин и Волжин, Раев обер-прокурорствовал недолго, революция свалила его. Но его обер-прокурорствование было знаменательным. Противники обер-прокурорской власти в Синоде должны были бы поставить митрополиту Питириму в огромную заслугу, что в лице Раева он свел к нулю обер-прокурорскую власть. Раев был не обер-прокурором, а служкою митрополита Питирима, слепо следовавшим за ним, раболепно исполнявшим все его веления, унижавшим не только обер-прокурорское, но и свое человеческое достоинство. К сожалению, такой упадок обер-прокурорской власти не сопровождался возвышением авторитета и силы Синода, ибо все более захватывавшая в Синоде власть в свои руки распутинская клика была гнуснее и вредоноснее самых худших прежних обер-прокуроров...
С назначением Раева обер-прокурора фактически не стало — его права узурпировал митрополит Питирим. А над ним стоял властитель царских дум — «старец» Распутин. Царица видела в нем необыкновенного Божиего избранника, для которого были открыты тайны и настоящего, и будущего. Царь в значительной мере разделял веру своей жены. От Распутина уже давно стал зависеть выбор царем митрополитов, перевод и назначение епископов. Но при прежних обер-прокурорах Синод сторонился Распутина. Теперь же для митрополита Питирима и Раева с их присными желания и веления Распутина стали законом, подлежавшим исполнению. Раболепство митрополита Питирима пред Распутиным превзошло все границы. Когда Распутин переступал порог митрополичьего дома, прием посетителей у митрополита Питирима прекращался, митрополит спешил навстречу «знатному» гостю и. встретившись, трижды лобызался с ним: введя в свои покои, усаживал его на самое почетное место, угощал обильными обедами и ужинами — словом, этому тобольскому конокраду оказывал такую честь, какой он не оказывал и
450
министрам. Все это было беспримерным унижением и митрополичьего сана, и престижа церковного. Трудно представить, до чего бы это дошло, если бы не был убит Распутин и не разразилась потом революция.
В Святейшем Синоде я заседал на протяжении полутора лет. За это время я успел многое оценить или переоценить. Раньше я представлял себе Святейший Синод земной святыней, где витает Дух Святый, где святителями богомудро разрешаются различные церковные дела. Тут я увидел, что большинство дел изучались и разрешались синодальными чиновниками, а члены Синода даже без прочтения этих дел скрепляли их своими подписями. Собирались члены Синода трижды в неделю на двухчасовые заседания, с 11 до 13 часов дня (в особых случаях Синод собирался и в другие дни, такие заседания чаще происходили по вечерам), причем не менее половины этого времени тратили на заслушивание бракоразводных дел. Подлежавшие решению дела члены Синода не изучали и составляли то или иное понятие о них по освещению докладывавшего чиновника, который мог так и иначе растолковать дело. А затем и за самым безличным обер-прокурором оставалось предоставленное ему право: он мог не допустить до доклада Синоду любое дело, как, например, не была допущена в августе 1914 г. высочайшая телеграмма о запрещении дальнейших воссоединения галицийских униатов, как не был доложен Святейшему Синоду мой рапорт от 17 февраля 1915 г. Обер-прокурор мог также не допустить до приведения в исполнение любое решение Синода, стоило ему лишь не подписать синодальный протокол. Наконец, докладывал царю решения Синода тот же обер-прокурор и при докладе мог дать желательное ему освещение. Правда, в 1916 г. государем было предоставлено первенствующему члену Святейшего Синода право докладывать царю синодальные дела в присутствии обер-прокурора. Но митрополит Владимир ни разу не воспользовался этим весьма выгодным для Церкви правом, особенно важным для того времени, когда разные безответственные влияния стали мешать здоровому течению церковной жизни.
Печальною особенностью синодальной работы было отсутствие в ней идейности и активности. Синод тащился на буксире своих канцелярий, рассматривал дела, уже пережеванные в этих канцеляриях, но своей инициативы не выявлял или выявлял ее очень редко и не в тех размерах, какие требовались для нуждавшейся в обновлении Церкви. Это было симптоматично для того времени, что даже такие выдающиеся архиереи, какими были архиепископы Сергий. Тихон и Арсений, мирились с бездействием Синода и не пытались сделать работу Синода более плодотворною, более отвечающею требованиям времени. На этом явлении нельзя не остановиться.
451
Еще до начала Великой войны я имел возможность во время своих поездок по России познакомиться с большинством российских архиереев. От своих военных и морских священников, раньше служивших в разных епархиях, я много слышал о методах и способах епархиального управления, в частности об отношении архиереев к церковной и общественной жизни, равно как к жизни и деятельности духовенства. У меня составилось убеждение, что все архиереи в общем были похожи друг на друга. Кто-нибудь мог бы сказать, что у всех их одна была мысль: паства для них, а не они для паствы. Я не решусь бросить такого огульного обвинения. Но что в постановке у нас архиерейского служения был большой дефект, этого я отрицать не стану. Уже то было большим недостатком, что наши архиереи стенами своих чертогов и карет, важностью своих особ были отгорожены от своих паств. Пасомые видели своего владыку величественно совершающим богослужение, важно следующим в своей парной карете, иногда проповедующим с церковной кафедры, и только. Священники встречались и такие, которые после своего рукоположения десятки лет прослужившие в сельских приходах, ни разу не увидев своего архиерея. Архиереи же считали долг своего звания выполненным, когда они усердно совершали богослужения, изредка проповедовали, не ленились благословлять подходивших к ним после богослужения богомольцев, принимали просителей и управлялись с кипами поступавших к ним бумаг. И такими архиерейскими добродетелями удовлетворялась паства. Если же архиерей, кроме того, отличался постничеством, то его поклонники, а в особенности поклонницы, объявляли его праведником, в святые возводили. Мне не раз приходилось слышать: «Владыка-то наш! Истинный архипастырь, святой человек, постится-то как, почти ничего не ест...» Как будто в архиереи ставят для того, чтобы они ничего не ели и не пили. Архиерей должен быть добрым, опытным и разумным администратором, для пасомых и для пастырей попечительным отцом, вникающим в их жизнь и направляющим ее, откликающимся на все запросы, горести и невзгоды своей паствы. А это было весьма симптоматично, что наиболее благочестивые архиереи — усердные молитвенники и великие постники — оказывались самыми неудачными администраторами, замыкавшимися в своих кельях и предоставлявшими другим неответственным лицам управлять епархией и жизни епархиальной течь по воле Божией. Я мог бы привести много таких примеров, но зачем тревожить благочестивых покойников...
Замкнутость наших владык, их отчужденность от частной и общественной жизни были причиною того, что почти все наши архиереи отличались удивительной общественной и политической близорукостью. Даже самые выдающиеся из них не были свободны от нее. Когда я, прибыв в Синод в 1916 г., бывало, на-
452
чинал делать печальные прогнозы грядущих событий, синодальные владыки выражали и недоверие, и удивление: им казалось, что все идет наилучшим порядком, что благоденствию их не будет конца.
Мне кажется, что указанная особенность архиерейского настроения и уклада архиерейской жизни была главною причиною инертности синодальных архиереев. Они не знали жизни, не знали ее недугов и запросов: они удовлетворялись настоящим, традиционным, а новизна представлялась им излишнею, опасною. Первенствующий член Синода митрополит Владимир был типичным представителем такого класса архиереев. Тогдашнее положение церкви — ее приходского дела, епархиального управления, церковно-школьного, миссионерского, монастырского устройства — требовало больших реформ, самых серьезных преобразований. Церковь нуждалась в деятелях жизненных, пламенных, самоотверженных, твердых в правом исповедании веры, в соблюдении основных канонов Православной Церкви, но не держащихся слепо за старину, шаблон, традицию, дорожащих не буквою, а духом животворящим. А митрополит Владимир считал, что все в Церкви нормально и благополучно, ничего лучшего не требуется.
При всем моем глубоком уважении к памяти архиепископов Сергия, Тихона и Арсения, я решаюсь сказать, что и они недостаточно чутко относились к современности и современным нуждам Церкви. Более чутким казался мне Тверской архиепископ Серафим (Чичагов). Пажеский корпус, на котором закончилось образование этого архиепископа, не мог сделать его богословом, монастыри, в которых он подвизался сначала в числе братии, а потом в роли настоятеля-архимандрита, не воспитали в нем благочестия, и в монашестве, и в епископстве он оставался человеком мира сего, не брезгавшим земными благами. Это смущало набожных. Мне же архиепископ Серафим был несимпатичен своим интриганством, двоедушием, неразборчивостью в средствах, своим карьеризмом, наконец, отсутствием у него духовности: кроме рясы и клобука, казалось мне, ничего духовного у него не было. При всем при том я не мог не ценить его добрых порывов, которые свидетельствовали, что он вдумывался в церковную жизнь, угадывал, несмотря на свою светскость, ее недуги и стремился уврачевать их. Я, например, считаю большой его заслугой, что он, будучи чуждым церковной среде и по своему образованию в Пажеском корпусе, и по своей первоначальной службе в гвардейской артиллерии, оценил огромную важность вопроса о приходах и много сделал, чтобы возбудить интерес к нему и в обществе, и в Государственной Думе, и даже в Святейшем Синоде. Этот вопрос должен был бы заинтересовать более тех архиереев, которые получили образование в духовных школах, выросли в
453
священнических, диаконских и псаломщических семьях, близко наблюдали приходскую жизнь и должны были заметить ее дефекты и нужды. Только один еще архиерей подвигся на защиту вопроса о приходе. Этим архиереем был митрополит Питирим, но нечистые побуждения, руководившие им, совершенно обесценили его выступления129. Инертность, апатия, близорукость, отдаленность от действительной жизни мешали нашим высшим церковным кругам уразумевать назревшие церковные вопросы, врачевать церковную жизнь и чувствовать приближение грозной поры. Большинство наших владык, как и государь, не любили «задумываться», чтобы тревожными думами не нарушать своего благоденственного и мирного жития.
А вопросов-то, больших и нелегких вопросов в Церкви накопилось много. Кроме реорганизации приходов и оживления приходской жизни требовались оживление, одухотворение архипастырской и пастырской деятельности, реорганизация учебного и воспитательного дела в наших высших, средних и низших учебных духовных заведениях, обновление монастырской жизни и подъем монастырских хозяйств, усиление миссионерства и улучшение методов миссионерской работы, реорганизация института ученого монашества, его подготовки и применения его. усиление церковно-книжного издательства, как и церковной благотворительности, и так далее. Но Синод таким вопиявшим вопросам не придавал значения, не уделял им нужного внимания и продолжал большую часть времени на своих заседаниях употреблять на рассмотрение прелюбодейно-бракоразводных дел, в большинстве случаев омерзительных по существу и совсем не подходящих для архипастырского слуха. Слава Богу и за то, что большинство этих дел проводились по реестру, давая пишу лишь воображению чиновников, а члены Синода только подписывали эти реестры, не просматривая и не выслушивая самих дел. Я несколько раз заявлял, что лучше бы Синоду отстраниться от рассмотрения бракоразводных дел, предоставив консисториям разрешать их. Мне отвечали: «Это невозможно. Решительный голос в таких делах должен принадлежать Синоду». Так и продолжал Синод купаться в бракоразводной грязи. Многократные заявления архиепископа Серафима о необходимости рассмотреть приходской вопрос оставались гласом вопиющего в пустыне. Когда в 1916 г. я обратился к митрополиту Владимиру с просьбою поставить на обсуждение Синодом составленный мною проект сокращенных церковных служб на фронте во время войны, митрополит решительно отказал мне в просьбе, сославшись на то, что сокращение может вызвать нарекания раскольников. А между тем сокращение было необходимо, так как продолжительные службы на открытых местах — летом под палящими лучами солнца, а зимою на морозе — были невозмож-
454
ны, и священники каждый по-своему, иногда очень неумело сокращали службы. Синод любил решать дела по шаблону и избегал касаться новых вопросов.
В летнюю сессию Святейшего Синода место первенствующего занимал митрополит Питирим, а митрополит Владимир в Киеве знакомился со своей новой епархией. При председательствовании митрополита Питирима в заседаниях Святейшего Синода установился особый порядок: в первую очередь на каждом заседании рассматривались дела Петроградской епархии и иные, в которых митрополит Питирим был заинтересован, и при рассмотрении этих дел митрополит Питирим проявлял большую живость; когда же начиналось решение других дел, он становился вялым, небрежным, апатичным. Пока обер-прокурором был А.Н. Волжин, митрополит Питирим не решался ярко выявлять свои распутинские симпатии и держал себя в Синоде скромно. Но я лично дважды испытал на себе его стремление угодить Распутину и царице: в первый раз — когда он предлагал мне архиепископство с несомненной целью удалить меня из Петрограда: во второй раз — когда он тем же летом 1916 г. просил меня от имени царицы повлиять на армию, чтобы там поменьше было разговоров о Григории Распутине. Когда же в начале сентября этого года обер-прокурором стал Раев, митрополит Питирим, пользуясь отсутствием митрополита Владимира и раболепной поддержкой Раева, начал бесцеремонно пробираться к креслу первенствующего члена Святейшего Синода. Иначе нельзя было объяснить сделанные им вскоре по вступлении Раева в должность предложения Синоду: а) почтить царицу Александру Феодоровну поднесением ей от Синода адреса и иконы по случаю исполнившейся годовщины ее служения сестрой милосердия и б) также и царю поднести адрес и икону по случаю исполнившейся годовщины Верховного командования им армией. Нечистая цель этих предложений была ясна для всех членов Синода: митрополит Питирим и его сторонники объяснят царице, а она — царю, что инициатива этих приветствий и подношений принадлежала ему, митрополиту Питириму, а не Синоду, и митрополит Питирим еще раз предстанет пред царскими очами как верноподданнейший сл5гга престола. Членам Синода была отвратительна эта затея, но возражать против нее не приходилось. поскольку всякое возражение было бы истолковано как враждебный царской Семье акт. Царице Синод в полном составе подносил адрес и икону 25 сентября в Царскосельском дворце, а царю — 4 октября в Ставке130. Я участвовал в обоих случаях и оба раза испытывал большое смущение: и царица, и царь недоумевали, за что же Синод их чествует. Искусственность и фальшь были слишком очевидны. Придворные с улыбкой спрашивали меня: «Разве у вас в Синодальном ведомстве признают
455
годовые юбилеи и чествуют адресами и подношениями прослуживших один год в должности?» Мне приходилось отвечать, что Святейший Синод этими актами выразил свое преклонение пред самоотверженным трудом, который приняли на себя царь и царица в годину тяжких народных испытаний. Мне улыбаясь отвечали: «Вот как!» Но митрополит Питирим не ошибался в вопросах, касавшихся его карьеры: 6 декабря 1916 г. он был высочайше пожалован преподношением креста при богослужении — для недавно ставшего митрополитом чрезвычайно высокой наградой, как будто ничем другим им не заслуженной. Митрополит Владимир был и огорчен, и возмущен, когда, прибыв в конце октября на зимнюю сессию Святейшего Синода, узнал, как митрополит Питирим вынудил Синод согласиться на поднесение адресов и икон царю и царице и как Питирим спешил проделать церемонию до его приезда. При всей своей близорукости митрополит Владимир разглядел коварную игру митрополита Питирима. Отношения между митрополитами еще более обострились.
Нетрудно было предвидеть, чем закончилась бы борьба двух митрополитов в недалеком будущем, если бы не разразилась революция: митрополита Владимира постигла бы судьба знаменитого митрополита Московского Филарета, который в бытность обер-прокурором Протасова в течение десяти лет не вызывался в Синод, — его бы тоже, чтобы якобы не отрывать от новой епархии, не вызывали бы в Синод и его место как первенствующего занимал бы митрополит Питирим. Судьба распорядилась иначе: в начале марта 1917 г. митрополит Питирим был освобожден и от должности члена Святейшего Синода, и от управления Петроградской епархией и вскоре был отправлен в Пятигорский монастырь на Кавказе, где проживал до конца 1919 г. в безвестности и скудости; митрополит Владимир в апреле 1917 г. также был освобожден от присутствия в Святейшем Синоде и отбыл в свой кафедральный город Киев. Там 18 января 1918 г. он был убит шайкой каких-то бандитов. Митрополит Питирим в самом начале 1920 г., спасаясь от советских войск, прибежал вместе с бывшим товарищем обер-прокурора Святейшего Синода князем Жеваховым в г. Екатеринодар и там поселился у управлявшего тогда Екатеринодарской епархией митрополита Антония, бывшего Киевского, но скоро заболел и, кажется, 20 января 1920 г. скончался не только от болезни, но и от огорчения: митрополит Антоний сообщал мне, что князь Жевахов обобрал митрополита Питирима, захватив его золотые часы и романовские деньги, зашитые в питиримовскую шубу, и что вероломный поступок «приятеля» чрезвычайно огорчил митрополита Питирима. Похоронили его в екатеринодарском Екатерининском соборе. Оба митрополита, не примирившись, предстали на суд Божий.
456
В апреле 1917 г. и я был освобожден от присутствия в Святейшем Синоде. Об обстоятельствах, предшествовавших этому, будет сказано ниже.
XXVI. События 1916 года.
Главные перемены на верхах правительства и армии. Мои выступления против Распутина. Убийство Распутина
1916 год был богат крупными переменами в составе высшего командования и правительства. 20 января немногим всем известный Б.В. Штюрмер, бывший неудачным ярославским губернатором и прослывший там нечистым на руку, был назначен председателем Совета министров вместо с почетом уволенного И.Л. Горемыкина. В феврале он стал и министром внутренних дел вместо оскандалившегося историей подготовки ликвидации Распутина А.Н. Хвостова, а в июле того же года ему было дано Министерство иностранных дел, когда С.Д. Сазонов попал в немилость за свой проект предоставления автономии Польше.
Высокого роста, грузный, с продолговатой, узкой, совершенно прямой бородой, Штюрмер производил на меня впечатление елочного деда. Штюрмер был молчалив, улыбки я не видел на его лице. Ходили слухи, что он был нечист на руку. Знавшие его были невысокого мнения о его умственных способностях. Его назначение на пост министра иностранных дел в июле 1916 г. было встречено генералом М.В. Алексеевым с возмущением: «Я не удивлюсь, — сказал мне Алексеев, — если Штюрмера назначат на мое место. Теперь все возможно». Но ему недолго пришлось сидеть на этом не соответствовавшем ни его способностям, ни его опыту месте: в начале ноября этого же года он был освобожден от должности министра иностранных дел, как и от должности председателя Совета министров. Министром иностранных дел был назначен Н.Н. Покровский, а председателем Совета министров — А.Ф. Трепов. Покровский производил впечатление очень скромного и дельного человека, но я мало знал его. А.Ф. Трепов слыл молчальником. Очень дельный юрист Саввич, часто ревизовавший учреждения Ведомства путей сообщения и делавший потом доклады министру, отзывался о нем как об исключительно дельном министре.
9 ноября оба они — Штюрмер и Трепов — были в Ставке и уехали после обеда. Штюрмер уехал встревоженным и раздраженным. 10-го мы в Ставке узнали о его отставке131.
15 марта умный и дельный военный министр А.А. Поливанов был заменен генералом Д.С. Шуваевым. Небольшого росту, с постриженной е проседью бородкой, серенький, простоватый и не-
457
светский генерал Шуваев более был похож на сельского церковного старосту, чем на военного министра. Правда, во время войны военный министр стал старшим чиновником тылового военного ведомства, но все же от него требовались такие качества, которых недоставало Шуваеву: он должен был выступать в Совете министров, в Государственном Совете и в Государственной Думе, от него требовались речистость, ловкость, находчивость. Провели невзрачного Шуваева в военные министры отчасти царица, а больше адмирал Нилов и профессор Федоров, сумевшие убедить государя, что из Шуваева выйдет отличный военный министр. В скором времени Шуваев разочаровал всех их: в Совете министров он не показывался132, в Государственном Совете не выступал, а в Думе совсем провалился: после скандальной речи Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г., в которой тот поносил всех и вся, Шуваев бросился пожимать руку сошедшему с кафедры хулителю. Вскоре адмирал Нилов и профессор Федоров совершенно разочаровались в своем протеже и начали высмеивать его простоватость, ненаходчивость. Разочаровалась в нем и царица. Он был заменен генералом М.А. Беляевым — Мертвой Головой, как его назвали в Маньчжурии в бытность его начальником канцелярии в штабе командующего 1-й Маньчжурской армией. Честный и очень трудолюбивый, он был до отвращения мелочен: написанной не по его вкусу буквы или непонравившейся ему запятой было достаточно, чтобы он начинал ворчать, раздражаться, требовать новой переписки бумаги. Подчиненные ненавидели его. Но по внешнему виду он выглядел джентльменом: в пенсне, всегда чистенький, гладко выбритый, в обращении деликатный, он на свежего человека мог производить очень приятное впечатление. Царица была очарована им. Конечно, для поста военного министра он не годился, только безвременье могло поднять его на такую высоту.
После 17 марта 1916 г. членом нашей ставочной семьи стал генерал-адъютант Николай Иудович Иванов, освобожденный от главнокомандования Юго-Западным фронтом и назначенный членом Государственного Совета и состоящим при особе Его Величества. Отставка генерала Иванова от фронта была замечательна тем, что он, можно сказать, сам уволил себя и потом страшно возмущался этим увольнением. Надо сказать, что генерал Иванов и после того, как он был почтен высоким званием состоящего при Особе Его Величества генерал-адъютанта и украшен самыми высокими военными орденами — правду сказать, возвеличен сверх меры, выше своих достоинств и заслуг, — продолжал оставаться с женским характером: он всегда ворчал, обижался на всех и всем был недоволен, любил посплетничать. Отставка генерала Иванова от должности главнокомандующего фронтом произошла таким образом.
458
В конце января 1916 г. генерал М.В. Алексеев попросил меня съездить с ним в Смоленск, чтобы обвенчать его сына Николая с девицей Немирович-Данченко. После венчания, как водится, следовал свадебный обед. Мне пришлось сидеть рядом с матерью жениха. Посещая фронт, я многократно выслушивал жалобы военных начальников, что Ставка, то есть генерал Алексеев, решает важнейшие вопросы, не спрашивая их, не пытаясь узнать их взгляды и мнения. Теперь я сказал об этом жене Алексеева, как я уже упоминал, женщине очень умной и имевшей большое влияние на мужа, добавив при этом. что. по моему мнению, Михаил Васильевич напрасно берет на себя всю ответственность, естественно на него падающую, раз он не совещается с другими высшими военачальниками. Анна Николаевна обещала о нашем разговоре сказать мужу. В феврале 1916 г. был собран в Ставке Военный совет с участием всех главнокомандующих и начальников их штабов. Генерал Алексеев за время своей службы с генералом Н.И. Ивановым в должности начальника штаба сначала Киевского военного округа, а потом Юго-Западного фронта успел хорошо узнать генерала Иванова, оценить способности и имел много оснований обижаться на него. Прибыв в Могилев, генерал Иванов начал жаловаться и царю, и генералу Алексееву, что. очевидно, он устарел и стал негодным к управлению фронтом, потому его не ценят, на его просьбы и требования не обращают внимания, да и сам он устал от трудов и от невнимания к нему начальства. Генерал Иванов рассчитывал, что и в этот раз, как бывало раньше, начнут его утешать, успокаивать, а вышло иначе. Генерал Алексеев доложил царю, что генерал Иванов устал, ослабел и просит освободить его от главнокомандования, и при этом высказал свое мнение, что для пользы дела надо исполнить просьбу старика. Царь согласился с предложением Алексеева: Иванов был освобожден от главнокомандования, а на его место был назначен генерал-адъютант А.А. Брусилов. Увольнение генерала Иванова сопровождалось двумя большими наградами: зачислением его в члены Госсовета и назначением состоящим при Особе Его Величества. С этого времени генерал Иванов должен был пребывать в Ставке. Министр двора объявил ему, что Его Величество просит его жаловать ко всем высочайшим завтракам и обедам. Для житья генералу Иванову был предоставлен салон-вагон, в котором он и поселился с состоявшими при нем: полковником Генштаба Борисом Семеновичем Стеллецким и адъютантом.
Казалось бы, чего еще желать старику? Награжден сверх меры, царем обласкан, завтракать и обедать будет ежедневно с царем, от непосильной для старца работы освобожден и предоставлен ему полный покой... Но генерал Иванов жаловался и скорбел совсем не затем, чтобы его освобождали от главнокоман-
459
дования. Он привык стоять у большого дела, распоряжаться, командовать. принимать поклонения, а тут он сразу остается решительно без всякого дела и вся его работа будет состоять только в том, чтобы дважды в день приезжать к царскому столу. Старик скоро понял свою ошибку и начал всем жаловаться, что его труды и боевые успехи забыты, что, отдалив его от армии, сердце у него вырвали, в гроб его уложили и прочее.
Мне ежедневно приходилось выслушивать бесконечные жалобы и обиды забавного Николая Иудовича. Горько жалуясь на свою участь, генергш Иванов не переставал критиковать своих соперников. «Что такое генерал Алексеев? Типичный офицер Генштаба. Будучи у меня начальником штаба, многое скрывал от меня. Вот Владимир Драгомиров совсем другое, несравненно выше Алексеева...А Брусилов...133 Упрямый... Все по-своему делал, меня ни во что ставил... Жаль, что царь слушает Алексеева...» и так далее. Я, бывало, слушаю, слушаю, да и вырвется у меня: «Бросьте вы, Николай Иудович, скулить да жаловаться! Там. у царя. не любят, когда на них жалуются, и вам ваших жалоб, а они дойдут до них. не простят... Чего вам не достает? Вас засыпали наградами, вы стали близким к царю вельможей, ежедневно завтракаете, обедаете, беседуете с царем: работа не тяготит вас, можете отдыхать после понесенных вами трудов...» — «Но у меня армию отняли, меня от армии оторвали, сердце у меня вырвали...» — «Да вы же сами просились, чтобы освободили вас. Вот вас и освободили» — «Просился... просился... Но они же не должны были отнимать у меня армию... Это Алексеев сделал... Я же его хорошо знаю. Жаль, что царь слушает его». И так далее. Почти каждый день приходилось мне выслушивать такие слезоточивые жалобы всегда и всем недовольного старика.
Я отчасти понимал генерала Иванова. Для человека, привыкшего работать, самое большое несчастье — остаться без дела. А в таком положении тогда оказался генерал Иванов. Вся его предшествующая жизнь протекала в кипучей работе: в Русско-японскую войну он командир корпуса, по окончании этой войны — комендант Кронштадтской крепости, потом командующий Киевским военным округом, наконец, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, а теперь... сидящий в вагоне и командующий... полковником Генштаба и личным адъютантом. Будь он способным к литературной работе, он занялся бы литературным трудом, но, кажется, в этом Господь не умудрил его. Царской опалы для него не было, но безделье не могло не угнетать его. Вероятно, генерал Иванов жаловался генералу Алексееву на свое безделье. Ему поручили осмотреть окопы в Финляндии. Мне опять пришлось выслушивать жалобы: «Меня, бывшего главнокомандующего. состоящего при особе Его Величества, генерал Алексеев посылает осматривать окопы... Любой капитан мог бы сделать это.
460
Разве это не насмешка? Это все Алексеев с намерением, чтобы досадить мне... Я же знаю его...» И затем начиналось порицание генерала Алексеева. Я не думаю, чтобы генерал Алексеев сделал это с целью огорчить, унизить своего бывшего начальника, просто не считал возможным положиться на него в более серьезном деле. Второе поручение, более серьезное, было дано генералу Иванову в конце февраля 1917 г., когда он был послан в Петроград с Георгиевским батальоном для усмирения восстания. Там он ничего не смог сделать.
Надоедал мне часто Николай Иудович. А все же я любил его: чувствовалось в нем что-то близкое, родное и очень самобытное. Если бы снять с Николая Иудовича военный мундир, не знающий его не поверил бы, что это крупнейший военачальник Российской армии: лицо серенькое, невыразительное, глаза маленькие, хитрые, борода длинная и широкая, речь небойкая, с постоянными перепрыгиваниями с одного вопроса на другой, — всем обличьем похож гораздо более на русского купца, чем на генерала.
Приезжал обыкновенно Николай Иудович к вечернему чаю. Мой денщик Иван знал, что старик любит попить чайку. Бывало, как только увидит подъезжающего Николая Иудовича, бросается ставить самовар. Николай Иудович и чай пил по-купечески, обязательно вприкуску, причем на стакан не расходовал более одного куска сахару, хоть никакого недостатка в сахаре тогда не было. Увидев однажды, что мой Иван положил себе в стакан два куска, Николай Иудович набросился на него: «Ты и в деревне своей по два куска сахару в стакан клал?» «Никак нет. Ваше Высокопревосходительство, дома мы чаю не пили», — отвечает, вытянувшись во фронт, Иван. «То-то ж! А тут мало тебе одного куска, два кладешь. Не умеешь добро беречь... Ты смотри на меня! Я главнокомандующий, а больше одного куска на стакан не расходую. А ты кто? Генерал?» — «Никак нет, Ваше Высокопревосходительство. Ефрейтор» — «То-то ж! Чтоб ты не смел больше одного куска на стакан расходовать. Не то под ружьем будешь стоять». «Слушаю, Ваше Высокопревосходительство», — ответил покрасневший Иван. «А мне можно два куска в стакан класть?» — улыбаясь, спросил я. «Вам можно, вы протопресвитер армии и флота», — серьезно ответил Николай Иудович.
Иногда старик своими жалобами и причитаньями выводил меня из терпения, и я довольно резко отвечал, а иногда и пробирал его. Старик не обижался.
Я только по прочтении «Писем императрицы» узнал, что генерал Иванов знался с Распутиным. А я в многократных беседах с ним не раз со всей откровенностью касался Распутина и его влияния на царскую семью, на государственные дела. Думаю, однако, что Николай Иудович не выдал меня. А если и выдал, то по своей болтливости, а не по злому умыслу.
461
Когда наша Ставка поместилась в г. Могилеве (на Днепре), Могилевским губернатором был действительный статский советник Александр Иванович Пильц, человек с немецкой фамилией и русской душой. 45 лет от роду, подвижный, общительный и энергичный, он сразу произвел на меня очень хорошее впечатление. В особенности мне нравились независимость, с которою он держал себя в разговорах с высокими придворными чинами, и смелость, с которою он высказывал свое мнение. По-видимому, и я понравился ему — между нами установились добрые отношения. Мы встречались ежедневно на царских завтраках, на которых он обязательно присутствовал, как потом и его преемник Д.Г. Явленский. Если не считать визитов, которыми мы обменялись, этими встречами наше знакомство и ограничивалось. Поэтому для меня было неожиданностью, когда в начале февраля 1916 г. Пильц пришел ко мне.
«Я пришел к вам по очень серьезному государственному делу, — сказал он, здороваясь со мной. — Вы можете уделить мне несколько минут?» «Пожалуйста! — ответил я. — Раз дело важное, я готов слушать вас сколько угодно». «Вот в чем дело, — сказал Пильц. — Вы должны понимать, какими ужасными последствиями грозит престолу и государству распутинская история. Я пришел спросить вас: вы выступали или собираетесь выступать против Распутина?» «Не выступал и пока не собираюсь выступать. И вот почему, — ответил я. — Вы, Александр Иванович, очевидно не знаете характера нашего государя. Он не терпит вмешательства докладчиков не в свои дела. Вот вы Могилевский губернатор. Можете сколько угодно говорить о делах вашей губернии. Государь будет слушать. А попробуйте заговорить о недочетах, скажем, моего ведомства, государь переведет речь на погоду или — и это возможно — оборвет вас, что это вас не касается. Я пока не вижу влияния распутинской истории на армию или на флот. Когда обнаружится, что эта история докатилась и до армии и начинает возмущать ее, тогда я непременно выступлю, чем бы это ни угрожало мне» — «Мне кажется, что распутинщина при дворе всех касается и всем угрожает. Во всяком случае я пришел предупредить вас: если вы не выступите пред государем, в свое время я всенародно объявлю, что я просил вас выступить против Распутина и вы не исполнили моей просьбы». На этом мы расстались134.
Свой долг я после исполнил. Я понимал, что всякое выступление против Распутина обречено на провал. Уже много таких случаев было. Благороднейший дворцовый комендант генерал-адъютант В.А. Дедюлин после бурного разговора с царем о Распутине скончался от разрыва сердца; воспитательница царских дочерей С.И. Тютчева была уволена от должности; епископ Гермоген был заключен в Жировицкий монастырь; епископ Фео-
462
фан из благодатного для него Симферополя был перемещен в убийственную для его здоровья Астрахань; командир корпуса жандармов свитский генерал В.Ф. Джунковский, оставив свой высокий пост, отправился на войну командовать бригадой 8-й Сибирской стрелковой дивизии и так далее. Мое выступление не могло обещать мне ничего доброго, так как у царицы сложилось прочное убеждение, что кто против Распутина, тот против них, против престола, против государственного строя.
Я дважды докладывал царю; 17 марта и 6 ноября 1916 г. Тут я не стану повторять уже сказанного об этих докладах в моем труде «На войне». После первого доклада царь спросил меня, не боялся ли я идти к нему с таким докладом, а потом поблагодарил меня за исполнение долга. После второго, более острого, еще крепче поблагодарил, сказав, что двери его кабинета всегда для меня открыты. Когда же он сообщил царице о моем докладе и царица сильно возмутилась, он ей, как мне рассказывал генерал Иванов со слов Вырубовой, поддакнул ей; «Да! Еще рясу носит, а говорит мне такие грубости». Однако и после этого государь не изменил своего ласкового отношения ко мне; царица же начала подавать мне руку, отворачиваясь в сторону. Разговор с митрополитом Питиримом, предлагавшим мне архиепископство, напомнил мне, что в распутинском окружении подыскивали для меня место. Скоро последовало бы более решительное предложение, если бы не разразилась революция.
К сказанному должен добавить, что оба раза я выступал пред царем после того, как во время своих поездок по фронту убедился, что слухи о пагубном влиянии Распутина проникли во все уголки действовавшей армии и везде возбуждали беспокойство и возмущение. Более всего разговоров и волнений было на Северном фронте как на более близком к Петрограду. Кроме того, много толков там возбуждало производившееся генералом Батюшиным расследование о Манусе, Рубинштейне и других сподвижниках Распутина. Беспокойные разговоры в армии и дали мне право выступить пред государем. Он не мог сказать мне, что я вмешиваюсь не в свое дело.
Я опускаю многие подробности, касающиеся переживаний и событий 1916 г., так как они описаны в моем труде «На войне». Особенно тяжело переживался конец этого года. Для многих было совершенно ясно, что мы быстро катимся к неминуемой катастрофе. Но царь с царицей и наши благоденствовавшие владыки не замечали приближения катастрофы, не верили в возможность ее. Царь оставался, как и раньше, совершенно спокойным, настолько спокойным, что его спокойствие возмущало генерала Алексеева. Тревожные доклады генералов Алексеева и Гурко, как и многих, лучших министров, не могли нарушить царского покоя. Владыки... Когда, прибыв в Синод, я довольно откровенно
463
высказывал свои тревожные думы относительно грядущего времени, по лицам и замечаниям своих собеседников я заключил, что они с недоверием относятся к моим прогнозам, оставаясь уверенными в бесконечности своего благоденственного и мирного жития. Митрополит Макарий только тогда понял, что дело неладно, когда в марте 1917 г. его освободили от управления Московской епархией.
В ночь на 17 декабря 1916 г. злополучная история Распутина закончилась убийством его в особняке князя Юсупова, женатого на родной племяннице царя. Участником убийства был самый любимый царем из всех великих князей — его двоюродный брат Дмитрий Павлович. Истеричный Пуришкевич нарочно прибыл с фронта, чтобы принять участие в убийстве. Распутин исчез, труп его потом, с началом революции, был вырыт, сожжен, и прах рассеян по ветру. Но сделанное Распутиным было непоправимо: близость нечестивого старца к царю и царице, его влияние на государственные дела подорвали в армии любовь, уважение, доверие к царю, разложили верноподданнические чувства, восстановили против царя, а еще более — против царицы, лучшую часть петроградского высшего общества, проникли и в толщу народную. Царский трон стал неустойчивым. 24 ноября 1916г. один из лучших царских министров, А.В. Кривошеин, сказал мне: «Передайте Его Величеству, что все мы его любим и готовы служить ему, но мы не забываем, что царь для России, а не Россия для царя, и, если нам придется выбирать, мы станем за Россию». То же приблизительно говорил царю 8 ноября 1916 г. и великий князь Николай Николаевич. Но царь «не задумывался», был спокоен и утешался тем, что претерпевший до конца спасется. Стрелка на часах Предвечного показывала, что до полночи остается всего пять минут, а стремившийся к нирване, добрый и благородный, но безвольный государь, побуждаемый своей властолюбивой и волевой супругой, продолжал строго охранять права и границы Российского самодержавия для своего любимого сына, наследника престола. Это была великая трагедия, которая в будущем должна найти своего Шекспира.
18 декабря царь уехал из Ставки, чтобы утешать свою супругу, потрясенную убийством ее «друга», и вернулся в Ставку только 24 февраля 1917 г. Генерал Алексеев в это время лечился в Крыму, его замещал генерал Василий Иосифович Гурко.
Прошло более года, как государь поселился в Ставке. За это время не поднялся, а упал царский престиж в глазах чинов Ставки. Раньше русским людям их царь казался каким-то высшим, необыкновенным, почти сверхъестественным существом. Теперь же чины Ставки увидели, что их царь — хороший, добрый, милый, но все же самый обыкновенный человек. Они увидели, что как Верховный он — фикция, его знания и дарования совсем
464
недостаточны для той роли, которую должен играть Верховный на войне: что ежедневные оперативные доклады в генерал-квартирмейстерской части для него забава, а для перегруженного работой начальника штаба — излишний бесплодный труд: что при докладах приезжавших в Ставку министров он всегда соглашается со «специалистами» и царице потом приходится поправлять его: что царские завтраки и обеды, вся обстановка царского двора вносят много суеты в жизнь Ставки, где должна идти спокойная и сосредоточенная работа. Чины Ставки начали возмущаться бесцельным шатаньем в Ставке великих и малых князей, их частым вмешательство в военные дела и еще более — проникшими в Ставку слухами, что Верховный не умеет хранить военные секреты: сообщает их царице, та — Вырубовой и Распутину, а от тех секреты распространяются по Петрограду. Чины Ставки с отвращением встречались при царских покоях с новым типом российских сановников, поднятых на чрезвычайную высоту положения и власти благодаря не их способностям, заслугам и подвигам, а нечистым связям с тобольским пьяным мужиком, ставшим собинным царским другом. Имена Штюрмера, Протопопова, Раева, митрополита Питирима не сходили с уст чинов Ставки. О них говорили с отвращением, их встречали с затаенною враждою.
Государь отсутствовал более двух месяцев. Когда стало известно, что он возвращается 23 февраля, в Ставке начали раздаваться голоса: «Сидел бы там, в Царском Селе, зачем он сюда едет? Так было спокойно без него». И это говорилось не какими-либо маленькими чинушами, а старшими генералами Ставки. Разве это не свидетельствовало о разложении верноподданнических чувств?.. Государь не замечал этого и продолжал оставаться спокойным. Генерал М.В. Алексеев сказал мне; «Ну что делать с этим ребенком? Пляшет над пропастью и спокоен. А государством правит эта с...а, безумная женщина, и около нее клубок грязных червей: Штюрмер, Протопопов, Раев, Питирим...» Гроза быстро надвигалась, первым ударом грома было убийство Распутина — царские племянник и двоюродный брат совершили его; вторым ударом было настроение сотрудников царя в Ставке; третий — самый страшный — удар раздастся в столице, а за ним последуют удары во всей стране и на фронте. Когда царь, направляясь в Ставку, выезжал из Царского Села, грозные тучи уже висели над столицей. Но царь не хотел замечать их. 24 февраля он вернулся в Ставку совершенно спокойным.
465
XXVII. Прибытие государя в Ставку.
Моя поездка в Псков и Петроград. Отречение государя
В 1916 г. я мог считать работу своего ведомства достаточно налаженной. Моими инструкциями фронтовые и тыловые священники были обстоятельно ориентированы, что, как и когда они должны делать. На частых совещаниях с главными священниками фронтов нами разрешались все возникавшие новые вопросы, и о наших решениях немедленно осведомлялось духовенство. Кроме чисто пастырской работы священники мною обязывались: а) записывать и предоставлять мне сведения о замечательных подвигах воинских чинов и священников, чтобы затем составить ценный для воспитания патриотизма в народе сборник рассказов: б) заведовать уборкой с полей сражения раненых и убитых воинов: в) извещать родственников убитых и умерших воинов. По инициативе царицы Александры Феодоровны в помощь подчиненным мне священникам были командированы монашеские санитарные отряды, а тыловым священникам мною было приказано заготовлять запасные Святые Дары для снабжения фронтовых священников. Чтобы не повторялись случаи Русско-японской войны, когда некоторые епархиальные начальства сплавляли на войну негодных священников — «На Тебе, Боже, что мне негоже», я потребовал от епархиальных начальств, чтобы они, прежде чем выслать в армию избранных ими священников, извещали меня о возрасте, образовательном цензе, моральных и служебных качествах избранных. Стариков, неучей и порочных я забраковывал. Неприятнейшая история вышла у меня с епархиальным начальством моей родной епархии: я отказался принять всех до одного избранных им священников и потребовал присылки более пригодных для службы в армии.
В 1916 г. по моему ходатайству были учреждены должности армейских проповедников — по одному на каждую армию, и на эти должности я назначил самых талантливых проповедников. Они обязаны были странствовать по армии и вдохновлять войска. Английский генерал Нокс с восторгом отзывался об этой организации. В особенности прославились на этой должности молодые петроградские священники —талантливые, вдохновенные, приводившие в восторг своих слушателей Александр Иванович Боярский и Александр Иванович Введенский. К прискорбию, оба они потом работали в Живой церкви, Введенский даже возглавлял ее. До революции они при своей огромной талантливости и работоспособности были смиренными, строго православными и послушными священнослужителями. Я считал их лучшими священнослужителями своего ведомства. Оба они уже в ином мире. Там их рассудят.
466
Насколько помню, в конце января 1917 г. подлечившийся в Севастополе генерал М.В. Алексеев вернулся в Ставку и вступил в должность начальника штаба. Вскоре он секретно сообщил мне. что ранним летом придется войскам нашим начать решительное наступление. «Все наши боевые части укомплектованы боевыми припасами и всяким снаряжением благодаря союзникам и отличной работе наших заводов, снабжены в достаточном количестве для продолжительных боев. В нашем успехе я уверен. Надо, чтобы и ваши священники потрудились подбодрить наши войска», — добавил мне Алексеев. Наставить каждого священника я, конечно, не мог. Поэтому я решил устроить ряд священнических съездов: 26 февраля во Пскове — для Северного фронта, 8 марта в Минске — для Западного фронта, 17 марта в Бердичеве — для Юго-Западного фронта и 26 марта — в Кишиневе для Румынского фронта. Генерал Алексеев одобрил мой план. Я должен был получить одобрение и от государя.
23 февраля в 3 часа дня государь прибыл в Ставку. За время отсутствия он как будто осунулся, стало больше морщин на лице, похудел, но спокойствие не покидало его. В обычный час я был приглашен к высочайшему обеду. В настроении лиц царской свиты я не заметил никакой тревоги. До Ставки доходили слухи, что в Петрограде не совсем спокойно, что там опасаются роспуска Думы и этот роспуск станет поводом к страшным волнениям. Генерал Воейков, адмирал Нилов и профессор Федоров уверяли меня, что все эти слухи не отвечают действительности.
После обеда я доложил государю о своем решении собрать съезды военного духовенства на всех фронтах с целью оживить работу священников в армии. Государь одобрил решение и разрешил мне 25 февраля выехать в Псков. Не думал я, что за завтраком 25 февраля я в последний раз видел своего государя.
В Псков поезд должен был прибыть 26-го в 3 или даже в 2 часа дня, а он прибыл только в 9 часов вечера. Я прямо проехал в помещение, где поджидали меня собравшиеся священники (до 60 человек), в их числе все благочинные фронта и несколько ктиторов. Их сообщения о настроении войск на фронте были очень утешительны: на фронте никаких признаков надвигавшейся грозы не было заметно, волновал лишь войска вопрос о Думе, как бы не была она распущена. Наше совещание закончилось во 2-м часу ночи. Не повидавшись с главнокомандующим генералом Н.В. Рузским, хотя он прислал своего начальника штаба генерала Ю.Н. Данилова приветствовать меня и просить 27-го отобедать у него, я поспешил в Петроград, чтобы в понедельник, 27 февраля, присутствовать на заседании Святейшего Синода.
В Петроград я прибыл в 10-м часу дня. Там уже шла революция. На вокзале не оказалось ни одного извозчика, трамваи не ходили. Оставив вещи в своем салон-вагоне, я пешком отправил-
467
ся в неблизкий путь. Стены домов пестрели грозными приказами командовавшего войсками Петроградского военного округа генерала С.С. Хабалова. Около Троицкого на Забалканском проспекте собора я встретил извозчика. На мою просьбу довезти меня до угла Воскресенского проспекта и Фурштадтской он не обратил внимания, хоть седока у него не было. По пути, уже вблизи от своей квартиры, я встретил лейб-гвардии Волынский запасной батальон, шедший с развернутым знаменем и музыкой, игравшей «Марсельезу». У соседней с моей квартирой церкви Косьмы и Дамиана улица была занята бунтовавшей воинской частью: ружья были составлены в козлы, солдаты грелись около костров. Я был счастлив, когда, пробравшись сквозь солдатскую массу, переступил порог своей квартиры, как будто она могла защитить меня. Из окон своей квартиры я мог наблюдать происходившее на Кирочной улице, около церкви Косьмы и Дамиана, и на Воскресенском проспекте. Вся Кирочная около церкви занята войсками, по Воскресенскому бродят патрули. Вот вижу: начальник моей канцелярии М.П. Журавский вышел из калитки и вступил в разговор с вооруженным солдатом. Разговор проходит бурно, оба они размахивают руками, горячатся. Вдруг солдат со всего размаха бьет Журавского по лицу. Хорошо, что ударенный успел поднять свалившуюся шапку и нырнул в калитку, а то солдат уже схватился было за ружье. Оказывается, Журавский, странный человек, начал обличать солдата, примкнувшего к революционерам, а тот стал доказывать обратное. Солдат был в папахе. У Журавского вырвалась грубость: «Я думал, что у тебя только шапка баранья, а теперь вижу, что и голова у тебя баранья». За «голову баранью» он и получил оплеуху. Счастливо еще отделался. Встретившись с Журавским, я сказал ему: «Мало вы. Митрофан Петрович, наставляли солдата, нужно было вам еще попрепираться с ним. Слетела у вас с головы шапка, тогда могла бы слететь голова с плеч». Он начал доказывать что-то несуразное, но я не стал его слушать. Странный он был человек!
Начали доходить слухи о революционных эксцессах. На Кирочной улице был убит генерал Кашталинский, тот самый, которому генерал Линевич посылал Георгиевский темляк к пожалованному золотому оружию «для сведения и руководства». При выходе из артиллерийского завода на Литейном был застрелен мой добрый знакомый — окончивший курс Артиллерийской академии, скромный, благородный, добросовестнейший труженик капитан Евгений Федорович Кирсанов. В Лавре был убит протоиерей церкви Всех Скорбящих Радости (на Шлиссельбургском тракте) Петр Иванович Скипетров, смиренный, разумный, добрый пастырь. Были и другие убийства, а арестам счету не было.
Я собирался 28 февраля выехать в Ставку. Но бумагой из Государственной Думы меня обязали к невыезду из Петрограда.
468
События же развивались быстро. При Думе образовался Временный комитет, возглавленный М.В. Родзянкой. Царское правительство выпустило из рук власть, а 2 марта государь отрекся от престола и за себя, и за наследника. На царском престоле оказался милый, добрый Михаил Александрович, еще более бесхарактерный, чем его старший брат. Скоро и он отказался от престола. Появилось Временное правительство, которому в храмах начали возглашать «Многая лета...»
Священникам, в особенности пожилым, в течение многих лет поминавшим царя, царицу, наследника, нелегко было привыкать к новым возношениям на ектениях, выходах. В 20-х числах марта заходит ко мне мой приятель протоиерей В.К. С. Блаженная улыбка играет на его лице. «Чему ты это радуешься?» — спросил я. Он рассмеялся: «Сейчас я был в Казанском соборе, там рассмешили меня. Служил протоиерей Азиатский Алексей Михайлович с дьяконом. Раньше на великом входе дьякон поминал царя, а священник супругу его, царицу. Теперь же поминает: дьякон — Святейший Синод, а священник — Временное правительство. Вот тут-то споткнулся о. Алексей: помянул дьякон Синод, а о. Алексей тоненьким голоском начал: «Супругу его», но спохватился и начал кашлять... До того забавно вышло». В селах, рассказывали, еще забавнее выходило, когда дьячки, читая псалмы, вместо встречавшихся там слов «царь» читали «Временное правительство».
Невзирая на революцию Синод продолжал свои заседания. Обер-прокурором Святейшего Синода стал член Думы Владимир Николаевич Львов, огромного роста и бешеного нрава господин, полная противоположность своему родному брату — тоже члену Государственной Думы, Николаю Николаевичу, благороднейшему и доброжелательнейшему человеку. На первых же заседаниях Синода после отречения государя был поставлен вопрос об освобождении от кафедр митрополитов Питирима и Макария. Каюсь, я всей душой стоял за их увольнение, ненавистны мне стали оба эти распутинца, недостойно занявшие высокие кафедры и недостойно державшие себя на них. Митрополит Макарий обиделся на меня. Уволенный от управления епархией, он поселился в Николо-Угрешском монастыре и там скончался 16 февраля 1926 г. на 91-м году своей жизни. Митрополита Питирима я видел в последний раз арестованным, когда на открытой платформе его везли на допрос в Смольный. Потом его выслали в Пятигорский монастырь на Кавказе. Осенью 1919 г. он писал мне: «Ваше Высокопреподобие, высокочтимейший о. протопресвитер. От подателя сего я рад был узнать, что Господь хранит Вас и Вы по-прежнему трудитесь на благо святой Церкви, столь ныне страждущей, и христолюбивого воинства нашего, словом и примером ободряя его и воодушевляя на служение Родине. Храни же
469
Вас Господь и впредь на многие годы. Благодарю Вас от всей души, что не забыли, а вспомнили и о моем убожестве. Я никогда не забываю всегда добрых отношений Ваших ко мне во время совместного, хотя и очень кратковременного служения с Вами в Синоде. Сейчас живу без пенсии и пособия. Питает Господь и добрые люди. Без работы скучаю. Усердно прошу Ваших молитв. Ваш неизменный почитатель и богомолец митрополит Питирим». Мне жаль было тогда митрополита Питирима как всякого несчастного человека. Без сомнения, плохо жилось ему в Пятигорском монастыре. Настоятели монастырей не жаловали архиереев, попавших под их начало, и всячески проявляли над ними свою власть. Нужды особой он там не испытывал, хоть и не получал ни пенсии, ни пособий. Митрополит Антоний (Храповицкий) рассказывал мне, что в январе 1920 г. в Екатеринодаре, куда тогда переехал митрополит Питирим, князь Жевахов стащил у него зашитые в шубу 18 тысяч рублей. В приведенном письме митрополит Питирим показал себя таким же неискренним, фальшивым, каким я знал его в пору его величия: во время нашего совместного служения в Синоде наши отношения не были добрыми, а он — «мой неизменный почитатель и богомолец» — собирался мне «свернуть шею». Но Бог с ним! За свое добытое нечистым путем полуторагодовое владычествование на первой российской кафедре он заплатил почти трехлетним заточением в провинциальном монастыре с великими унижениями. Не стоило огород городить, как говорили у нас в старое время. Но митрополит Питирим рассчитывал на лучшее.
Скоро и меня постигли огорчения. Часов в 11 утра 8 марта (кажется, в числе не ошибаюсь) конный эскадрон окружил мой дом. Вошедший ко мне старый революционер Николай Васильевич Чайковский сообщил мне, что по распоряжению Временного правительства я подвергаюсь аресту. Меня усадили в автомобиль; Чайковский сел рядом со мной, вооруженный офицер — против меня. «Я нарочно вызвался арестовать вас, чтобы вы не подверглись какому-либо оскорблению», — сказал мне Чайковский. Я сердечно поблагодарил этого благородного и очень доброго старика. Конвоируемый эскадроном, наш автомобиль подкатил к Думе. У ворот стоял великан-преображенец. Не обращая на нас никакого внимания, он спросил у пробегавшей около него миловидной, в белоснежном фартуке горничной: «К кому это вы так спешите?» «К тому, у кого магнит большой», — ответила засмеявшаяся девушка и побежала дальше.
Несколько дней революции наложили свою печать на думское помещение. Нельзя было узнать Государственной Думы: полы усеяны подсолнечной шелухой, всюду грязь, коридоры и комнаты запружены разного рода людом: говор, шум, ругань, злобные взгляды. Меня Чайковский провел в комнату, служившую раньше
470
кабинетом для министров. Там уже было до 20 отсиживающих, почти все они принадлежали к высшей полицейской иерархии: тут был начальник штаба корпуса жандармов, Генштаба генерал-майор Владимир Павлович Никольский, варшавский градоначальник и другие. Вскоре к нам присоединили дворцового коменданта В.Н. Воейкова, а в соседней комнате поместили престарелого графа В.В. Фредерикса, министра двора. Чем-то нас питали, а спали мы на диванах, без подушек. Иногда к нам заходили какие-то подозрительные личности, по большей части молодые, и задавали нам коварные вопросы. Генерал Воейков в своих воспоминаниях обвиняет меня, будто я в этом месте заключения относился к нему с пренебрежением. Думаю, что такое его обвинение построено на недоразумении. Кроме самых добрых чувств, я ничего другого не питал в отношении его. Он между прочим ставит мне в вину, что я был скоро освобожден благодаря моим связям с крайними левыми. Генерал Воейков очень ошибался. Как священник я старался одинаково относиться и к правым, и к левым; как человеку мне иногда казалось, что левые действует искреннее и честнее правых, ведь исповедовать левизну тогда было невыгодно и иногда опасно, а крайние правые могли рассчитывать, что их правизна не останется без награды. Сидел я в Думе недолго, освобожден был в 10-м часу вечера 9 марта, пробыв, таким образом, в заточении всего около 34 часов. Своим скорым освобождением я был обязан не левым, а постоянной посетительнице моей домовой церкви, всегда исповедовавшейся у меня жене тогдашнего военного министра Марье Ивановне Гучковой и бывшему министру земледелия А.В. Кривошеину, всегда внимательно относившемуся ко мне. За 34 часа пребывания под арестом я почувствовал, какое это великое несчастье для человека — лишение свободы. Я не чувствовал под собой ног, спеша домой, чтобы поскорее своим появлением обрадовать своих родных.
Кончилось одно постигшее меня испытание, началось другое. Через несколько дней я получил приглашение военного министра пожаловать к нему к 4 часам дня.
К этому времени все возможные противодействия Временному правительству были устранены. Командующий войсками Петроградского военного округа генерал С.С. Хабалов сидел под арестом: выезжавший из Ставки для подавления волнений генерал Н.И. Иванов со своим георгиевским батальоном, не продвинувшись дальше царскосельского вокзала в Петрограде, ни с чем вернулся в Ставку: якобы шедший на выручку Петрограда генерал А.М. Крымов мирно прибыл в Петроград. Некий военный порядок установился в столице.
В назначенный мне день я точно в 4 часа дня прибыл в особняк военного министра. На лестнице я встретил генерала Крымова, которого хорошо знал и по Академии Генштаба, и по
471
Русско-японской войне. «Что вы тут делаете?» — спросил я. «Министр вызвал меня, предлагает мне место его помощника. Но разве можно работать в этом сумасшедшем доме? Вы посмотрите, что тут делается! — Крымов указал мне на заплеванную, усеянную подсолнечной шелухой широкую лестницу недавно бывшего безукоризненно чистеньким местом министерского особняка. — Я, конечно, отказался». Мы дружески расстались. Скоро генерал Крымов закончил свою жизнь в кабинете военного министра Керенского. Для меня и сейчас неясно; покончил он жизнь самоубийством, как сообщалось официально, или, как рассказывали, А.Ф. Керенский застрелил его.
Приемная министра была не чище лестницы. Прежние министры бывали безукоризненно точны в приемах: мне и пяти минут никогда не приходилось ожидать. Тут же водворились новые порядки: я уже сидел в приемной более получаса, входили в кабинет министра все новые люди, по большей части штатские, серенькие, в одиночку и группами. Наконец, около 6 часов вечера пригласили меня.
Гучков сидел за тем самим письменным столом, за которым раньше восседали министры: Куропаткин, Сухомлинов, Поливанов. Пригласив сесть, Гучков обратился ко мне: «Я должен сообщить вам, что вы не можете дальше оставаться протопресвитером армии и флота». «Почему?» — спросил я. «Потому, что армия вам не доверяет». — «Я только что вернулся с фронта и видел там полное доверие» — возразил я. «Нет, не доверяет. Кого бы вы рекомендовали мне на ваше место?» — «Наиболее достойным я считаю главного священника Румынского фронта, профессора академии протоиерея Петра Лепорского», — ответил я. Гучков нажал кнопку на столе. «Телеграфируйте главному священнику Румынского фронта протоиерею Петру Лепорскому, чтобы он немедленно прибыл сюда для вступления в должность протопресвитера, — приказал Гучков тотчас явившемуся адъютанту и обратился ко мне: — Но я хочу использовать ваш опыт, ваши знания, ваши способности. Поэтому прошу вас немедленно отбыть на фронт и там в качестве проповедника объезжать воинские части». — «Я не могу представить своего положения: мне армия не доверяет, а я буду выступать пред нею проповедником. Армия меня знала как возглавителя духовного дела в военном и морском ведомстве, а теперь я стану появляться в качестве странствующего проповедника. Я не могу, господин министр, принять ваше предложение. Во всяком случае, дайте мне возможность подумать над ним!» «Хорошо. — ответил Гучков. — Во вторник на следующей неделе вы дадите мне окончательный ответ». Наш разговор происходил в среду, 15 марта.
Чрез несколько дней в Петроград прибыл протоиерей П.И. Лепорский, главный священник Румынского фронта. У меня с ним
472
были наилучшие отношения. До осени 1916 г. он не служил ни в армии, ни во флоте. Я пригласил его на должность главного священника Румынского фронта. «Что тут случилось?» — спросил он, заехав ко мне. Я рассказал ему о происшедшем. «Наше положение. — закончил я свой рассказ, — оказывается беспримерным. Министр не имеет права ни меня уволить, ни тебя назначить, а Синод не желает заниматься нашим делом. Что же получается? Я протопресвитер неуволенный, ты — протопресвитер неназначенный; меня не признает военный министр, тебя не признает Синод. А кому же решать ведомственные дела? Вон уже идут аресты священников. Я сам на днях видел, как вели солдаты нашего священника лейб-гвардии Егерского полка Михаила Добровольского. Ко мне обращаются за защитой. А что я могу сделать, когда духовные власти теперь бессильны, а военная власть не признает меня?» «А как военное и морское духовенство относится к тебе?» — спросил Лепорский. «При моем настоящем положении можно было ожидать, что окажется достаточно Семеев (2 Цар. 16, 5-14). Но слава Богу, еще ни одного не оказалось. Я восхищаюсь корректностью и благородством нашего духовенства. В этот трудный момент они усилили свое внимание ко мне», — ответил я. Так и жили мы до мая: я оставался неуволенным, П.И. Лепорский — неназначенным. Духовенство продолжало обращаться ко мне, Лепорский без дела сидел в Петрограде.
Во вторник, 21 марта, я напомнил по телефону адъютанту, что военный министр обещал меня принять. Мне ответили: примет в четверг в 4 часа дня. В четверг я в доме министра увидел прежнюю картину: все засорено, заплевано, загажено. Гучков встретил меня сухо: «Вы почему не ездили на фронт?» — «Вы же разрешили мне дать вам окончательный ответ на этой неделе. Я пришел с ответом: исполнить ваше требование я не могу» — «Тогда нам не о чем с вами разговаривать. До свидания!» — сказал Гучков и протянул мне руку. Должен сказать, что с Гучковым я довольно хорошо был знаком: он часто посещал мою домовую церковь и два раза исповедался у меня.
После этого визита я просил Синод освободить меня от должности протопресвитера армии и флота. Синод не исполнил моей просьбы. Более того, в один из следующих дней воспылавший почему-то симпатией ко мне обер-прокурор Львов пригласил меня в свой служебный кабинет. «Мне хочется, чтобы вы стали Московским митрополитом. Я убежден, что Москва с радостью примет вас», — обратился он ко мне. «Ничего я не понимаю, — ответил я. — Мне только что объявили, что я негоден для поста протопресвитера, для дела, которое я понимаю и люблю. А вы предлагаете мне один из самых высоких постов в Церкви, когда Москва мало меня знает, а я еще меньше знаю Москву. Благодарю за доверие, но решительно отказываюсь от столь великой че-
473
сти». «Тогда кого же назначить митрополитами в Москву и в Петроград? — спросил Львов. — Вот кого! В Петроград — Уфимского епископа Андрея (Ухтомского), а в Москву — Владимира Пензенского (Путяту). Что вы скажете на это?» «Я удивляюсь, как могла прийти вам подобная мысль. Оба они совершенно негодны для таких высоких и ответственных кафедр». — ответил я.
И епископа Андрея, и архиепископа Владимира я хорошо знал. Почему-то с началом революции их признали весьма прогрессивными и ухватились за них. В марте Гучков с торжеством отправлял епископа Андрея на Рижский фронт, считавшийся тогда самым ненадежным. Гучков уповал, что прославившийся своей прогрессивностью епископ вдохновит тамошние полки. Епископ Андрей оказался безгласным, и миссия его совершенно провалилась. Это был честный, добрый, с благими намерениями, но не обладавший ни серьезным умом, ни прозорливостью епископ. Свою жизнь он закончил в старообрядчестве. Это может характеризовать его годность для московской кафедры. Владимир же, архиепископ Пензенский, был психически ненормальным на половой почве человеком. Я и другие члены Синода убедили Львова отказаться от этих персонажей. В Петроград был избран первый Петроградский викарий епископ Вениамин (Казанский), кандидат Санкт-Петербургской духовной академии выпуска 1896 г., смиренный и благочестивый, весьма любимый простым народом за его молитвенность, доступность и усердное совершение богослужений. А в Москву был избран Литовский архиепископ Тихон, в 1917 г. ставший Всероссийским Патриархом.
Пасха в 1917 г. была 2 апреля. Члены Синода в конце Вербной недели разъезжались по епархиям. Остался Малый Синод в составе архиепископов Сергия Финляндского, Тихона Литовского и двух протопресвитеров. Обыкновенно Малый Синод не решал серьезных дел. Но Львов назначил заседание на Страстной вторник, предложив разрешить вопрос о возвращении Петроградской духовной академии ранее издававшегося ею «Церковного Вестника». Архиепископ Тихон уклонился от голосования. Архиепископ Сергий и я высказались за возвращение, протопресвитер Дернов примкнул к нам. Духовная академия поручила редактирование профессору Б.В. Титлинову. человеку безмерно пылкому и левому. В первом же номере он поместил громовую статью против нашей иерархии. На первом же заседании полного Синода митрополит Владимир обрушился на архиепископа Сергия и на меня за «Церковный Вестник». Я ответил, что этот орган был отнят от академии и теперь по праву возвращен ей, а что он принял такое направление. в этом не мы виновны, а академия.
Отношения между синодальными владыками и Львовым все более обострялись. Виновен в этом был Львов: он был своенра-
474
вен, капризен, деспотичен, бывал и крайне груб — на Московского митрополита-старца он кричал и топал ногами как на мальчишку. требуя отказа его от епархии. Особенно тяжелое впечатление произвели на членов Синода два зрелища, устроенных неуравновешенным обер-прокурором.
Обыкновенно на заседаниях Святейшего Синода, кроме членов Синода, обер-прокурора с его товарищем, управляющего канцелярией Синода с его помощником и докладчиков-секрета- рей, никто не присутствовал. Заседания начинались молитвой, после которой члены Синода по старшинству занимали места за столом. Председательское место под портретом государя оставалось незанятым — оно предназначалось для государя. В начале Масленицы, не успели еще усесться синодальные члены, как двери в зал синодальных заседаний раскрылись и ввалилась толпа синодальных чиновников и служителей. Выпрямившись во весь рост, Львов повелительным жестом приказал: «Уберите это кресло!» Но в старину прочно было прикреплено это кресло: как ни старались чиновники, бросившиеся исполнить приказание своего начальника, кресло не поддалось. И они, помучившись, оставили его. Обер-прокурор новым повелительным жестом приказал: разойдитесь. Толпа разошлась.
Подобное же повторилось 17 апреля. 15 апреля, в субботу. Синод отказался исполнить требование Львова об отстранении от кафедр нескольких архиереев. В понедельник 17 апреля собрались члены Синода на очередное заседание. Прочитана молитва. Все уселись на своих местах. Вдруг раскрываются двери в синодальный зал и вваливается толпа синодских чиновников и служителей. «Встать!» — командует Львов. Все встают, кроме митрополита Владимира, который, не расслышав, продолжает сидеть. Еще громче командует Львов: «Встать!» Архиепископ Сергий подсказывает митрополиту Владимиру, что надо встать, и тот встает. Обер-прокурор читает указ Временного правительства: настоящий Синод распускается; из его членов оставляется только архиепископ Сергий. Новыми членами назначаются: экзарх Грузии архиепископ Платон, епископ Андрей и другие. Вместо двух протопресвитеров назначаются протопресвитер московского Успенского собора Николай Любимов, профессор протоиерей
А.В. Смирнов, профессор А.П. Рождественский и член Думы священник Филоненко. Прочитав указ, Львов скомандовал; «Разойтись». Разошлись чиновники со служителями, разошлись и члены Синода. Роль старого Святейшего Синода кончилась. Я потерял еще одно место, но продолжал оставаться неуволенным протопресвитером. Так продолжалось до начала мая.
3 мая я был вызван к приехавшему на военное совещание новому Верховному главнокомандующему генералу М.В. Алексееву. Военным министром в это время был А.Ф. Керенский. Генерал
475
Алексеев помещался в своем вагоне на Царскосельском вокзале. «Почему вы не едете в Ставку? Вы мне там чрезвычайно нужны. Духовенство ваше остается без руководства, а вы тут сидите», — встретил меня Михаил Васильевич. Я объяснил ему причину своего сиденья в Петрограде. «Безумный человек! — сказал он о Гучкове. — Будьте готовы, чтоб немедленно выехать в Ставку! Я сегодня же переговорю с военным министром».
5 мая к 9 часам вечера я был вызван к военному министру. Когда я прибыл, министра еще не было. Меня встретили его помощники полковники Генштаба Якубовский и Туган-Барановский и начальник канцелярии Барановский, на родной сестре которого был женат Керенский, — все мои хорошие знакомые по Академии Генштаба, а последний и по службе в Ставке. «Что с вами, о. Георгий, случилось?» — спросили они. Я рассказал им. «Чудак этот Гучков! Сейчас придет Александр Федорович, он поправит дело», — сказал один из них.
В конце 10-го часа прибыл Керенский. «Почему вы не едете в Ставку?» — приветливо спросил он меня. Пришлось и ему рассказать историю. «Генерал Алексеев очень жалеет, что вас нет в Ставке. Завтра же поезжайте туда. Завтра утром получите мой ордер. Много ли священников на фронте?» «Все полки, бригады, госпитали имеют своих священников», — ответил я. «Что же они там делают?» «Совершают богослужения, напутствуют умирающих, хоронят зту1ерших, извещают родственников умерших и убитых воинов, во время боев заведуют уборкой с полей сражения раненых и убитых, проповедуют», — ответил я. «Проповедуют... что проповедуют?» — тревожно спросил Керенский. «Напоминают о воинском долге, о присяге, о самопожертвовании и доблести, о воинском звании, обязывающем носящих его к честности и благородству во всем и так далее», — ответил я. Мы простились. Утром 6-го я получил ордер военного министра, а вечером выехал в Ставку. Предстоявшая мне служба не обещала ничего радостного, но реабилитация не могла не радовать меня.
XXVIII. Опять в Ставке.
Смена главнокомандующих. Поездка по фронту. Съезд военного и морского духовенства. Московский Собор
с радостью встретили меня в Ставке. За время моего двухмесячного отсутствия в составе чинов Ставки произошли значительные изменения. Со вступлением генерала Алексеева в должность Верховного его место начальника штаба занял генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин, генерал-квартирмейстерами стали генерал-майоры Сергей Леонидович Марков и
476
Иван Павлович Романовский, оба мои хорошие знакомые и по академии, и по последующей службе. У генерала Маркова в 1907 г. в Петербурге я крестил сына. Волна революции докатывалась и до Ставки. Об этой волне все время поступали сведения с фронта, ее приносили приезжавшие в Ставку с фронта и из тыла разные лица. Всякий новый человек, подававший надежду, что он может чем-либо послужить для отрезвления терявшего разум фронта, — такой человек был дорог для Верховного командования. Поэтому и обрадовались моему приезду. Но что я мог сделать, когда безумное настроение все более охватывало фронт, а Временное правительство, казалось, прилагало все усилия, чтоб окончательно разложить фронт? Дай Бог, чтоб никогда на нашей Святой Руси не повторялось такое явление, какое наблюдалось тогда! Обязанное заботиться о благоденствии страны, наше Временное правительство как будто старалось все сделать, чтобы привести Российскую великую державу к катастрофе. При этом нельзя было не удивляться его непоследовательности. С одной стороны, оно продолжало содержать целую армию (до 5 тысяч человек) военного и морского духовенства, тратя на это огромные средства. Военно-морские священники честно исполняли свой долг, не занимаясь контрреволюцией, но и не поддакивая безумным увлечениям революцией. С другой стороны, правительство засыпало деньгами — суточными, прогонными — разных агитаторов, главным образом из иудейского племени, которые, разъезжая по фронту, свои проповеди начинали призывами: «Не слушайте попов. Они вас обманывают». Солдат стоял на распутье. Он привык верить своим духовным пастырям. Некоторые проповедники, как отцы Боярский, Введенский и некоторые другие, своими вдохновенными проповедями потрясали воинские части: их приветствовали громогласными «ура», выносили на руках, умоляли еще посетить их. Проповедники наши призывали своих слушателей-воинов к чести, к долгу, к самоотверженному служению, к готовности положить души свои за Родину свою. Но реального ничего обещать не могли. А агитаторы выкрикивали: «Не слушайте попов! Обманывает они вас. Пусть сами возьмут в руки винтовки и сражаются, если им война нравится! А Вам пора кончать войну, идти домой, чтобы делить помещичью землю и награбленное у народа панское добро. Засидитесь тут, опоздаете — без вас все поделят». И так далее.
Неудивительно, что иногда у самых талантливых и смелых проповедников опускались руки. В мае 1917 г. прибыл ко мне проповедник 3-й армии протоиерей Иоанн Авксентьевич Голубев, похудевший, измученный. «Судите меня как хотите, но я не в силах дальше исполнять возложенную на меня должность, — обратился он ко мне. — За 25 лет службы в должности военного священника я успел узнать душу русского солдата, научился го-
477
ворить с ним. Нервы у меня были железные. Но сейчас нервы мои не выдерживают, не нахожу я слов для своих речей. Вы не можете представить, что теперь приходится нам, проповедникам, переживать. Начинаю говорить кротко, ласково, сердечно, как говорил бы отец со своими детьми. А из задних рядов раздаются реплики: «Черт кудлатый!.. Водолаз!.. Воевать хочешь, бери винтовку и воюй!.. Ты нам лучше расскажи, как разделить панскую землю, чтоб всем было поровну и чтоб каждый обрабатывал землю собственными руками, а машиной ни-ни».
При таком положении дела объезд воинских частей не мог обещать мне успеха, однако я решил совершить поездку по фронту. Верховный, генерал М.В. Алексеев, с восторгом отнесся к моему решению. Во вторник, 23 мая, я должен был выехать из Ставки. В понедельник, 22 мая. в день Святого Духа, я зашел к Верховному, чтобы получить некоторые указания.
Генерала Алексеева я застал складывающим свои вещи в чемодан. «Я уже не Верховный главнокомандующий. Временное правительство освободило меня от этой должности, — сказал он, здороваясь со мной. — На мое место назначен генерал А.А. Брусилов. Я думаю, что вам следует повременить с поездкой по фронту. Приедет Брусилов, побеседуете с ним. он, может быть, даст вам свои указания, и тогда отправитесь в путь». Я согласился, что уезжать из Ставки, не увидевшись с новым Верховным, нельзя было.
Мне тяжело было расставаться с генералом М.В. Алексеевым, с которым меня связывали долгие годы самых приятельских отношений. Но в то же время я радовался за него. Здоровье его продолжительной непомерной работой было сильно подорвано. В начале ноября 1916 г. в Ставке очень опасались за его жизнь. Двухмесячное лечение в Севастополе поддержало, но не смогло совсем исцелить его. Брусилова я знал гораздо меньше.
Кажется, 25 мая Ставка встречала нового Верховного. Около трех часов дня на вокзале собрались все чины Ставки. Выстроился взвод с музыкой. Начальник штаба встретил прибывшего у выхода из вагона. Заиграла музыка. Проходя мимо взвода, Брусилов каждому солдату подавал руку и прошел мимо выстроившиеся генералов, удостоив их лишь общим поклоном. Это было показателем курса нового Верховного. Спустя час по прибытии Верховного в свое помещение я отправился к нему. Генерал Брусилов встретил меня очень приветливо: попросил благословить его, поцеловал мою руку. Мое намерение посетить войска на фронте он восторженно приветствовал. Когда я сказал ему, что сомневаюсь в успехе своей поездки, он бурно запротестовал: «Как можно сомневаться? Теперь настало время, что надо действовать не приказом и наказом, а словом, призывом. Слово имеет чудотворную силу, словом можно достичь чего хотите». И так да-
478
лее. Я не возражал, считая всякие возражения бесплодными. На следующий день я отправился в путь, избрав местом своих посещений Барановичский район.
Я до настоящего времени продолжаю вспоминать с ужасом об этой своей поездке. Разложение проникло во все части армии. Из многих посещенных мною воинских частей только 2-я Сибирская стрелковая дивизия со своим доблестным и умным начальником генералом Генштаба Владимиром Ивановичем Яроном напоминала прежние дисциплинированные части. В большинстве же других полков не начальство командовало солдатами, а солдаты — начальством. Командиры полков не решались приказать, чтобы мой шофер был накормлен, и мы голодными возвращались в мой вагон, где заботливый проводник Василий находил, чем подкрепить наши силы. Мне приходилось в некоторых частях по часу выжидать, пока собирались на мою беседу распущенные солдаты. В 63-м Сибирском полку, когда я заговорил более решительным тоном, толпа двинулась на меня, и я мог бы быть убит, если бы старые унтер-офицеры, заслонив меня, не дали мне возможности добраться до автомобиля и уехать от разъяренной толпы. Я вернулся нравственно измученным, со скорбным убеждением, что наша армия превратилась в толпу, более опасную для своего тыла, чем для врага.
Когда, вернувшись в Ставку, я доложил свои впечатления Верховному, он запротестовал. «Вы ошибаетесь! Надо найти подходящие слова, надо суметь заронить их в солдатские души... Я сам поеду на фронт и начну беседовать с войсками. Увидите, какой результат будет». Скоро он выехал на фронт. Как рассказывали мне, он надрывался, произнося речи; произносил, стоя в своем автомобиле, а иногда взлезши на дерево. Вернулся домой охриплым, измученным. А толк получился такой же, как и у меня. Болезни разговорами не лечат или лечат только знахари. А фронт в это время болел тяжкой болезнью...
В Брусилове я никак не мог разобраться. С одной стороны, он старался при всяком случае выявлять себя революционным генералом, а с другой — показывал большую набожность: не пропускал воскресных и праздничных служб, ставил свечи пред иконами, отбивал поклоны, выстаивал на коленях. Чины Ставки терялись в догадках, как смотреть на все это.
Со вступлением генерала Брусилова в должность Верховного произошли новые перемены: генерал Деникин был назначен главнокомандующим вместо Брусилова, а генерал А.С. Лукомский стал начальником штаба Верховного. Вместо уехавшего с Деникиным генерала Маркова генерал-квартирмейстером Ставки был назначен полковник Ю.Н. Плющевский-Плющик.
В июле в Ставке происходили заседания Съезда военного и морского, фронтового и тылового духовенства. Съезды тогда
479
были в моде. В епархиях они происходили бурно, безрассудно, заканчиваясь часто самыми дикими резолюциями и низвержением владык с их кафедр. Уверенный в лояльности и дисциплинированности своего духовенства, я решил собрать представителей духовного фронта и тыла, дабы общим разумом разрешить ряд назревших вопросов. При выборе делегатов на этот съезд ни мною, ни кем-либо другим не оказывалось решительно никакого давления. Духовенство выбирало по своему разумению и вкусу. Собралось делегатов около 60 человек. Заседания происходили в прекрасном здании Могилевского женского духовного училища, пленарные — в рекреационном зале. На пленарные заседания допускались все желающие. Председателем съезда был избран протоиерей профессор П.И. Лепорский, я был объявлен почетным председателем.
Я и теперь с великим утешением вспоминаю об этом съезде. Никакой демагогии, никаких крайних предложений и решений, никакой угодливости пред происходившей революцией, как и никакой контрреволюционности не было допущено съездом. Съезд твердо стоял на здоровой почве чистого исповедания православной веры и искал способы помочь Родине в ее затруднительном положении. Члены съезда отцы А.И. Боярский, А.И. Введенский, Г.С. Спасский, К. Стешенко, Яков Ктитарев — все мои ставленники — потрясали слушателей своими пламенными, глубокими по содержанию и сильнейшими по искренности и вдохновению речами. Огромный зал духовного училища на пленарных заседаниях всегда бывал переполнен слушателями. Кого тут только не бывало: Могилевские священники, штабные офицеры, солдаты, учителя и так далее. Архиепископ Константин часто бывал на этих заседаниях. Это был блестящий смотр военного и морского духовенства. Молодежь чудесно заявила себя. Старослужащие протоиереи пасовали пред ней. Архиепископ Константин, епископ Варлаам, Могилевские священники говорили мне, что их удивил, поразил блестящий состав военного и морского духовенства, что такого съезда им никогда не приходилось видеть. Съезд закончился удивительным эпизодом. На последнем заседании один из присутствовавших офицеров попросил слова, которое, конечно, ему было предоставлено. «Дорогие глубоко почитаемые отцы, — обратился он к съезду. —Хочу каяться перед вами. Я был неверующим. На первое ваше заседание я пришел, чтоб послушать, что тут будут болтать попы, и затем поглумиться над вами. Потом я не пропускал ни одного вашего заседания. Вы своими речами потрясли меня, уничтожили мое неверие, вернули мне веру... Земно кланяюсь вам». И офицер сделал земной поклон. Посетители приветствовали его громом аплодисментов. Я расцеловал его.
Между прочим, без всякого даже намека с моей стороны был поставлен и решительно, без всякого влияния или давления с мо-
480
ей стороны, был разрешен вопрос о протопресвитере военного и морского духовенства. Съезд избрал меня пожизненным протопресвитером военного и морского духовенства и об этом избрании сообщил Святейшему Синоду и председателю Совета министров. Я воспринял это решение как ответ съезда бывшему военному министру, желавшему свалить меня с должности протопресвитера военного и морского духовенства. В таком акте я увидел яркое проявление любви духовенства ко мне и полное доверие к моей системе управления. А я ведь был очень строг и требователен в отношении службы.
Я опустил один эпизод, чтобы теперь поставить его в связь с последующим рассказом. В половине мая 1917 г. я выезжал в Минск для братской беседы с собравшимися благочинными Западного фронта. Прибыв в Минск, я прежде всего посетил главнокомандующего фронтом генерала от кавалерии В.И. Гурко, с ноября 1916 по январь 1917г. заменявшего в Ставке больного генерала Алексеева. Генерал Гурко выглядел очень бодрым, но в это время он переживал большую трагедию. «Поздравьте меня: я уже не главнокомандующий, а командир запасной бригады. Здорово шагнул назад! — сказал он. здороваясь со мной. — Случилось это так. Вступив в должность военного министра, Керенский от всех главнокомандующих фронтами потребовал ответа: а) могут ли их войска начать наступление и б) ручаются ли они, главнокомандующие, что войска их выполнят задачу? Я ответил ему: «Западный фронт наступать не может, так как он разложен пропагандой; ручаться не могу не только за весь фронт, но и ни за одну его часть». Рассвирепевший Керенский хотел возвести меня в командиры полка: помощники убедили его не делать этого. Тогда он назначил меня командиром запасной бригады в Пятигорске. Вот его телеграмма. Я ответил ему, что и за эту бригаду не стану ручаться. Завтра или послезавтра отправляюсь в Пятигорск. О каком тут наступлении можно думать, когда полками фактически командуют не командиры, а комитеты, часто составленные не из лучших, а из худших элементов, когда начальник не может появляться пред своей частью без опасения быть убитым своими же? Был же недавно случай; в дивизию N прибыл новый ее начальник. Вышел он к выстроенной на площади дивизии и не успел поздороваться, как пущенная из солдатских рядов пуля уложила его на месте. А сенатор Соколов, сын придворного протоиерея, составителя учебников по Закону Божию Дмитрия Соколова, в это время с благословения Керенского разъезжал по фронту и своими безумными речами развращал солдат...»
Вместе с генералом Гурко мы отправились к собравшимся благочинным. Гурко сердечно благодарил их за самоотверженную службу на фронте и выразил надежду, что и при тогдашних тяжелых условиях они помогут оздоровлению и успокоению
481
фронта. Благочинным еще не было известно о разжаловании доблестного генерала.
Из беседы с отцами благочинными много нерадостного я узнал о положении дел на фронте: разложение проникло слишком глубоко, дисциплина упала, солдаты думают не о защите Родины. а о скорейшем возвращении в свои села и деревни, чтобы не опоздать к разделу земли и помещичьего добра: возможность пастырского влияния упала до последней степени; в полках каждый делает что хочет... Вернулся я в Ставку, доложил генералу Алексееву свои тяжкие думы. Он махнул рукой: «Что можно сделать, когда правительство от нас требует готовить армию к наступлению, а само всевозможными способами развращает ее? Безумное время, безумные люди!..»
На 20 июля Керенский назначил Военный совет в Ставке, поручив генералу Брусилову пригласить, кого он найдет нужным. Генерал Брусилов, кроме главнокомандующих фронтами — генералов Абрама Драгомирова, Деникина, Щербачева и главнокомандующего Западным фронтом (не помню фамилии) с их начальниками штабов, пригласил еще генералов Алексеева и Гурко.
20 июля во время обеда в штабной столовой, на котором присутствовал и прибывший из Пятигорска генерал Гурко, дежурный офицер доложил начальнику штаба генералу Лукомскому, что его с вокзала просят к телефону — прибыл военный министр Керенский. «Скажите. — обратился Лукомский к генерал-квартирмейстеру Романовскому, — что Верховный главнокомандующий просит господина военного министра пожаловать к нему». Вернувшийся от телефона генерал Романовский сообщил, что военный министр просит Верховного и начальника штаба немедленно прибыть к нему на вокзал. Лукомский тотчас встал из-за стола и направился к Верховному. О дальнейшем мне рассказывали генералы Лукомский и Алексеев следующее. Встретившись с Верховным, Керенский прежде всего спросил, кто приглашен на Совет. Когда Брусилов назвал и генерала Гурко, Керенский сказал: «Если Гурко будет участвовать в Военном совете, я сейчас же возвращаюсь в Петроград, с ним я не могу сидеть за одним столом». Генералу Гурко пришлось в тот же вечер уехать в свой Пятигорск.
«На вечернем заседании, — рассказывал мне генерал М.В. Алексеев. — генерал Деникин произнес громовую речь, в которой чрезвычайно резко обвинял правительство, способствующее разложению армии. Керенский молча выслушал обвинения. Генерал Брусилов слишком усердно старался угодить Керенскому, во всем соглашаясь с ним». Военный Совет закончился под полночь. Керенский тотчас отправился на вокзал, и сразу же поезд его двинулся в путь.
482
в 9-м часу утра 21 июля, идучи в штабную столовую к утреннему чаю, я встретил служащего в нашем штабе генерал-майора Генштаба Владимира Евстафьевича Скалона. «Слыхали большую новость? — остановил он меня. — Телеграммой с пути, из Новосокольников, Керенский уволил Брусилова от должности Верховного. На его место назначен генерал Корнилов». «Значит, мало ухаживал наш Верховный за Керенским», — заметил я. «Ухаживал-то достаточно, да не впрок пошли ухаживанья», — смеясь, сказал Скалон.
Два месяца пробыл генерал Брусилов Верховным в Ставке. За это время не приобрел он ни любви, ни преданности, ни уважения чинов Ставки. Последние не могли найти примиряющей точки для объяснения поведения Верховного: в апреле 1915 г., когда государь на смотре 8-й армии вручил ему генерал-адъютантские погоны и аксельбанты, он поцеловал царскую руку и потом хвастался своим генерал-адъютантским званием: в штабной церкви он смиренно отбивал земные поклоны, а на улице демонстративно появлялся с красным бантом на груди, как будто без этого банта нельзя было демонстрировать службу верой и правдой новой России. Лучшие офицеры Ставки видели личное унижение в том, что их Верховный так позорно держал себя пред Керенским, этим «штафиркой», «адвокатишкой», который случайно вознесен на высоту власти и неминуемо должен упасть с нее. Брусилов особенно проигрывал, когда рядом с ним генералы Алексеев, Деникин, Гурко держали себя с совершенным достоинством. независимостью и свойственной воинам, откровенной прямолинейностью. Я сам удивлялся, что Брусилов, одерживавший блестящие победы на бранном поле, так легко, если не сказать позорно, сдает свои позиции при столкновении со штатским человеком.
Провожать генерала Брусилова явились на вокзал немногие чины Ставки. Кто-то поднес его жене букет живых цветов. Уезжал генерал Брусилов, не нажив в Ставке новой славы, а, пожалуй, похоронивши там часть достойно заслуженной им в Галиции боевой славы. Об уходе его с поста Верховного никто не жалел. О нем вспоминали как о генерале, попробовавшем играть в революцию и блестяще провалившем свою роль.
Верховным главнокомандующим Временное правительство назначило генерала Лавра Георгиевича Корнилова, в 1916 г. сумевшего с большими приключениями и опасностями убежать из германского плена. О Корнилове не было двух мнений: русский солдат до мозга и костей, решительный и безумно храбрый, строгий к себе и к другим, безукоризненно честный и прямолинейный. прогрессивного образа мыслей. На него возлагали большие надежды, что он сможет восстановить на фронте дисциплину и привести войска в боевую готовность. Меня связывало с генера-
483
лом Корниловым то, что он пред Великой войной командовал бригадой 9-й Сибирской стрелковой дивизии, в которой я служил во время Русско-японской войны и где добрая память обо мне не умирала. В Ставке почувствовалась крепкая рука нового Верховного. Но разложение армии проникло так глубоко, что для приведения армии в подобающий вид требовались героические, самые решительные меры. А Временное правительство во всяком решительном действии видело намек на контрреволюцию. При таком положении дела трудно было Корнилову удержаться на своем высоком посту.
Между тем шальной обер-прокурор Святейшего Синода В.Н. Львов сделал шаг, который не может не быть поставлен в великую его заслугу. Благодаря Львову был назначен на 15 августа этого 1917 г. созыв Поместного в Москве Собора. Это было событием великой церковной важности: в течение всего синодального периода — более 200 лет — ни разу не собирался Русский Церковный Собор. И фронт, и тыл должны были командировать на Собор своих выборных представителей. Ставка при участии самого Корнилова избрала своим представителем дипломата князя Григория Николаевича Трубецкого, человека весьма образованного. глубоко-религиозного и высокоблагородного, строгого церковника. Я по должности включался в число членов Собора. Я выехал в Москву 12 августа.
О Московском Поместном Соборе 1917-1918 гг. много писалось. Все же и я скажу о нем несколько слов.
XXIX. Московский Поместный Собор 1917-1918 годов. Избрание Патриарха Всероссийского
Московский Поместный Собор 1917 г. открылся торжественным богослужением в Московском Успенском соборе, закончившимся крестным ходом на Красную площадь. А.Ф. Керенский присутствовал на богослужении и участвовал в крестном ходе. К этому дню. Успения Божией Матери, правительство пожаловало званием митрополита трех архиепископов: новоизбранных Московского Тихона и Петроградского Вениамина, а также экзарха Грузии Платона, возглавлявшего тогда Синод.
Первые дни соборной работы были посвящены организации Собора и принятию приветствий. Президиум Собора должен был состоять из председателя, двух товарищей председателя от епископата, двух — от белого духовенства и двух — от мирян. Я был избран товарищем председателя от белого духовенства. После этого на всех соборных заседаниях мне пришлось сидеть рядом с архиепископом Антонием (Храповицким), тогда считав-
484
шимся самым видным членом российского епископата, и близко узнать его. До того времени я недостаточно хорошо знал его, но, однако, не разделял общего преклонения пред ним, считая его очень талантливым, но совсем не деловым человеком. Мое соседство с ним по креслу на соборных заседаниях, беспрерывное выслушивание его реплик и самых скабрезных анекдотов, как и основательное ознакомление с его работой, окончательно убедили меня, что эта «яркая» звезда на архиерейском небосклоне была весьма дутой величиной. Архиепископ Антоний, безусловно, был талантливым человеком, много читал, много знал, обладал бойким умом и острым языком: был нестяжателен, отзывчив, прост в обращении. Но у него как-то странно уживались талантливость с бесталанностью, мудрость с наивностью, многознание с пустой болтливостью. Бывало, на заседаниях и в частных беседах выскажет он десяток мыслей. Всегда они бывали как евангельские девы — «пять от них мудры и пять юродивы» (Мф. 25, 2). Оставшись со своими и мудрыми, и юродивыми мыслями. он. бывало, мудрые свои мысли забудет, а юродивые приведет в исполнение. Оттого — рассказывали мне и сам я потом в Екатеринодаре наблюдал его епархиальное управление — и вся его жизнь отливались редкой хаотичностью. А его словесный цинизм был беспримерным. Не знавший Антония мог подумать, что этот прославленный владыка мыслил только блудными образами и лексикон его состоял только из блудных слов и речений. А на Собор ведь он был выдвинут первым кандидатом в Патриархи.
Среди приветствовавших Собор выступал и я. В своей речи я ярко изобразил крестный путь, пройденный нашей армией, и ее тогдашнее ужасавшее всех мысливших людей состояние. Моя речь произвела на членов Собора огромное впечатление, обеспечившее мне большое внимание и тех, которые до того времени мало знали меня.
Материалы для соборных работ были подготовлены Предсоборным Совещанием в 1906 г., которое было составлено из самых видных наших архиереев, богословов-канонистов. Его протоколы и журналы, включающие в себя целое богословие, были напечатаны в 1907 г. Но состав Собора не удовлетворил меня. Как известно, каждая епархия дала своих представителей от духовенства и мирян. Выбирались они по указаниям своих владык, из «самых благочестивых» членов паствы. Из разных епархий явилось на Собор немало полуграмотных и даже неграмотных членов, совершенно не способных разбираться в догматических и канонических вопросах. При голосовании потом неизменно наблюдалась одна и та же картина: каждый из таких членов следил за своим архиереем: встанет он или будет сидеть? Если же случалось, что такой член-простец поспешно вставал, а
485
его владыка не поднимался, то и этот член спешил опуститься в свое кресло. Такие члены чаще бывали ненужным балластом, тормозом, чем ценностью для Собора.
Памятен мне следующий случай. На соборном заседании обсуждался вопрос: какой теперь нужен пастырь приходу? Председательствовал на этом заседании архиепископ Антоний. Говорили архиереи, умные священники, профессора академий, ученые представители общественных кругов. Было высказано много умных, серьезных, метких мыслей об условиях современной пастырской работы и о качествах, которыми должен отличаться современный пастырь. Когда речи кончились, председательствовавший архиепископ Антоний обратился к Собору: «Отцы и братия! Вы выслушали много ученых речей. Мне кажется, что нам следует услышать, как думает по этому вопросу простой народ. Может быть, кто из простецов-членов скажет нам что-либо?» На кафедру взошел очень благообразный, одетый попросту пожилой крестьянин Н. «Ваши Высокопреосвященства, отцы и братия, — начал он. — Его Высокопреосвященство хочет знать наше мнение, какой нам нужен священник. Я отвечу: нам нужен такой священник, который умел бы хорошо петь». Поклонившись Собору, Н. сошел с кафедры. Слова попросил очень умный и остроумный протоиерей Константин Маркович Аггеев, профессор богословия в одном из высших санкт-петербургских светских учебных заведений, председатель учебного комитета при Святейшем Синоде. «Владыка Антоний, — начал он свою речь, — захотел узнать, какой, по мнению простого народа, должен быть приходский пастырь. Мне кажется, что мы, образованные люди, должны подымать народ простой до своего уровня, а не опускаться до его понимания. Я очень доволен, что владыка Антоний услышал голос простого народа, выраженный членом Собора Н. По его убеждению, теперь народу нужен священник, который умел бы хорошо петь. Как вы все знаете, архиепископ является яркой звездой в блестящем созвездии наших архипастырей. Но член Собора Н. не взял бы его в свой приход священником, поскольку, как всем вам известно, архиепископ Антоний совсем не умеет петь». Собор громким смехом ответил на реплику протоиерея К.М. Аггеева. Больше всех смеялся сам архиепископ Антоний. И вот такие члены Собора решали назревшие за 250 лет огромные церковные вопросы.
Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что трудно было Собору произвести нужную для церкви работу. Епископат наш был в смятении: прежней опеки государственной власти он лишился; революционный обер-прокурор Львов, раньше в Думе вооружавшийся против попрания государственною властью свободы Церкви, теперь надругался над архиереями, над Синодом, над церковной свободой: в епархиях духовенство и миряне, почувст-
486
вовав свободу, низвергали владык с их кафедр, в приходах прихожане прогоняли своих духовных отцов: политическое положение страны не было радостным — армия стала небоеспособной, немцы начали угрожать Киеву: Временное правительство теряло самообладание, а вместе с ним и авторитет в народе: скоро оно сменилось новым правительством, объявившим: «Религия — опиум для народа». Требовался какой-то решительный поворот в церковной политике, в отношении Церкви к государственной власти, во всей ее работе, В Соборе произошло разделение: одни из его членов рвались в объятия новой власти, (к сожалению, это была самая слабая в церковном отношении часть соборных членов): другие страшились мысли об общении с безбожной властью: третьи выжидали, как дальше поведет себя новая власть и окажется ли возможность какой-либо совместной с ней работы. Большинство членов Собора — этого нельзя скрыть — было настроено неблагосклонно к возмутившей российскую жизнь революции.
Собор заседал до 8 сентября 1918 г. Единственным реальным, оказавшим большое влияние на последую жизнь Русской Церкви было учреждение, или, правильнее сказать, восстановление, патриаршества, упраздненного Петром Великим в 1700 г.
Когда на Соборе был поднят вопрос о восстановлении Всероссийского патриаршества, я — откровенно сознаюсь в этом — не примкнул к горячим защитникам его. Главной причиной было то, что я разочаровался в нашем епископате и не видел человека, который мог бы с честью и славой понести на своих плечах патриаршеское бремя. Более же всего меня пугала мысль, что на патриаршем престоле может оказаться Антоний и тогда во всей Российской Церкви водворится тот хаос, от которого страдали управлявшиеся Антонием епархии. Мое отношение к патриаршему вопросу было замечено многими, ставшими после этого моими недоброжелателями.
Порядок избрания Патриарха был таков: сначала избирали кандидатов, потом из выбранных кандидатов избирали трех лиц — ив первом, и во втором случае тайным голосованием. Из выбранных трех лиц выбирали одного выниманием в храме жребия. При первом голосовании я оказался пятым по числу поданных голосов. На мою долю выпало 75 голосов, как я потом узнал, принадлежавших самой интеллигентной части Собора. От второго голосования я решительно отказался, хотя многие видные члены Собора убеждали меня не отказываться. При втором голосовании прошли: Антоний, Арсений Новгородский и митрополит Тихон Московский. Так как ни один из них не получил нужного числа голосов, то было произведено третье голосование, давшее тот же результат: на первом месте оказался Антоний, на втором — Арсений, на третьем — митрополит Тихон. Скажу несколько слов об этих кандидатах.
487
Архиепископ Антоний уже достаточно охарактеризован мною. Хотя он стоял на первом месте, я считал его самим нежелательным кандидатом. Архиепископ Арсений был очень серьезным архипастырем, но ему недоставало смелости и мужества при встрече с опасностями. В то время как Антоний стремился к патриаршеству как к манне небесной, Арсений трепетал при мысли, что тяжкий жребий патриаршества может упасть на него. Московский митрополит Тихон не отличался ни ученостью Антония и Арсения, бывших ректоров академии, ни славой, витавшей около имен их. Но это был благожелательный и добрый, рассудительный и спокойный, простой и для всех доступный благочестивый архипастырь. Спокойствие и благодушие не покидало его в самые трудные минуты его жизни. Он не был узким консерватором, но он был далек от увлечений непродуманным либерализмом и был осторожен в отношении всяких новшеств. К вопросу о патриаршестве он относился спокойно и благодушно, полагаясь во всем на волю Божию.
Избрание Патриарха происходило в московском храме Христа Спасителя после торжественнейше совершенных литургии и молебна. На молебен вышли все участвовавшие в Соборе архиереи. Храм был переполнен народом. По окончании молебна старейший митрополит Владимир Киевский со мною и протопресвитером Успенского собора Н.А. Любимовым поднялся на амвон к урне, стоявшей пред принесенной из Успенского собора Владимирской иконой Божией Матери. Перекрестившись, митрополит Владимир сломал печать, а избранный Собором иеросхимонах Алексий опустил руку в урну и, вынув оттуда один из трех, свернутых в трубочку, билетов, передал его митрополиту Владимиру, а тот — протопресвитеру Любимову для объявления народу. Любимов своим могучим голосом воуласил: «Московский митрополит Тихон». Толпа, наполнявшая собор, покачнулась, и послышался вздох облегчения. Величественный архидиакон Успенского собора К.В. Розов возгласил многолетие новоизбранному Святейшему Московскому и всея Руси Патриарху Тихону. Антоний, Арсений и Тихон не присутствовали на этой церемонии, оставались у себя дома. Новоизбранный Патриарх Тихон принял известие об избрании спокойно и благодушно. Арсений радостно перекрестился, когда ему сообщили об избрании Тихона. А Антоний крепко выругался. В Киеве, в Екатеринодаре, в Карловцах он покажет, чего можно было ожидать от него, если бы он стал Патриархом.
В начале 30-х годов — конечно, нашего века — митрополит Евлогий, сидя у меня в Софии, вспомнил об избрании Патриарха. «А вы не забыли, — обратился он ко мне, — как вы тогда отличились? Кончилось богослужение. Патриархом избран митрополит Тихон. Все архиереи собираются уходить из собора и облекаются в соборной ризнице в верхние рясы. Все были там. Вдруг раздается ваш громкий голос: «Теперь я вижу, что любит
488
Господь нашу Церковь — не допустил Он архиепископа Антония до патриаршего престола». Архиереи тогда страшно возмутились вашими словами. Признаюсь, и я принадлежал к числу возмущавшихся. А теперь вижу, что вы сто раз были правы. Ставши Патриархом, натворил бы он дел...» На стороне же архиепископа Антония были почти все архиереи и почти вся серая часть Собора. Значит, не всегда глас народа бывает гласом Божиим...
Работа Собора не удовлетворяла меня, как и многих других самых сильных соборных членов, ожидавших, что Собор во многом исправит нашу церковную жизнь. Собор не хотел касаться самых важных, назревших вопросов, каковы тогда были: об архиерейском служении, об ученом монашестве, о реорганизации монастырей и монашеской жизни и другом. Впрочем, монастырям Собор уделил некоторое внимание. На одном из заседаний раздались речи о необходимости привлечь насельников монастырей к просветительной деятельности — к проповеднической, издательской и так далее. Тогда на кафедру взошел Уфимский епископ Андрей (Ухтомский), честный и искренний. «Отцы и братия! — обратился он к Собору, — Вы хотите заставить монахов, чтоб они проповедовали. О чем же они будут проповедовать? Их надо просить не о том, чтоб они проповедовали, а о том, чтоб они не смели проповедовать...» Члены Собора не могли не согласиться с епископом Андреем, так как монастыри почти сплошь были населены простецами, неспособными ни к какой просветительной работе.
Если бы Собор взглянул на дело глубже и свою работу развил шире, тогда, может быть, не появилась бы у нас и Живая Церковь, не послужившая к славе нашей православной веры. Ведь вначале в Живую Церковь ушли не худшие, а лучшие, и только потом к ним присоединились разные искатели приключений. Ведь и ныне чрезвычайно на Руси прославленный Патриарх Сергий тоже было примкнул к Живой Церкви и только потом, убедившись в ее несостоятельности, возвратился в патриаршую Церковь.
Недавно вернувшийся из Москвы, где он участвовал во Все- православном Церковном совещании, экзарх Болгарский Стефан сообщил мне, что там, в России, многие архиереи и священники продолжают считать большой ошибкой Московского поместного Собора, что он избрал в Патриархи митрополита Тихона, а не меня. По их мнению, я был единственным человеком, который мог тогда вывести Церковь на правильный путь и избавить ее от тех потрясений, которым она подверглась вследствие ошибок тогдашних ее вождей. Я совершенно не разделяю такого мнения. При том крушении, какое тогда постигло Российскую державу. Церковь не могла без тяжких болезней и страданий продолжать свое существование, потрясения для нее были неми-
489
нуемы. Может быть, всегда спокойный и неизменно благодушный Патриарх Тихон был именно тем человеком, который был нужен для того времени.
С избранием Патриарха Синод прекратил свое существование. Его место заняли два учреждения при Патриархе — Святейший Синод и Высший Церковный Совет. Я был избран членом последнего.
Между тем, хотя Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства в январе 1918 г. было упразднено, военные и морские священники продолжали обращаться ко мне со своими нуждами и печалями. Особенно тяжело было положение находившихся на фронте священников. Для многих из них оставаться в своих распропагандированных частях не представлялось возможным. Епархиальные же архиереи встречали возвращавшихся с фронта крайне недружелюбно. Особенным недружелюбием отличался Волынский архиепископ Евлогий. В июле 1918 г. я получил длинное скорбное письмо, подписанное более чем 20 священниками. «От архиепископа Евлогия, — писали они, — мы терпим более насмешек, надругательств, бессердечия и оскорблений, чем от всех своих врагов на фронте». Для меня было несомненно, что архиепископ Евлогий вымещал на моем духовенстве свою злобу ко мне за то, что я был противником его воссоединительной политики в Галиции. В старое время я скоро нашел бы управу в отношении таких архиереев. Теперь мне оставалось одно; докладывать Патриарху. Но Патриарх со свойственным ему спокойствием относился к моим жалобам. Тогда я подал заявление Патриарху, что, будучи не в силах защищать подчинявшееся мне ныне страждущее военное и морское духовенство, я отстраняюсь от участия в высшем церковном управлении, уповая, что после этого Его Святейшество примет на себя заботу о доблестно трудившемся на фронте, вынесшем там много лишений, страданий и всяких иных невзгод, духовенстве. Патриарх не хотел отпускать меня, но я настоял на своей просьбе.
Когда я отказывался от службы, у меня не было плана в отношении будущего. Я имел тогда небольшой приобретенный мною в конце 1916 г. кусочек земли в Оршанском уезде Могилевской губернии, в 20 верстах от г. Витебска, и маленькие сбережения, которых должно было хватить мне на 3-4 года. Под влиянием обиды, нанесенной мне архиереями, их отношением к моему духовенству, мне хотелось именно таким образом выразить свой протест. Я тогда был молод, силен, работоспособен и в своих жизненных требованиях скромен. Я был уверен, что так или иначе сумею добывать себе кусок хлеба. Я уехал в свой фольварк (50 десятин земли с домом и садом) Шеметово, где, как казалось мне, я смогу укрепить свои расшатанные нервы. Там было все,
490
что мне нравилось в деревне: приличный, из четырех комнат, домик с прекрасным молодым садом и всеми усадебными постройками, вблизи дома рыбная речка Лучеса, приток Западной Двины, недалеко от дома — огромный лес помещика Лужинского, изобиловавший грибами и ягодами. Там, думал я, отдохну от всех треволнений последних лет, укреплю свои нервы. А дальше... видно будет. Но вышло, как дальше увидим, иначе.
В Шеметове кроме хозяйского домика было еще два дачных домика. В одном из них осенью 1917 г. сестра моего брата с моей дочерью открыли школу для крестьянских детей соседней деревни Голубцы и бесплатно занимались с ними. В январе 1918 г. моя дочка вышла замуж за инженера путей сообщения Всеволода Николаевича Хмелевского. Моя родственница продолжала заниматься с детьми, заведуя в то же время и хозяйством, состоявшим из лошади, трех коров и прочей живности. Я изредка навещал свое «имение», находившееся на пути из Москвы в Ставку.
В Москве я узнал о происходившем в Ставке после моего отбытия на Собор. Корнилов выступил против правительства: Деникин принял его сторону. Я отправился в конце августа в Ставку. Там я застал ликвидацию корниловского восстания. Временное правительство командировало в Ставку генерала М.В. Алексеева, справедливо рассчитывая, что он своим авторитетом и тактом облегчит и ускорит разрешение кризиса. Генералу Алексееву не без труда удалось выполнить свою миссию. При первой встрече с ним Корнилов держал себя не как побежденный, а как победитель. И только после острых переговоров Корнилов сдался.
Прибыв в Ставку, я прежде всего отправился к Корнилову. «Наше дело кончено, — сказал он мне. — Вы в нем не участвовали и вам тут нечего делать, не сидите тут, а поезжайте в Москву!» То же посоветовали мне и другие. Не задерживаясь в Ставке, я отправился в обратный путь.
Известны дальнейшие события. На место Корнилова был назначен доблестный офицер Генштаба генерал Николай Николаевич Духонин. Вскоре он был убит на Могилевском вокзале. Солдаты гнусно надругались над его трупом. Похоронив мужа, жена его потом самоотверженно занималась делами милосердия. После Духонина Верховным стал прапорщик Крыленко. Для окончательно развращенной армии не требовался лучший Верховный главнокомандующий. От преданных мне лиц я получал письмо за письмом, меня убеждали не возвращаться в Ставку, где жизнь моя не может быть в безопасности. Да я и не нужен был там: ни о каком управлении фронтовым духовенством не могло быть и речи, каждый священник предоставлялся собственному благоразумию; быть защитником унижаемых и оскорбляемых священников я не мог, поскольку сочувствующие нам начальники сами нуждались в защите, у несочувствовавших бесполезно было
491
искать защиты или помощи. Мне теперь предстояли иного рода заботы. Они состояли в следующем.
В половине января 1918 г. правительство упразднило Ведомство протопресвитера военного духовенства. Но ведомство продолжало существовать, так как, будучи упразднено правительством, оно не было упразднено Святейшим Синодом. С упразднением ведомства остро стал вопрос о принадлежавшем ведомству имуществе. На углу Воскресенского проспекта и Фурштадтской улицы у него имелось два трехэтажных дома. В одном из них помещались Духовное правление, квартира протопресвитера и его домовая церковь, в другом — богадельня для вдов и сирот военного и морского духовенства и квартиры начальника канцелярии Духовного правления, диакона и псаломщика протопресвитерской церкви. Третий дом с Покровским приютом в нем находился на Таврической улице в Петрограде; четвертый — тоже с приютом — в Гатчине. Во время войны в Ессентуках мною были приобретены три домика с усадьбой и обстановкой для нуждавшихся в отдыхе и лечении священнослужителей нашего ведомства. Наконец, значительную стоимость имел наш военно-духовный свечной завод с прикупленным мною во время войны значительным участком земли, предназначавшимся для постройки на нем поселка для отставных священнослужителей и дома для увечных воинов. За время войны военным и морским духовенством, поощрявшимся мною, были собраны значительные суммы. Правительство поспешило назначить специального комиссара, поручив ему заняться нашим имуществом. В конце января я получил из Петрограда телеграмму: «Приезжайте как можно скорее. Отнимают имущество». Я поспешил отбыть в Петроград.
Там в моем Духовном правлении было великое смятение. Явившийся туда новоназначенный комиссар потребовал немедленной сдачи всех имеющихся денег, процентных бумаг и всего прочего имущества. Члены Духовного правления с крайней, бурно выраженной неприязнью встретили его требование. Между комиссаром и Духовным правлением сразу установились враждебные отношения. В самый их разгар, ничего доброго не обещавший нашему ведомству, прибыл я в Петроград. Узнав о моем прибытии, комиссар тотчас явился ко мне.
Чтобы сгладить создавшееся у комиссара настроение, я встретил своего посетителя с изысканною любезностью, что сразу расположило его в мою пользу. Из последовавшей затем беседы с ним я убедился, что он совсем незлой и невраждебно настроенный в отношении Церкви человек. Он был верующим, в течение некоторого времени состоял вольнослушателем в Санкт-Петербургской духовной академии и считал меня своим однокашником. Я объяснил ему, что все имущество ведомства
492
принадлежит не мне, и не чиновникам ведомства, и даже не военным и морским священникам, а вдовам и сиротам военно-морского духовенства, среди которых есть вдовы и сироты погибших во время войны героев-священников. «Неужели у нашего правительства поднимется рука, чтобы обездолить этих несчастных вдов и сирот?» — сказал я. Таким образом, мне удалось войти в самые приятельские отношения с комиссаром, и он обещал мне спасти все наши достояния. Потом он исполнил свое обещание: пока я не покидал ведомства, у нас не было отнято ни одной копейки. Что было потом, не знаю. Часто я после того вспоминал мудрые слова высокочтимого Санкт-Петербургского митрополита Антония (Вадковского), однажды сказанные мне: «Не умеют у нас обходиться друг с другом люди. Встретятся два человека и начинают спорить, избрав такие вопросы, в которых они не сходятся и сойтись не могут. И расходятся потом почти что врагами. А надо не так. Встретясь с новым человеком, надо при беседе с ним находить такие точки, в которых ты с ним согласен. Тогда между собеседниками создается некоторого рода сродство душ, близость, которые потом дадут им возможность спокойно разрешать и такие вопросы, в которых они не сходятся...»
Из Москвы в Шеметово я прибыл 1 августа 1918 г. Если бы не революционное время, я чувствовал бы себя в Шеметове счастливейшим человеком. После семи лет беспокойной жизни (всегда на людях, под градом постоянных интриг и подвохов) Шеметово могло стать для меня райским уголком. Родная сельская белорусская природа, среди какой прошло мое детство. Тишина полная. Мой дом стоит вдали от проселочной дороги. В одной версте от него с одной стороны деревня Голубцы, с другой — маленькое именьице, в 3 верстах село Любашково, где похоронен архиепископ Василий Лужинский, изображению воссоединительной деятельности которого было посвящено мое кандидатское сочинение. С третьей стороны, так же в 3 верстах, станция железной дороги (Петербургско-Киевской). Около дома три десятины молодого, редких сортов яблонь, груш, слив сада. Большггя веранда выходит в сад. Сад кончается березовой рощей. С парадной стороны дома другие две рощи, в версте — огромный лес. С южной стороны дома, шагах в ста от крыльца, быстротекущая, глубокая и рыбная речка, очень удобная и для купания, и для рыбной ловли. Прибыв в Шеметово, я сразу превратился в сельского человека: ухаживал за садом и огородом, сносил снопы, сушил сено, убирал яблоки и груши, собирал ягоды и грибы, ловил рыбу. Изредка навещал своих соседей, чаще беседовал с крестьянами деревни Голубцы, с большой симпатией относившимися ко мне. Иногда соседи и витебские родственники навещали меня. Но спокойствия не могло быть. Отовсюду приходили тревожные слухи: там ограбили, там убили, там крестьяне рубят помещичий
493
лес, там вспахивают для себя помещичью землю, там уводят или уничтожают помещичий скот. Когда я проезжал через деревни, следуя по вызову в волостное правление, меня возмущала наблюдавшаяся в каждой деревне картина: около каждой крестьянской избы была навалена груда строевого лесу, нарубленного в помещичьих лесах. Каждый рубил сколько хотел и старался нарубить как можно больше. Крестьяне деревни Голубцы несколько раз спрашивали меня, рубить ли им лес в соседней большой помещичьей даче. Я советовал им не спешить с этим делом, и они слушались меня. Но недолго пришлось мне жить в милом Шеметове.
7 сентября поздним вечером прибывший из Витебска учитель тамошней духовной семинарии Махаев, живший у меня на даче, сообщил мне. что Витебский Совет рабочих депутатов, составленный из очень подозрительных людей, узнав о моем пребывании в Шеметове, постановил расстрелять меня. Решено произвести казнь 9 сентября. Мне оставалось спасаться бегством. Мне остригли и голову, и бороду, я переоделся в светский, очень убогий костюм и с паспортом крестьянина Дриссенского уезда Скобленка 8 сентября под вечер направился в Витебск, чтобы оттуда пробираться в Полоцк, занятый немцами. Семья моего брата Василия, жившая у меня на даче, и учитель семинарии настояли, чтобы на всякий случай меня сопровождала свояченица моего брата.
Потребовалось бы много бумаги и времени, чтобы описать всю одиссею моего странствования от Витебска до Киева. Кратко скажу о нем. От Витебска до станции Ловжи мы ехали по железной дороге. От этой станции до Полоцка, скрываясь от военной и мирной полиции, пробирались то пешком, то на лошадях. Священники везде принимали и скрывали нас. Я ночевал обычно в сараях, зарывшись в сено, чтобы в случае обыска не могли меня найти. В Полоцке скрывался и от немцев, и от русской полиции, в особенности от полицеймейстера Говоровича. Прокурор окружного суда, мой однокашник Н.И. Попов, сумел расположить Говоровича в мою пользу, и тот дал своего чиновника, который на своей слабенькой лошади дотащил нас до г. Борисова, отказавшись от всякого вознаграждения. Из Борисова я пробрался в Киев на пароходе. И тут пришлось прятаться от немцев, пока не началась территория гетманской Украины. В Киеве небольшие радости ожидали меня.
XXX. Пребывание в Киеве. Поездка в Крым к великому князю Николаю Николаевичу
Что же происходило в Шеметове после нашего отъезда? Там оставался мой младший брат Аркадий, студент последнего курса
494
Харьковского ветеринарного института. От него я и узнал о происходившем там.
9 сентября утром, на следующий день после нашего ухода из Шеметова, явился туда взвод солдат, вооруженных винтовками и пулеметом, чтобы арестовать меня, Аркадий заявил им, что я на целый день куда-то уехал, а, чтобы ублажить их, предложил угощение: бутылку водки и ветчину, мною самим засоленную и выкопченную, «А ты кто же будешь такой?» — спросили солдаты. Аркадий и тут догадался, ответил: «Служу у попа». Один из солдат сказал: «Это не дело. Такой ты, видно, хороший парень, и служишь у попа», Аркадий и тут нашелся: «Поп-то очень хороший. Оттого и служу у него». Выпив водку и съев нарезанную ветчину, солдаты ушли, пообещав еще прийти, когда поп вернется. Может быть, они и приходили, но Аркадий поспешил оставить Шеметово.
В Киев мы прибыли в конце сентября. Там у меня было достаточно знакомых и прежде всего несколько военных священников. Но я имел такой вид, что не мог никому показаться: остриженный, в хулиганском костюме, я был похож на подозрительной репутации субъекта, а не на протопресвитера. Каким-то образом мы оказались у служившего под моим началом во время войны священника о. Константина Стешенко. Он оставил нас у себя. Военный протоиерей Измаил Кавернинский дал мне довольно приличную рясу, другой священник снабдил меня каким-то подрясником. Благодаря этому я смог принять более приличный вид. В этом виде я представился бывшему моему соседу по креслу на Соборе, теперь митрополиту Киевскому Антонию. Он встретил меня насмешкой: «Как вас остригли! Вы совсем не стали похожи на протопресвитера». Я ему ответил: «Чтобы спасти голову, не пожалел я волос. Ваше Высокопреосвященство!» «Где же вы теперь обитаете?» — спросил он меня. «Не имею обитающего града. Надеюсь, что кто-либо приютит меня», — сказал я. «Ну конечно, ваши же военные приютят вас», — улыбнулся Антоний. Он мог тысячу раз пристроить меня. Но ему, так я тогда понял, желанно было оставить меня в неприятном положении. После моей реплики в храме Христа Спасителя. о которой ему, несомненно, тотчас было сообщено, он не мог питать ко мне добрых чувств.
Чтобы улучшить свое положение, я мог обратиться к Гетману Скоропадскому, е которым у меня и до назначения меня протопресвитером, и во время моего протопресвитерства были самые добрые отношения: оба мы состояли членами Скобелевского комитета и с заседаний комитета всегда возвращались вместе, так как наши квартиры находились поблизости одна от другой. Потом Скоропадский, став командиром лейб-гвардии Конного полка, несколько раз заезжал ко мне, а я несколько раз совершал богослужения в его полку. Но теперь Скоропадский стал боль-
495
шим человеком, а я превратился в пролетария и в таком положении не хотел беспокоить его заботами о моей персоне.
Заметив, что своим пребыванием мы создаем некоторые неудобства для семьи о. Стешенко, я начал приходить к ним только на ночлег, а целые дни проводил в скитании по киевским храмам и садикам. Жуткая была жизнь, которую я, вследствие своей деликатности, не умел облегчить. Я с благодарностью вспоминаю умного и высокообразованного о. протоиерея Евгения Зотиковича Капралова, секретаря Киевской духовной консистории, своего земляка Николая Ивановича Лузгина, настоятеля Киевского военного собора протоиерея Сергия Троицкого и других, оказавших мне в эту трудную пору много внимания и ласки. Но они не сумели войти в мое бездомное положение, а я не решился надоумить их.
Между тем мои денежные запасы иссякали; опасаясь быть в пути ограбленным, я взял из дому всего 2 тысячи рублей — по тогдашним ценам незначительную сумму. Я ухватился за предложение писать в киевских газетах и журналах. Одна из моих статей сильно задела митрополита Антония. Он чрезвычайно недружелюбно относился к являвшимся к нему военным священникам остриженными и обритыми. А они остриглись и обрились, спасая свои головы, когда вынуждены были оставлять свои части, спасаясь от зверств и неминуемой смерти. В этой статье я употребил выражение: «Лучше стриженые волосы на голове и бороде, чем блуд и злословие на языке». Решительно все поняли, что тут намек на митрополита Антония, отличавшегося злословием и блудословием. Понял и сам митрополит Антоний. После этого наши отношения еще более ухудшились.
Понимая, что духовного места мне не получить в Киеве, я обратился к украинскому министру народного просвещения с просьбой дать мне место в учебном ведомстве. Он согласился предоставить мне место директора мужской гимназии в г. Конотопе. Но вступить в должность мне, как увидим дальше, не пришлось.
Пребывание в Киеве дало мне немало наблюдений. Забавляла меня украинизация, проводившаяся в Киеве настойчиво и смехотворно. Во всех учреждениях переписка шла на украинском языке, что создавало немало забавных случаев, так как и писавшие, и их адресаты никогда раньше не пользовались этим языком и не знали его. Более усердные постарались забыть русский язык, хотя в течение всей своей предыдущей жизни только им и пользовались.
К числу таких лиц принадлежал дежурный генерал Гетманского штаба, генерал-лейтенант Алексей Семенович Галкин, в течение всей Великой войны служивший дежурным генералом Западного фронта, добрый и чисто русский человек.
496
Второе явление, которого нельзя было не заметить, — это множество офицеров, оставивших фронт и затем в самых разнообразных положениях, иногда совсем не подходящих для офицерского звания, прокармливавшихся на Украине. Серьезные люди уверяли меня, что число таких офицеров доходило до 60 тысяч человек.
В-третьих, мне тогда удалось еще ближе узнать митрополита Антония как человека, как церковного деятеля. Он был великим мастером создавать хаос в управлении. Бесхарактерный, легко меняющий взгляды и решения, поддающийся влияниям недобрых советников, он при всей своей учености и добросердечии был типичным неудачным администратором. У него не редкостью бывало, что на одно священническое место назначались три и даже четыре кандидата, которые, съехавшись, не могли уразуметь: кому же из них должно принадлежать это место. Всем было известно его нетерпимое отношение к инословным христианам; всякие моления и за живых, и за умерших инословных им запрещались. Но вот в Киеве он сошелся с австрийским главнокомандующим генералом Эйхгорном. Рассказывали мне, что Киевский митрополит и австрийский генерал так полюбили друг друга, что встречались каждый день. В один день, уже около полночи, митрополита Антония известили, что генерал Эйхгорн тяжко ранен. Митрополит приказал всем монахам собраться в соборном лаврском храме и сам начал служить молебен о здравии пострадавшего. Когда же во время молебна ему сообщили о кончине Эйхгорна, он совершил панихиду... В Екатеринодаре митрополит Антоний еще крепче утвердил мое представление о нем.
В Киеве во время моего там пребывания собралась группа бывших общественных и государственных деятелей, задавшихся целью освобождения России. К этой группе принадлежали: известный сахарозаводчик и богач К.И. Ярошинский, А.И. Пильц, генерал В.П. Никольский. Большую роль играл бывший министр А.В. Кривошеин, в то время уехавший на Русское государственное совещание в Яссах. Идеей этой группы было объединить Добровольческую армию, Дон и Кубань, возглавив это объединение бывшим Верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем. Вопрос этот должен был разрешиться в Яссах, куда съехались и из других мест бывшие русские деятели. Ярошинского, Пильца и Никольского занимал вопрос, как сам великий князь отнесется к этому делу. Зная мое отношение к великому князю и его отношение ко мне, они решили обратиться к моему содействию.
После того как советская власть объявила свою программу, упразднявшую религию, семью, почитание родителей и старших и другие основы, на которых до того времени держалась челове-
497
ческая жизнь, а к комитетам рабочих и солдатских депутатов присоединилось много лиц случайных, невежественных, злобных, аморальных, многие из самых прогрессивных противников прежней власти отстранились от нее. Как уже сказано выше, я едва не погиб от ее палачей только потому, что я в старой России занимал высокую должность. Понятно, я не мог быть поклонником ее. Когда Ярошинский, Пильц и Никольский обратились ко мне с просьбою отправиться в Крым в Дюльбер, где тогда проживал великий князь, я согласился.
Только я собрался в путь, как в Киев прибыл бывший член Государственного Совета Филипп Антонович Иванов с приглашением великого князя, узнавшего, что я в Киеве, чтобы я немедленно с Ивановым прибыл к нему в Дюльбер. 2 ноября в штатском костюме с паспортом «киевского дворянина Г.И. Шавельского» я отправился с Ф.А. Ивановым в путь чрез Одессу и Ялту135.
В Дюльбер я прибыл 6 ноября, в день рождения великого князя. Только что кончился завтрак с множеством гостей, главным образом офицеров, накануне по приказанию генерала Деникина прибывших в Дюльбер для охраны великого князя. Когда доложили великому князю о моем приезде, он стремглав выбежал ко мне и со слезами повис у меня на шее. То же и великий князь Петр Николаевич. Встреча наша была трогательнейшей. Тотчас великий князь увел меня в отдельную комнату, где в интимной беседе мы провели около получаса. Наша беседа была прервана приездом императрицы Марии Феодоровны, прибывшей поздравить великого князя с его праздником.
Вместо четырех дней, как предполагалось, великий князь задержал меня у себя шесть дней. Во все эти дни настроение в великокняжеской семье было приподнятым. Все, а в особенности братья-князья и их жены, с нетерпением ждали разрешения в Яссах вопроса, ждали, что в ответ Александр Васильевич Кривошеин, возглавлявший Русские партии в Яссах на совещании, привезет благоприятное для великого князя решение. При всем умении скрывать свои мысли великие князья и княгини, как и их чада, не могли скрыть, что им очень хочется увидеть великого князя возглавляющим освободительное движение. Особенно это было заметно у младших особ этой семьи. Наиболее спокоен был князь Роман Петрович. Но герцог Сергей Георгиевич Лейхтенбергский (пасынок великого князя Николая Николаевича) и отчасти граф Тышкевич (женатый на дочери великой княгини Анастасии Николаевны) не умели скрыть своего настроения. Сергей Георгиевич уже вел интригу против Романа Петровича как естественного наследника при удавшейся комбинации. Еще более он вел интригу против своей тетки великой княгини Милицы Николаевны, которая мечтала о короне на голове своего сына Романа.
498
Духовная атмосфера Дюльбера поразила меня. Сам великий князь Николай Николаевич выглядел бодро. После долгого сидения под властью большевиков 6 ноября он в первый раз надел военную форму. Политически он возмужал. Пережитые ужасы не вызвали в нем никакого озлобления и не подорвали любви к народу. Он стал либеральнее. Но имелся и минус.
Великий князь Николай Николаевич всегда был склонен к мистицизму. Под влиянием же последних переживаний его мистическое настроение еще более усилилось. Чем для мистически настроенной царицы был Распутин, тем теперь стал для великого князя Николая Николаевича живший со своей семьей на полном содержании у последнего капитан 1-го ранга А.А. Свечин, женатый на дочери адмирала Чухнина. Мистик, а может быть, и ханжа, он после пережитых при большевиках в Севастополе ужасов впал в крайнее суеверие и кликушество. Во всем он искал знамений и чудес и эти знамения старался навязывать каждому встречному. В данное время он находился под обаянием какой-то расслабленной. лежавшей в Ялте матушки Евгении, все время пророчествовавшей, и одного иеромонаха Георгиевского монастыря, удивлявшего одних своими пророчествами, других — своими чудачествами.
Со Свечиным познакомил великого князя Сергей Георгиевич Лейхтенбергский, сослуживец Свечина. Мистик великий князь сразу подпал под влияние Свечина. Последний сумел зачаровать великого князя пророчествами матушки Евгении, вещавшей о близко ожидающей великого князя роли спасителя России и в экстазе чуть ли не видевшей его уже с венцом на голове.
Как только я прибыл в Дюльбер, мой старый приятель по Ставке в Барановичах доктор Б.З. Малама ознакомил меня с настроением в великокняжеской семье и с ролью Свечина. В первый же вечер великий князь и Свечин сами выдали себя. Вечером после обеда и кофе великий князь пригласил меня в кабинет. Сначала мы говорили об общих делах, вспоминали прошлое. Но скоро пришел Свечин, и беседа наша сразу приняла особый характер. Великий князь с экзальтацией начал мне рассказывать, как Господь чрез дивную матушку Евгению открывает о нем Свою волю, коей он не может противиться, но должен подчиниться, раз она узнается из такого высокого источника, как обладающая даром прозрения матушка. Свечин вставлял свои замечания, дополнявшие рассказ великого князя. Я слушал этот бред, стиснув зубы, но по временам не выдерживал и охлаждал увлекавшихся, советуя не искушать Господа, не требовать знамений и чудес, не верить слепо каждому пророчеству, ибо оно может быть от человека, а не от Бога, и ждать одного знамения — волеизъявления тех, кто ныне берется спасать Россию, и, если они позовут, идти, надеясь, что это глас Божий.
499
Мои замечания не понравились моим собеседникам. Великий князь понял, что его излияния не встречают во мне сочувствия, быстро переменил разговор и скоро предложил мне идти спать, так как я устал с дороги. А Свечин на другой день обмолвился, что я более похож на протестантского пастора, чем на православного священника.
Ошеломленным ушел я от великого князя. Выслушанные откровения произвели на меня потрясающее впечатление. Новой распутинщиной повеяло от них. Разве не на почве крайнего мистицизма разрослась ужасная распутинская история? А чем она кончилась? И теперь с такого же мистицизма хотят начать строительство новой России и у матушек Евгений, подозрительного качества иеромонахов и сумасшедших Свечиных ищут указаний и наставлений. Как в бреду, я валялся в постели и только к утру смог уснуть. Ни великий князь, ни Свечин больше не заводили разговора на прежнюю тему, очевидно, признав это бесполезным. Но я сам решил поговорить с великим князем по поводу выслушанного мною.
Прогостив 4 дня, я хотел отправиться в обратный путь, но великий князь задержал меня. Причина была ясна для меня. Великий князь с нетерпением ждал приезда А. В. Кривошеина, участника Ясского совещания, надеясь, что тот привезет ему приглашение стать во главе войск Добровольческой армии, Украины и Дона. Конечно, тотчас последовало бы согласие, и Великий князь пригласил бы меня остаться при нем. В приезд А. В. Кривошеина все так верили, что во дворце шли уже разговоры, кому из князей ехать с великим князем Николаем Николаевичем, и некоторые опасались, как бы и великие княгини не поехали с ним. И тому подобное. Но Кривошеин не ехал. На шестые сутки я решил уехать, но не иначе как предварительно переговорив по душам с великим князем.
12 ноября после обеда я попросил великого князя уделить мне несколько минут. Он тотчас пригласил меня в кабинет. Кроме нас двоих там никого не было. Я сказал ему приблизительно следующее: «Если бы вы не знали меня, не знали, что я не стану говорить неправду, и если бы я не любил вас и не дорожил вами, я не сказал бы вам того, что сейчас скажу, ибо знаю, что оно не будет приятно для вас. Но вы должны знать мое мнение. В вашем доме творится что-то неладное. Вы знаете мой взгляд на религию: мы должны верить в Бога и надеяться на Него, но мы не должны искушать Его. Крайний мистицизм — болезненное чувство, а не религия, и когда люди очертя голову погружаются в него, нельзя ждать добра. Вы помните первый вечер — Ваш и Свечина разговор о знамениях, пророчествах, чудесах и прочее? На меня он произвел потрясающее впечатление. Вы должны помнить, что с мистицизма началась распутинская история, что через
500
ваш дом вошел в царскую семью Распутин! Вы знаете, к чему привела распутинщина! Наше общество еще не успело забыть распутинищины, и вдруг оно услышит, что в вашем доме, при вашем участии начинается нечто подобное. В вас очень многие верят, многие на вас надеются, но тогда они отшатнутся от вас» И так далее. Поблагодарив за откровенность, великий князь начал уверять меня, что дело обстоит не так страшно, что я вынес неверное впечатление. Я все же просил его отстранить от себя Свечина, человека доброго, но болезненно настроенного и своею близостью и ночными посещениями смущающего многих как из окружающих великого князя, так и прибывших для охраны офицеров. Великий князь обещал мне.
Когда, распрощавшись с великим князем и его присными, я ушел в свою комнату, ко мне зашел доктор Малама и вручил от великого князя пакет с шестью пятисотрублевками, заявив при этом, что я жестоко обижу великого князя, если не возьму их. Все же я отправился к великому князю и стал просить его взять деньги обратно. «Голубчик, —ласково сказал великий князь, —вы же нуждаетесь, а для меня это капля в море — в банке у меня 200 тысяч рублей. Я вас очень прошу взять — разочтемся. Вы не это для меня делали». Я вынужден был взять. Они и теперь хранятся у меня, ни одной копейки из них я не израсходовал.
За время гостевания у великих князей я успел побывать у императрицы Марии Феодоровны, у великого князя Александра Михайловича и у великой княгини Ольги Александровны.
Императрица прислала за мною пару своих лошадей. Я просидел у нее в Хараксе около часу. Была очень ласкова, внимательна; о государе говорила: «Бедный мой сын», но верила, что он жив; несколько раз с насмешкой отозвалась об увлечениях императрицы Александры Феодоровны разными юродивыми и, между прочим, дивеевской Пашей, произведшей на нее впечатление грязной, злой, сумасшедшей бабы.
Великий князь Александр Михайлович, живя в Ай-Тодоре, весь отдался виноделию и, как рассказывали, в один год выручил около двух миллионов рублей.
Великая княгиня Ольга Александровна со своим мужем жила в маленьком домике в Хараксе чрезвычайно просто, всецело посвятив себя семье: сама нянчила сына, сама и стряпала. Опростилась до nec plus ultra. Меня приняла запросто, угощала кофеем с печеньями собственного ее приготовления. И раньше мало было в ней царственного, а теперь и помину о нем не осталось.
13 ноября я выехал из Дюльбера.
501
XXXI. В Добровольческой армии
Едучи в Дюльбер, я 5 ноября отправил генералу Лукомскому телеграмму: «Примите в армию хоть солдатом». Теперь я хотел проехать в Киев, чтобы там ждать ответа. По частным слухам, довольно достоверным, в Киев должна была прибыть депутация, чтобы пригласить меня в Добровольческую армию. От Ялты до Севастополя я проехал на автомобиле, заплатив за место 300 рублей, а из Севастополя, не надеясь дождаться парохода, направился поездом на Харьков. Путь был не безопасный, ибо около г. Александровска оперировала шайка Махно, учинявшая невероятные зверства. До Харькова я добрался благополучно, но дальше на Киев не смог двинуться, так как Харьков уже был в руках петлюровцев и путь на Киев отрезан. Просидев в Харькове несколько дней и потеряв всякую надежду пробраться в Киев, я двинулся на Новочеркасск, выехав, кажется, 20 ноября. Поезд, с которым я выехал, оказался последним поездом, вышедшим из Харькова в Ростов. Следующие поезда с полпути возвращались в Харьков, а нас лишь продержали 8 часов на одной из станций. В Новочеркасске я задержался на несколько дней у своего приятеля В.К.С., а 25-го утром выехал в Екатеринодар, прибыв туда 26-го утром. Оставив вещи на вокзале, я пешком отправился в собор, где должна была идти парадная служба по случаю Георгиевского праздника и где я надеялся найти многих своих знакомых.
Я не ошибся. Около собора стояли войска. Собор был наполнен военными. Пели «Херувимскую». Трудно передать чувства, охватившие меня, когда я увидел генералов Деникина, Драгомирова, Романовского, Лукомского и многих других, с которыми меня связывала служба в царской армии. Я не смог сдержать слез. Как ни странен был мой вид — я был коротко острижен, в потрепанной рясе, — но меня узнали. Комендант Ставки генерал Белоусов, почтительно поздоровавшись, предложил мне пройти дальше. Я отказался. Ко мне то и дело подходили генералы, полковники. Я был для них как бы выходцем с того света, как и они для меня. Служил штабной священник протоиерей Д. Вардиев, а на молебен вышел епископ Иоанн, сказавший нескладную, бессвязную речь о геройстве. Во время причастного пения ко мне подошел начальник штаба генерал И.П. Романовский, мой старый добрый знакомый, и сердечно расцеловался со мной. «Вы получили наши телеграммы?» — спросил он меня. «Нет», — ответил я. «А мы три телеграммы послали в Киев, приглашая вас к себе». После молебна я подошел к генералу А.И. Деникину. Он также расцеловался со мной, сказав при этом: «Поздравляю вас, протопресвитер Добровольческой армии и флота!» Генерал Драгомиров и Лукомский также приветливо встретили меня. Утром 27 ноября генерал Де-
502
никин подписал приказ, коим велено мне вступить в должность протопресвитера военного и морского духовенства. В этот же день я представился генералу Деникину в его квартире. Приветливо он встретил меня. Помню его слова: «Вам я отдаю все духовное дело, оставляя себе земное, и в ваше дело не намерен вмешиваться». Я вступил в должность. В первое же воскресенье (3 декабря) я служил литургию и молебен о даровании победы. На молебен явились генерал Деникин и все старшие чины.
Прямого дела по моей должности было очень мало. Число священников в армии не превышало пятидесяти. Ездить по фронту не представлялось никакой возможности, так как части были очень разбросаны и раздроблены, но косвенного дела оказалось уйма. С одной стороны, я в Добровольческой армии стал единственной инстанцией, которую знали, с которой считались и к которой обращались со всеми недоразумениями, сомнениями, неурядицами, касавшимися церковного дела. С другой стороны, моя прежняя деятельность была известна и общественным кругам, которые теперь тоже старалась втянуть меня в свое дело. Тогдашний Екатеринодар уже успел собрать стекавшихся отовсюду, как в шутку тогда называли, «недорезанных буржуев». Образовались тут разные политические группы-кружки — от кадетов до крайних правых. И так как Добровольческая армия тогда еще не выявила своего политического лица, то каждая группа лелеяла мысль, что именно она может занять господствующее положение.
Очень скоро по прибытии в Екатеринодар я был приглашен на «учредительное собрание» одною группою, как я потом разглядел, крайних правых. В этой группе роль заправил разыгрывали два молодых человека: капитан Хитрово и другой штабс-капитан, оба с очень подозрительной репутацией, как многие отзывались о них. Среди участников были два брата генерал-лейтенанты Карцевы, полковник Кармалин, овцевод Бабкин и другие. Имелось в виду образовать Русскую государственную партию. Прислушавшись к их разговорам, я понял, что у них вся государственность сводится к восстановлению всех помещичьих прав и сословных привилегий. На второе заседание я не пошел, а на первом сказал им: «Затеваете вы, господа, безнадежное дело: не течет река обратно, не вернут, что невозвратно». Мое замечание обидело заправил и восстановило их против меня. Поддержал меня только один из участников, генерал Лёвшин, бывший командир лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Скоро я примкнул к другой организации — к Обществу государственного объединения, избравшему меня членом своего Совета.
Приглядевшись к настроению и поведению собравшейся в Екатеринодаре интеллигенции, я вынес прочное убеждение: ничему она не научилась. Все происшедшее очень отразилось на ее горбе и кармане: прежние богачи стали нищими и те, коих рань-
503
ше не вмещали дворцы и не могло нарядить никакое обилие одежды, теперь зачастую жили в подвалах и ходили почти в лохмотьях, но сердца и умы их остались прежними. Революция, по их мнению, это бунт, а задача «государственной партии» — вернуть пострадавшим благоденственное и мирное житие, достойно наказав при этом бунтовщиков. Перестройка, обновление жизни, устранение накопившейся в прежнее время гнили, пересмотр жизненных норм, порядков государственных и тому подобное — необходимость всего этого только очень немногими чувствовалась, а большинством или ставилась под подозрение, или совсем отрицалась.
Одновременно с этим политиканство работало вовсю. Все, кому было что и кому было нечего делать, обсуждали и критиковали стратегию и политику, причем каждый хотел, чтоб Деникин, Драгомиров и другие, стоящие у власти, мыслили и поступали так, как ему казалось лучшим. Драгомиров был забросан проектами, как надо устраивать Россию. В Екатеринодаре шаталось без дела множество генералов, старших Деникина по службе, и большинство его бывших сотрудников. Каждый из них считал, что он заслуженнее и потому не хуже, умнее Деникина. Это еще более усиливало и без того сложный и бурный аппарат этой говорильни, приносившей много зла и едва ли дававшей какие-либо добрые плоды.
Насколько я разобрался в отношениях старших чинов Добровольческой армии между собою, они были таковы. Наибольшим влиянием на генерала Деникина пользовался начальник штаба генерал-лейтенант И.П. Романовский, в свою очередь очень прислушивавшийся к кадетам, среди которых первую роль играли Николай Иванович Астров и Михаил Михайлович Федоров. Драгомиров и Лукомский боялись влияния на Романовского кадетов и не одобряли влияния последнего на Деникина. Лукомский прямо говорил про себя, что он не в чести у главнокомандующего, который считает его слишком правым.
В Особом совещании, своего рода Госсовете при генерале Деникине, главную роль играли кадеты благодаря своей сплоченности и ловкости. Как я узнал после, генерал Романовский на поставленный ему вопрос, почему он с кадетами, ответил: «Да, я прислушиваюсь к голосу кадетов и пользуюсь ими, но кто же в этом виноват? Когда нам нужна была поддержка, кто ее нам оказал? И правые, и левые только травили нас. Кадеты же были с нами. Я знаю недостатки кадетской партии, я сам совсем не кадет, но в данную пору кадетская партия наиболее государственно мыслит, и мы не можем не пользоваться ею».
К сожалению, надо сказать, что ни в светских, ни в военных кругах генерал Деникин особой любовью не пользовался. Кроме его замкнутости этому в сильной степени способствовало
504
следующее обстоятельство. И офицерство, и все чины Добровольческой армии, и сам генерал Деникин влачили нищенское существование. Жизнь вздорожала, ценность денег упала, и требовались для приличного существования большие оклады. Кубанский атаман в конце 1918 г. получал 5 тысяч рублей в месяц при всем готовом, а генерал Деникин в это самое время имел тысячу с небольшим в месяц без всего готового. Его помощники — еще меньше. Чиновники и офицеры получали крохи. Нужда всюду остро заявляла о себе. В феврале 1919 г. жена генерала Романовского говорила мне: «Вот отнесу серебряный чайник, продам его, а потом не знаю, как будем жить». Жена генерала Лукомского терялась в догадках, где добыть денег, чтобы сшить новый костюм сыну, который вырос из старого. Сам генерал Деникин летом 1919 г. ходил в теплой черкеске. Когда его спросили, почему он это делает, он ответил: «Штаны последние изорвались, а летняя рубашка не может прикрыть их». Все обвиняли генерала Деникина в скупости. Между тем скупость Деникина вызывалась его поразительной честностью и опасением, как бы потом не обвинили его в расточительности. Но толпа видела крохотные оклады, особенно заметные при сравнении их с донскими и кубанскими окладами, испытывала нужду и не замечала чудной души, прекрасных порывов, кристаллической честности Деникина. Кроме того, к нему, солдату, ранее стоявшему далеко от государственных дел и теперь сразу столкнувшемуся со всеми областями и отраслями государственной жизни, предъявляли самые строгие требования: чтобы он был в курсе всего и всегда принимал безошибочные решения. Вот вследствие этого все кому не лень критиковали Деникина. Одни вздыхали по Корнилову, другие тосковали по Алексееву, третьи, как генерал Глеб Михайлович Ванновский, всех ругали, очевидно не договаривая, что они устроили бы все, если б дали им всю власть; четвертые указывали на Колчака: его бы, мол, сюда! А когда у нас начались неудачи, тогда все заговорили: «Вот кто спасет Россию! Нашему ж теляти волка не поймати. У нас ничего не выйдет. Помог бы хотя Бог отбиться, а то припрут большевики к морю, куда тогда денешься?» И был момент, когда многие бросились изучать карту: куда и как бежать? От желающих же пробраться к Колчаку отбою не было.
Несомненно, все эти толки и пересуды доходили до Деникина и, конечно, не могли радовать его: страдал он от своего тыла не меньше, чем от неприятеля. Тыл всегда один и тот же: малодушный, трусливый, корыстный и завистливый, жалкий фразер и сплетник. Все это, однако, не мешало Деникину оставаться полным распорядителем судеб территории, занятой его войсками. Диктаторская власть находилась в его руках. Особое совещание фактически было только совещательным органом при нем. Окончательные решения принимались им.
505
XXXII. Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее церковное управление
Как я уже заметил, высшей церковной власти в крае не было. Связь с Патриархом порвалась. Каждая епархия жила своею жизнью. Вопросы, превышающие компетенцию епархиальной власти, или решались на свой страх епископами, или оставлялись без разрешения. Некоторые церковные вопросы восходили до Деникина. Тогда спрашивали мое мнение. Я стал юрисконсультом по всем духовным делам. Получилось странное явление: огромная территория, почти весь юго-восток России с несколькими епархиями, оказалась без высшей церковной власти, которая одна могла бы и направлять, и исправлять церковную жизнь. Необходимость ее была очевидна. Но одни из архиереев не замечали такой необходимости, а другие даже были довольны тем, что они теперь полновластные, никому не подчиненные владыки. Я решил приложить все усилия, чтобы положить конец этой ненормальности. В начале февраля 1919 г. я доложил Деникину о необходимости сорганизовать высшую церковную власть. В конце февраля мне удалось убедить его. Кажется, 2 марта было подписано Деникиным письмо на имя Донского архиепископа Митрофана, которого Деникин просил созвать совещание из епископов территории и членов епархиальных советов — по два от каждой епархии. Одновременно с этим Деникин послал телеграмму Одесскому митрополиту Платону, приглашая его прибыть в Новочеркасск на совещание. Письмо архиепископу Митрофану было послано почтой, а я 3 марта выехал в Новочеркасск, чтобы убедить архиепископа Митрофана в необходимости такого совещания. Я опередил письмо. В личной беседе со мной архиепископ Митрофан к идее совещания отнесся очень сочувственно. Мы назначили 20 марта днем созыва совещания. Я уехал уверенным, что моя миссия удалась.
Между тем по странной причине посланная 3 марта бумага Деникина пришла в Новочеркасск только 14-го и вместо согласия на созыв совещания Деникин получил от архиепископа Митрофана сообщение, что 20 марта совещание не может быть созвано за поздним получением бумаги и его надо отложить до Фоминой недели. Я же по возвращении из Новочеркасска с согласия Деникина сообщил архиепископу Митрофану, что кроме указанных в бумаге от 2 марта лиц следует вызвать на совещание еще всех пребывающих в Одессе архиереев и членов Всероссийского церковного Собора, находящихся на территории, занятой Добровольческой армией. Я был убежден, что и тех, и других окажется не так уж много, а авторитет совещания от участия их Увеличится. Архиепископа Митрофана увеличение членов совещания испугало: он решил, что может съехаться до 200 членов
506
(по-моему, их не могло набраться более 60). А тут еще начались сторонние влияния. На архиепископа Митрофана в это время сильно влиял архимандрит Григорий. Это влияние объясняли тем, что архимандрит Григорий помог единственному сыну архиепископа Митрофана выбраться из Советской России. По характеристике газеты «Великая Россия», архимандрит Григорий был «известный спекулянт по вину и сахару, предавший своего друга протоиерея Восторгова и миссионера Варжанского». Это же я слышал от митрополита Платона и Таврического архиепископа Димитрия. Некоторое время архимандрит Григорий служил в армии под моим начальством. Я вынес убеждение, что это человек низкий, нахальный, продажный, беспринципный. В данное время он занимал должность ректора Донской духовной семинарии. В начале марта архимандрит Григорий лебезил передо мной, надеясь при моей помощи устроить какие-то свои делишки, и тогда он доказывал архиепископу Митрофану необходимость совещания. Когда же поддержки с моей стороны в устройстве его дел он не встретил, он сразу стал противником совещания.
После Пасхи архиепископ Митрофан известил генерала Деникина, что на Фоминой неделе совещание не может быть созвано, так как в Новочеркасске свирепствует тиф и нет свободных помещений для членов совещания, и просил отложить созыв совещания на неопределенное время — ad calendas. Все мое начинание, казалось, рухнуло. Случай поправил дело.
Пала Одесса. Вслед за этим потянулись в Екатеринодар архиереи, спасая животы свои. Приехал Одесский митрополит Платон, а раньше него — Димитрий Таврический, Агапит Екатеринославский и пытавшийся пробраться на восток Гавриил Челябинский. Решив использовать митрополита Платона, я пригласил его на одно из заседаний Церковно-просветительного отдела совета Государственного объединения.
26 апреля состоялось это заседание в помещении, предоставленном Кубанским епископом Иоанном. Кроме митрополита Платона в нем участвововали архиепископы: Димитрий и Агапит, епископ Иоанн, профессор Петроградской духовной академии протоиерей А.П. Рождественский: члены Всероссийского Собора: священник Г.П. Ломако, князь Е.Н. Трубецкой, А.И. Ивановский и много других духовных и штатских лиц. Сюда же затесался пресловутый В.М. Скворцов, который и секретарствовал. Я кратко изложил историю попыток образовать высшую церковную власть и необходимость такой власти, а митрополит Платон предложил созвать Собор для учреждения такой власти. Собрание приняло предложения: 1) от имени этого собрания просить старейшего Ставропольского архиепископа Агафодора созвать в г. Ставрополе Поместный Собор; 2) Собор этот составить из всех
507
находящихся на территории Добровольческой армии епископов и членов Всероссийского Церковного Собора, присоединив к ним по 4 человека от каждого епархиального совета как уже выбранных епархиями для вершения церковных дел. Последнее было сделано, чтобы не производить новых сложных по процедуре и затяжных выборов: 3) немедленно командировать в г. Ставрополь архиепископа Димитрия, меня и графа В.В. Мусина-Пушкина для переговоров с архиепископом Агафодором о созыве Собора: 4) просить главнокомандующего ассигновать на расходы 50 тысяч рублей.
1 мая мы выехали в Ставрополь и прибыли туда в 6 часов вечера. Я хорошо знал архиепископа Агафодора по Московскому Собору. Тогда он поражал своей беспомощностью: его водили, ему подсказывали, за него решали. Все его желания и заботы тогда сводились к одному: как бы получить белый митрополичий клобук. Однажды и мне предложили подписать лист, в котором было изложено заявление группы членов Собора о необходимости ввиду заслуг и продолжительной службы архиепископа Агафодора возвести его в сан митрополита. Я ответил, что с удовольствием дам свою подпись, если к этому заявлению будет приложено другое — прошение архиепископа Агафодора об увольнении его на покой. Так из этого листа ничего и не вышло.
Предупрежденный моей телеграммой о цели нашего приезда, архиепископ Агафодор принял нас как милый, гостеприимный хозяин: для встречи нас выслал на вокзал своего викария епископа Михаила и эконома иеромонаха Серафима, угощал по-архиерейски. Ужинать с ним было легко и приятно, беседовать же о деле куда труднее. Когда мы изложили ему свою просьбу, он запротестовал: нельзя открывать Собор, не снесшись с Патриархом, надо сначала с ним снестись. Мы объяснили ему, что потому-то Собор и открывается, что нельзя сноситься с Патриархом, что Патриарх ничего не будет иметь против этого доброго и необходимого дела. В конце концов он согласился. Чтобы старец не передумал или не переубедили его, мы сейчас же принялись за писанье бумаг главнокомандующему и архиереям с целью тут же, немедленно заставить старца подписать их и отсюда же разослать. Положится на слово старца нельзя было: после Московского Собора он еще более одряхлел, плохо соображал, все путал, забывал. Сидя за чаем, он серьезно спросил меня: «А К. Победоносцев († в 1906 г.) помер?» «Умер, владыка, умер, давно умер», — ответил я. «А-а, помер!... Хороший был человек. Царство ему Небесное!» — перекрестился архиепископ136.
Когда на следующий день я стал читать написанные бумаги архиепископу Агафодору, он с удивлением начал спрашивать меня: «Разве надо собирать Собор? А как же без благословения Патриарха?» — и тому подобное. Словом, за ночь все было забыто
508
или перепутано. Пришлось убеждать снова, и, слава Богу, опять удалось убедить. Бумаги были подписаны (Собор назначен на 18 мая), и большую часть их я взял с собою, чтобы разослать из ставки, другие тут же отправили на почту. В 2 часа дня мы выехали из Ставрополя.
Сейчас же, по возвращении нашем в Екатеринодар, начала работу под моим председательством Предсоборная комиссия. Ее задачей было; подготовить весь материал для соборной работы, наметить вопросы, составить такой план, чтобы Собор мог выполнить свою задачу в течение шести дней, с 19 по 24 мая.
Только комиссия начала свою работу, как я получил от начальника штаба телеграмму: «Главнокомандующий согласно ходатайству архиепископа Агафодора ввиду некоторых затруднений приказал приостановить созыв Собора». Потом выяснилось, что приближенные Агафодора, такие как архимандрит Антоний (Марченко) и другие, внушили ему, что созыв Собора вызовет гнев Патриарха, что можно обойтись и без Собора. К счастью, нашлись и другого рода советники, как ректор семинарии протоиерей Н. Иванов и другие, которые разъяснили ему всю неосновательность опасений и все неудобство отмены решенного. после чего он телеграфировал мне: «Препятствия к созыву Собора устранены. Собор состоится».
Предсоборная комиссия137 работала очень усердно и успела подготовить вопросы: о порядке соборных работ, о Высшем церковном управлении на юго-востоке России; об организации прихода, о духовно-учебных заведениях. Одни из вопросов были разработаны ею детально, другие — в общих чертах.
17 мая я выехал на Собор, чтобы, заблаговременно прибыв, наладить открытие Собора. На станции Кавказской я встретился с едущими на Собор донцами во главе с архиепископом Митрофаном и его викарием епископом Гермогеном. Я неосторожно обмолвился по поводу их промаха, выразившегося в их отказе устроить Собор у себя и приведшего к тому, что честь открытия Собора упадет теперь на долю Ставропольского архиепископа. А могла бы она принадлежать донцам. Мой укор сильно задел представителей Всевеликого Донского войска. Побеседовавши дальше с ними о Соборе, я ужаснулся: они ехали в Ставрополь с желанием провалить Собор и не допустить организации высшей церковной власти, по их разумению, совеем ненужной. Темперамент толкал меня по адресу нежелания их понять очевидное, наговорить им неприятных слов, но благоразумие помогло мне соблюсти безупречную корректность, чтобы не ухудшить дела. Особенным упрямством и противодействием начатому делу заявил себя новоиспеченный протоиерей Василий Чернявский, «донец» больше всех настоящих донцов. Мой земляк (по Витебской губернии) и однокашник по семинарии, он всегда отличался не
509
столько умом, сколько лукавством. Директор гимназии, в которой Чернявский законоучительствовал, однажды сказал ему: «Лицо у тебя, о. Василий, Христово, а душа Иудина». Чернявский был сильно настроен против меня, так как в марте в Новочеркасске я основательно отчитал его. Почти всю дорогу от Кавказской до Ставрополя я просидел в вагоне донцов и вышел оттуда совсем обескураженным: если и другие приедут с таким же настроением, тогда пропало дело.
Архиепископ Агафодор встретил нас чрезвычайно приветливо. К нему в архиерейский дом мы приехали втроем: архиепископ Митрофан, епископ Гермоген и я. Оставив первых двух, Агафодор повел меня в свою спальню: «Вот это ваша комната, а рядом будет Митрофана». Я отказался занять эту комнату, ссылаясь на то, что архиепископы Димитрий и Агапит, как и другие епископы, которым придется занять худшие комнаты, будут обижаться. «Обижаться? На кого?» — спросил Агафодор. «На вас», —ответил я. «Пусть обижаются! Я хозяин. Кому хочу, тому и даю». Все же я отказался и поселился у ректора семинарии протоиерея Н. Иванова.
Плохо провел я ночь, волнуясь за исход дела и, в частности, за исход совещания, которое 18-го в 10 часов утра должно было состояться в покоях архиепископа для предварительного обсуждения вопросов, связанных с открытием Собора.
С большим смущением шел я на это совещание. Больше всего опасался, что не выдержат мои нервы и наговорю донцам неприятных им слов. На совещании присутствовали архиепископы Агафодор и Митрофан, епископы Макарий Владикавказский, Гермоген и Михаил, представители от епархий Ставропольской, Донской и Владикавказской, а также успевшие прибыть члены Всероссийского Собора в Москве — всего более 20 человек. Более трех часов продолжалось совещание, и я один должен был защищать идею созыва Собора, как и необходимость учреждения единой высшей церковной власти, точно это было мое личное дело и точно шло оно вразрез с интересами остальных присутствующих. Особенно совопросничали донцы: зачем Собор, имеем ли мы право назвать предстоящее собрание Собором: почему «канонически», по выборам, не составили его (как будто мы могли располагать месяцами для подготовки к Собору); как отнесется Патриарх: имеем ли мы право без согласия Патриарха начинать такое дело: зачем высшая власть, когда можно обходиться и без нее? Такими и другими вопросами забросали меня участники совещания, главным образом донцы. Донцам, пожалуй, и излишня была высшая церковная власть: все вопросы они решали на свой страх, а в отношении наград никакая церковная власть не дала бы им того, что они теперь получали. Атаман уже успел разукрасить их наградами: архиепископа Митрофана и епископа Гермогена — орде-
510
ном Александра Невского, архимандрита Григория — Анной I степени, начальницу духовного училища — орденом Святой Екатерины, протоиереев и священников — Владимирами и Аннами и так далее.
Мне пришлось отвечать на вопросы, освещать положение дела, доказывать необходимость единой высшей власти здесь, на юге, в эту исключительную пору, и так далее. Слава Богу, я ни разу не повысил даже голоса, стараясь казаться совершенно спокойным, хотя внутри у меня кипело. В начале 2-го часа мы разошлись, достигнув, наконец, полного единомыслия по всем вопросам. У меня отлегло на душе.
Утром в этот день я застал архиепископа Агафодора сидящим за столом с ректором семинарии протоиереем Н. Ивановым. Пред ними лежала записка, и ректор что-то втолковывал архиепископу. В этом же положении я несколько раз заставал их и после обеда. Оказалось, старец заканчивал составленную ректором речь пред открытием Собора. «Надежен ваш ученик?» — спросил я вечером ректора. «Боюсь, что не выдержит экзамена», — ответил ректор.
Вечером съехались остальные члены Собора, а 19-го открылся Собор. Торжество началось совершением литургии. Служили архиепископы Агафодор, Митрофан и Димитрий, епископы Макарий и Гермоген со множеством духовенства. Агафодор еле двигался, возгласы произносил по подсказке, вообще участие его в богослужении придавало последнему более похоронный, чем торжественный характер. Причастившись, Агафодор сел в кресло. К нему подошел Кубанский епископ Иоанн, 12-й год состоявший его викарием. «А вы кто такой?» — спросил его Агафодор. «Разве не узнаете меня?» — с удивлением спросил Иоанн. «Нет, нет, не узнаю!» — «Я же викарий ваш. Кубанский епископ Иоанн». Агафодор внимательно посмотрел на Иоанна: «Да, да! Похожи, похожи! Здравствуйте!»
После литургии и молебна, совершенных в архиерейской крестовой Андреевской церкви, состоялось открытие Собора. По церемониалу открыть Собор должен был архиепископ Агафодор речью, которую накануне он так усердно заучивал. Но ученье не пошло впрок. Начал он бодро: «Приветствую вас, отцы и братия, приветствую тебя, доблестный рыцарь русской земли» (генерал Деникин с начальником штаба присутствовали тут). Дальше память старцу изменила, и он, беспомощно оглянувшись по сторонам, закончил речь: «Ну что ж, откроем заседание!» Преждевременно и нежданно оборвавшаяся речь председателя всех сбила с толку. Воцарилось молчание... Наконец, подсказали генералу Деникину, что от него ждут слова. Деникин, как всегда ярко и выпукло, в кратких, но сильных выражениях приветствовал Собор. Ему ответил архиепископ Митрофан. Снова должен
511
был сказать несколько слов Агафодор. Но старец все перезабыл. Поднявшись с места, он, как и в первый раз, беспомощно поглядел во все стороны, а потом прошамкал старое: «Ну что ж? Приступим к делу!» И больно, и стыдно было.
Переживший самого себя, совершенно одряхлевший, все забывающий, ни к какой работе не способный, архиепископ Агафодор был характерной фигурой в нашей церковкой жизни старого времени. Когда-то он был очень работоспособен, деятелен, в известном отношении талантлив, но теперь он все перезабыл, все перепутал, не в силах был разобраться в самых простых вещах: помнил и разбирался легко лишь в одном: у него черный клобук, у некоторых белые: он архиепископ, а есть митрополиты... Почему же он не митрополит? Жажда белого клобука у него превышала жажду жизни. Он скорее движущийся труп, чем живой человек. И все же этот одряхлевший ребенок правит большой епархией. И не один он такой в церкви. Такой порядок, такой взгляд установились у нас, что архиерей, до какого беспомощного состояния не дожил бы он, может оставаться на своей кафедре и «управлять» епархией. Жизнь протестовала против таких порядков, предъявляя примеры развала, неустройств, застоя епархиальной жизни от развала и немощности епархиальных владык, но архиерейская благодать как шапка-невидимка скрывала от власть имущих всю ненормальность и весь вред такого положения. Господствовал принцип: владыку, особенно заслуженного, нельзя уволить на покой. Вот и изобиловала наша иерархия такими владыками, которым, по совести, нельзя было бы поручить и прихода. Взять хотя бы юг России. В Ставрополе Агафодор. В Новороссийске епископ Сергий, совсем не преклонный, но сумбурный, безвольный, шальной, не разбирающийся в самых простых вопросах. Сами архиереи зовут его «петух с вырезанными мозгами». В Тифлисе еще более сумбурный, бесхарактерный, недалекий, то жалкий и трусливый, то невпопад решительный и храбрый, бестактный и беспутный Феофилакт. В Екатеринодаре епископ Иоанн, добрый и благочестивый, но тупой и безгласный, ничьим уважением не пользующийся, совершенно неспособный к какой-либо активной деятельности и едва ли чем-либо интересующийся. В обществе он слывет за глупца, у архиереев — за благочестивого святителя. И так далее. И все они, несмотря на очевидную неспособность их управлять епархиями, прочно сидят на своих местах и будут сидеть, пока Господь не уберет их,,,
Кончилась церемониальная часть. После предложенного архиепископом Агафодором завтрака, к которому был приглашен и генерал Деникин со своей свитой и на котором резко выявлялось отсутствие хозяина, Деникин со свитой уехал, а Собор после небольшого перерыва занялся работой. Прежде всего был
512
избран президиум: председателем — архиепископ Митрофан, товарищами председателя — архиепископ Димитрий, я и князь Трубецкой. Архиепископа Агафодора избрали почетным председателем Собора.
Заседания Собора кончились в пятницу, 24 мая. Если принять во внимание, сколько времени отняли у Собора выборы президиума, членов Временного высшего церковного управления, наконец, церемониально-богослужебная часть (в четверг были торжественные богослужения в храмах, на площади, куда сошлись все архиереи и все духовенство, на братской могиле погибших в Гражданской войне), то на собственно соборную работу ушло не более трех дней. В эти три дня Собор сделал чрезвычайно много: рассмотрел и принял проект Временного высшего церковного управления на юго-востоке России138, одобрил ряд соборных воззваний, рассмотрел вопрос о приходе, о духовных учебных заведениях, о церковной дисциплине и прочем. (См. Церковный кубанский вестник, 1919 г. №№ 6-7). Работа шла быстро, продуктивно, несколько спешно, но и эта спешность скорее помогала делу, сдерживая словоизвержения, чем вредила ему.
Соборная работа не обошлась без шероховатостей и курьезов.
1) Между прочим, на Соборе долго рассуждали о разделении епархий: Ставропольской на Ставропольскую и Кубанскую, Екатеринославской — на Екатеринославскую и Ростовскую, Сухумской — на Сухумскую и Черноморскую.
Вопрос о первых двух епархиях, казалось бы. не подлежал спору: и Кубанский (Иоанн), и Ростовский (Арсений) епископы правили викариатствами самостоятельно, при участии своих епархиальных советов. Оставалось только оформить создавшееся положение. Но архиепископ Агафодор в окончательном отделении Кубанской епархии увидел личную обиду, а Екатеринославский Агапит протестовал против отделения Ростова из-за ростовской часовни, приносившей ему от 18 до 20 тысяч рублей в год.
Первое дело все же пошло гладко, если не считать обморока архиепископа Агафодора, когда ему сообщили о разделе его епархии. Все это дело вел председатель Кубанского епархиального совета священник Григорий Ломако, докладывавший Собору сжато, дельно, убедительно. Протест, но очень слабый, был оказан ставропольскими членами Собора. Архиепископ Агафодор на заседании. на котором рассматривалось это дело, не присутствовал139. Очень странно было поведение Кубанского епископа Иоанна: как на пленарных заседаниях, так и в комиссиях он не проронил ни одного слова. И при решении этого вопроса, более всего его касавшегося, он остался верен себе. Я как-то спросил священник Ломако: советовались ли он и другие члены Собора — кубанцы — с епископом Иоанном, когда шел вопрос об отделении епархии: давал ли епископ им какие-либо указания по этому во-
513
просу? «о чем с ним советоваться? Что он мог нам сказать? — с горечью сказал о. Ломако. — Ни мы с ним ничего не говорили, ни он с нами».
Архиепископ Агапит протестовал бурно. Однажды даже заявил, что он не подчинится решению Собора, если таковое состоится. После сильного отпора со стороны некоторых членов Собора он сбавил тон. но продолжал требовать, чтобы и после отделения Ростовской епархии была оставлена за ним «хлебная» ростовская часовня. Епископ Арсений, в свою очередь, протестовал против оставления ростовской часовни за Екатеринославским архиереем. Этот вопрос о доходной часовне отнял у Собора много времени и остался не вполне решенным, так как архиепископ Димитрий, друг Агапита, внес своею рукою в соборный протокол после подписания его председателем и членами президиума добавление, что часовня остается за Екатеринославом. Эта приписка потом послужила предметом долгих суждений и больших споров в ВВЦУ, решившем дело в пользу Ростовского епископа.
Екатеринославо-Ростовское дело неожиданно для всех вызвало другой инцидент. Ни у кого из членов Собора не могло возникнуть вопроса, кому же быть Ростовским епископом. Ростовской епархией уже больше года правил епископ Арсений. Но этот вопрос поднял донской викарий епископ Гермоген. «А кто же будет епископом Ростовской епархии?» — спросил он Собор. Когда же ему ответили, что там уже есть епископ, он, не церемонясь, предъявил свои права: «А я при чем останусь? Мне четыре года тому назад обещана была эта епархия, четыре года ждал я ее. Меня в Ростове знают и любят. Я протестую против оставления там Арсения. Пусть назначат выборы! Я ставлю свою кандидатуру». Такая откровенность на пленарном заседании Собора удивила многих. Заявление Гермогена было оставлено без внимания.
2) Странно вели себя на Соборе донцы. Всякий вопрос общего порядка они старались направить в свою пользу. Когда решался вопрос, где быть ВВЦУ, они категорические заявили, что единственное для него место — Новочеркасск, столица Всевеликого войска Донского и местопребывание Сената, что избрание другого места будет оскорблением для Всевеликого войска Донского. Они даже грозили оставить Собор, если этот вопрос решится не в их пользу. После всеобщего возмущения членов Собора по поводу этой выходки они стали просить войти в их положение: им нельзя будет вернуться на Дон, если они не добьются желанного решения, и, кроме того, донское правительство откажет духовенству в содержании от казны, уже обещанном.
Пока решался этот вопрос, донцы все время заявляли, что только они смогут как следует материально обставить ВВЦУ. И у них, действительно, были большие деньги. Их свечной завод располагал наличностью и материалами по крайней мере на 10 мил-
514
лионов рублей. Когда же вопрос решился не в их пользу и стали изыскивать средства из местных источников на содержание ВВЦУ, донцы заявили, что их епархия ничего не может дать ВВЦУ, ибо не располагает никакими для этого средствами.
Поведение донцов особенно бросалось в глаза при сравнении их с кубанцами. Последние при решении всех вопросов проявляли удивительное спокойствие, бескорыстие, отзывчивость и политическую зрелость. А между тем все донцы, члены Собора, были с высшим образованием, а из кубанцев только двое его имели.
3) Между прочим, на Соборе обсуждался вопрос, предоставлять ли ВВЦУ право награждать архиереев и клириков. Явившиеся на Собор архиепископы Димитрий и Агапит, с бриллиантовыми крестами на клобуках, живо напомнили жаждущим наград о деяниях «Синодов» Киевского и Одесского, последний из которых, кажется, только тем и занимался, что засыпал духовных лиц разными высокими наградами, наградив прежде всего своих членов. Бывший в 1918 г. еще епископом, Агапит теперь стал архиепископом и украсился высокой архиепископской наградой — бриллиантовым крестом на клобуке, хотя тому Синоду не могло не быть известно, что за Агапитом числилось много тяжких прегрешений и вообще авторитет его был очень мал. Чтобы предупредить возможность повторения позорной одесской практики, некоторые члены энергично настаивали: не давать ВВЦУ права награждать, ибо не время теперь думать о наградах. Защитником наград выступил тот же епископ Гермоген. «Как так не награждать? — почти с ужасом воскликнул он. — Я буду говорить о себе. Я уже десять лет епископом. Мои сверстники — архиепископы. А я что же? Так и оставаться мне?» Вопрос был решен так: ВВЦУ может награждать клириков, награждение архиереев оставить до установления связи с Патриархом.
4) Предсоборной комиссией были составлены послания от Собора генералу Деникину, казачьим войскам — Донскому, Кубанскому и Терскому, восточным Патриархам, Папе и архиепископу Кентерберийскому. Собор принял все послания, кроме трех: войску Донскому и инославным. Первое было опротестовано донцами, потребовавшими составления нового послания, ибо представленное недостаточно восхваляло войско. А послания к инославным были отвергнуты, ибо «не к лицу Собору якшаться с еретиками».
5) Много шуму внес в Собор священник В. Востоков, начавший обвинять и духовенство, и Собор, и даже Патриарха в ничегонеделании и теплохладности. Он настаивал, чтобы церковь выступила открыто и резко против жидов и масонов с лозунгом: «За веру и царя!» Этот несомненно одаренный словом иерей всегда отличался бестактностью, резкостью, часто неуместною прямолинейностью (ибо она у него не сообразовалась ни с чем: ни с моментом
515
времени, ни с условиями и требованиями жизни), теперь же говорил особенно вызывающе, через головы членов Собора обращаясь к толпе. Его выступление носило митинговый характер и вызвало резкий отпор со стороны князя Е.Н. Трубецкого, архиепископа Димитрия и епископа Михаила, назвавших его клеветником, бунтовщиком, человеконенавистником. Кроме отдельных черносотенных членов. Собор, можно сказать, в полном составе отрицательно отнесся к выходке о. Востокова.
6) Странную роль на Соборе играли два графа: Апраксин (бывший секретарь императрицы Александры Федоровны) и Граббе, изображавшие ревнителей и защитников строгого уставного православия, при решении всех вопросов старавшиеся отыскивать сверхканоническую почву и возмущавшиеся под видом боязни новшеств даже против здравого смысла и очевидной пользы церковной. Последний являлся на вечерние заседания почти всегда пьяным, выступал по всем вопросам, держал себя до крайности развязно, а в пользовании историческими фактами и справками ничего не стеснялся.
Первый собрал около себя значительную партию, которая выставила его кандидатом в члены ВВЦУ. Сам он очень домогался этого звания, однако получил одинаковое число голосов с графом В.В. Мусиным-Пушкиным, хотя последний на Соборе не присутствовал. Предстояла перебаллотировка. Партия Апраксина усилила агитацию. Но один из членов Собора предложил решить дело жребием. Предложение было принято. Вынимал жребий архиепископ Митрофан. Жребий пал на графа Мусина-Пушкина. Апраксин тотчас попросил слова, которое и было ему дано. Осенив себя крестным знамением, он начал: «Господи! Благодарю Тебя, что ты избавил меня от тяжкого жребия, который мог выпасть на мою долю. Я с ужасом думал о возможности быть избранным надело, которое выше моих сил». Вопль Апраксина произвел тяжелое впечатление на большинство соборян. Едва ли кто поверил в искренность его молитвы, ибо все видели, с какими усилиями его партия проводила его в члены ВВЦУ и как он сам волновался во время выборов.
Все эти инциденты не могут, однако, ни умалить произведенной Собором работы, ни отнять у него огромного значения, какое он имел для последующей церковной жизни. В общем, работа на Соборе протекала спокойно, велась энергично, и историк отметит, что Собор в короткий срок разрешил множество вопросов самого разнообразного характера. Собор спокойно обошел все подводные камни и. хотя о. Востоков, злословя, обзывал его в Екатеринодаре «еврейским синедрионом», проявил при общей смуте большое спокойствие, понимание церковных нужд и готовность идти им навстречу. При большем времени и лучших условиях Собор мог бы принять еще большие решения.
516
Номинальному инициатору этого Собора архиепископу Агафодору Собор принес много огорчений. На Соборе оформилось отделение Кубанской епархии от Ставропольской — событие, которого давно уже боялся престарелый, бессознательно цеплявшийся за власть архиепископ. Когда ему сообщили о соборном решении, он упал в обморок, сильно ушибив голову и руку. Два дня после того он почти без движения пролежал в постели. За этим последовали другие огорчения. Он мечтал, что Собор поднесет ему белый клобук. Собор ограничился адресом, а вопрос о белом клобуке отложил до установления связи с Патриархом. Это была ошибка Собора — надо было порадовать старика. Не дождавшись от Собора милости, старец впал в страх, как бы Собор или учрежденное им ВВЦУ не отстранили его по старости от кафедры. Под этим страхом, постоянно мучившим его, он жил все время до самой своей кончины († 18 июня 1919 г.), несомненно ускоренной пережитыми на Соборе волнениями.
Присутствовавший при кончине архиепископа Агафодора протоиерей Кирилл Окиншевич рассказывал мне, что старец умирал спокойно, при полном сознании. Около него в момент смерти находились епископ Михаил и он, протоиерей Окиншевич. Последний, видя, что старец начинает дышать все тяжелее, обратился к епископу Михаилу: «Надо читать отходную, владыка умирает». Умирающий открыл глаза и, уставившись на Окинше- вича, спросил его: «А вам кто это сказал?» Потом снова закрыл глаза, начал еще тяжелее дышать и через несколько минут скончался.
Таким образом, старец-архиепископ сокращением дней своих заплатил за то дело, которое, совершившись помимо его воли, вопреки его желаниям, вне его сознания, вплетет его имя в церковную историю. Историк должен будет отметить, что архиепископ Агафодор созвал южнорусский Собор, давший краю высшую церковную власть, которая отсутствовала после перерыва сношений с Патриархом и которая затем объединила разрозненные части разоренной земли. Историк скажет, что архиепископ Агафодор молитвою и речью открыл Собор и «почетно» возглавлял его. Много, по всей вероятности, он и не сможет сказать, ибо все происходившее до созыва Собора и вызвавшее этот Собор сводилось к разговорам отдельных лиц и частных групп, к кабинетным докладам (главнокомандующему) и не зафиксировано на бумаге. Эра же Соборная начинается приглашениями за подписью архиепископа Агафодора, обращенными к архиепископам, епископам, атаманам и прочим. Таким образом, архиепископ Агафодор в пору полного своего одряхления невзначай, но прочно и почетно попал в историю.
Собор закончил свою работу. Теперь предстояло наладить работу ВВЦУ. На Соборе самый вопрос о бытии ВВЦУ вызвал не-
517
сравненно меньше споров и трении, чем другой попутный вопрос: где быть ВВЦУ? Донцы, упустившие из своих рук честь созыва и приема Собора, решили компенсировать себя за счет ВВЦУ. Плоско, несерьезно, иногда грубо и даже цинично пускались ими в ход все приемы и доводы, что ВВЦУ надлежит быть там, где действует власть Всевеликого войска Донского и где уже восседает Сенат. Собор, однако, понял, что тут донцами руководят только два чувства; мелкое провинциальное честолюбие и желание играть роль в церкви, для чего заблаговременно обеспечить себе митрополию с ее управлением. Собор не попался на их удочку и сделал единственную уступку, сформулировав статью о местопребывании ВВЦУ так: «Местопребывание ВВЦУ определяется самим ВВЦУ по соглашению с главнокомандующим».
Я лично считал весьма важным, чтобы ВВЦУ было там, где главнокомандующий. Это необходимо было для возвышения власти последнего, а следовательно, и для прочности ее. Принятая Собором формула удовлетворяла меня, ибо теперь ясно было, что ВВЦУ будет там. где захочет главнокомандующий. А последнему, если он сам не оценит положения, можно будет подсказать нужное. 26 мая, в Троицын день, после обедни я докладывал генералу Деникину о результатах соборной работы. Он с большим интересом выслушал мой доклад, но посетовал, что Собор скоро закончил занятия. «Ужель ограниченность средств была тому причиной? Мы дали бы вам еще деньжонок», — сказал он. Я успокоил его, сказав, что спешность нисколько не повредила делу. Когда я упомянул о местопребывании ВВЦУ, он спокойно заметил: «Ему надо быть там, где председатель». Я возразил: ВВЦУ надо быть там, где главнокомандующий. Это придаст вес главнокомандующему. Самостийники понимают это и уже старались перетянуть ВВЦУ во Всевеликое войско Донское. «А что такое Всевеликое войско Донское? Что хорошее они сделали?» — спросил, повысив голос, Деникин. «Я знаю, что ничего особого они не сделали. Так не надо же давать им авансы», — ответил я. Потом мы снова заговорили о Соборе. «Слушайте. — уже улыбаясь сказал Деникин. — Разве можно так суесловить? Начали расхваливать меня, что я поднял мысль о Соборе, о созыве его, об учреждении органа высшей церковной власти и прочем. А я-то тут причем, когда все это вы затеяли? Неудобно мне было обличать Собор во лжи, а то обличил бы».
После этой беседы меня очень беспокоил вопрос о местопребывании ВВЦУ. Вдруг сдастся Деникин и согласится с архиепископом Митрофаном, если последний, следуя за своими донцами, станет настаивать на Новочеркасске. Чтобы усилить свою позицию, я переговорил с генералами Драгомировым и Лукомским. Оба они сразу согласились, что ВВЦУ надо быть при главнокомандующем. Драгомиров предложил мне в понедельник,
518
3 июня, накануне приезда в Екатеринодар архиепископа Митрофана. вместе побывать у Деникина и настоять на Екатеринодаре. В понедельник в 12 часов дня я пришел к Деникину, где уже застал Драгомирова, успевшего сделать свой доклад относительно места ВВЦУ. «Ну что ж? Будем стоять на Екатеринодаре?» — спросил меня Деникин. «Непременно. — ответил я. — и не отступим! Сдадутся. А это нужно для вас. для престижа вашей власти, для дела». «Ну. так и будет». — сказал Деникин. После этого мы рассмотрели составленный мною церемониал открытия ВВЦУ. По этому церемониалу во вторник. 4 июня, в 9 часов утра выезжают на вокзал для встречи председателя архиепископа Митрофана прибывающие в Екатеринодар архиереи, члены ВВЦУ. представители Кубанской епархии и генерал Драгомиров. Последний везет архиепископа в войсковой собор, где его встречает духовенство. После соборной встречи все члены ВВЦУ отправляются в покои Кубанского епископа и обсуждают вопрос о местопребывании ВВЦУ. В 12 часов дня все члены ВВЦУ представляются генералу Деникину. 5-го в 10 часов утра открытие ВВЦУ молебствием в Войсковом соборе, на котором присутствуют генерал Деникин, высшие чины штаба и члены Особого Совещания.
За несколько дней перед тем генерал Деникин чествовал обедом приезжего английского генерала. Во время обеда он совершенно неожиданно для всех провозгласил тост за Верховного правителя России адмирала Колчака, которому он подчиняет себя. Тост тем более удивил всех, что бывший недавно победоносным Колчак теперь терпел поражение, когда армия генерала Деникина в это самое время неудержимо неслась вперед. Благородный шаг генерала Деникина неодинаково был встречен присутствовавшими: одни ответили на него дружным «ура», другие же. такие прекрасные люди и добрые воины, как дежурный генерал С.М. Трухачев и личный адъютант Деникина полковник А. Г. Шапрон дю Ларре. увидели в этом акт унижения Добровольческой армии, встали из-за стола и ушли.
Тем удивительнее был шаг Деникина, что раньше все высказались против него: и Особое Совещание, и общественные организации — Совет государственного объединения. Национальный центр и другие. Деникин взял всецело на себя и инициативу и ответственность.
На следующий день по всему городу шли разговоры о тосте Деникина. Одни восторгались Деникиным, другие осуждали его. Я зашел к полковнику Шапрону. Он, оказалось, вернувшись с обеда, подал Деникину докладную записку, в которой просил уволить его от должности личного адъютанта и от службы в Добровольческой армии. Я решительно осудил его поступок, сказав ему, что он не имел права так обижать Деникина, а должен был поддержать Деникина, если бы тот в данном случае и допустил
519
ошибку. По моему же мнению, такой ошибки не сделано. В это время принесли записку Деникина: «Полковник Шапрон по его просьбе освобождается от должности моего личного адъютанта». Шапрон показал мне записку: «Видите, все кончено». «Ничего не кончено. Идите к Деникину и исправляйте дело!» — сказал я. Шапрон остался адъютантом. Если близкие так действовали, то бездельники пустословили, а враги рычали, обвиняя Деникина в превышении власти и прочем. Ему нужна была поддержка. Вот он теперь и говорит мне: «Надо, чтобы архиепископ Митрофан сделал распоряжение о поминовении на богослужениях «благоверного верховного правителя». «Зачем архиепископ Митрофан? Это сделает ВВЦУ», — возразил я. «Это еще лучше», — сказал Деникин.
В 12 часов дня члены ВВЦУ представлялись Деникину, причем был затронут вопрос о местопребывании ВВЦУ. Решили так: постоянное место ВВЦУ — при ставке Деникина, но председатель может назначать заседания и в других местах. Такое решение удовлетворило всех.
Вечером состоялось заседание ВВЦУ, на котором между прочим было постановлено: «Поминать на всех богослужениях во всех церквах после Богохранимой державы Российской благоверного верховного правителя».
5 июня в десять часов утра состоялось открытие ВВЦУ. Рано утром я приказал составить протокол постановления о поминовении имени Колчака, а когда члены ВВЦУ собрались в алтаре, я предложил им подписать его. У председателя же попросил разрешения прочитать этот протокол перед молебном после прочтения акта об учреждении ВВЦУ. Архиепископ Митрофан сначала заупрямился, а потом махнул рукой: «Делайте, если находите нужным!»
В Войсковой собор прибыли к молебну: Деникин, Драгомиров, все высшие чины штаба, все чины Особого Совещания и много народу. Архиереи со множеством духовенства вышли на средину храма, а я с амвона прочитал акт об учреждении ВВЦУ. Архиепископ Митрофан произнес речь, посвященную открытию ВВЦУ, я затем прочитал протокол о поминовении верховного правителя. Никто этого акта не ожидал, и потому получилось потрясающее впечатление. Драгомиров плакал, прослезились и другие. На молебне затем по установленному чину поминали благоверного верховного правителя.
После молебна Деникин говорит мне: «Смотрите ж не сдавайтесь, если самостийники начнут напирать!» «Будьте спокойны! Не сдадимся», — ответил я.
Вечером этого дня в Зимнем театре происходило объединенное заседание общественных организаций: Национального центра (кадеты). Совета государственного объединения и Союза
520
возрождения (социалисты). Выступили ораторы Н.И. Астров, Н.В. Савич и профессор Алексинский. Все эти организации раньше были против признания адмирала Колчака. Теперь же ораторы расхваливали самоотверженный подвиг Деникина. А я радовался, что Церковь опередила все общественные выступления: мы первые поддержали Деникина.
7 июня. В обществе все больше восхваляют шаг Деникина. А.В. Кривошеин (председатель Совета Государственного объединения) сказал Анне Николаевне Алексеевой (вдове генерала М.В. Алексеева): «Отвергши признание Колчака, мы поступили так, как должны были поступить, но и Деникин, оставаясь Деникиным, не мог поступить иначе, чем как он поступил. Мы все преклоняемся пред ним».
XXXIII. Недуги Добровольческой армии
В первый же день своего пребывания в Добровольческой армии я имел интересный разговор в доме генерала Лукомского. Еще в Крыму мне пришлось услышать много нареканий на гвардейцев, бравировавших своим положением и своими монархическими чувствами и сильно возбуждавших против себя и армию, и население. А им-то теперь, в демократическое время, надо было присмиреть и не рыпаться. На мой взгляд, восстановление гвардии было преждевременно и для престижа Добровольческой армии в глазах населения невыгодно. Добровольческая армия должна была быть демократической. К этому надо прибавить, что некоторые новые полки, как Корниловский, Марковский, Алексеевский, имели все основания считать себя по боевой доблести ни в каком случае не ниже гвардии; старый же принцип старшинства полков теперь не принимался во внимание. Я высказал мысль, что восстановление гвардии было большой ошибкой. Но мое мнение было встречено резким протестом. Между тем в марте 1919 г. посетивший меня умный, честный и доблестный полковник лейб-гвардейского Преображенского полка Кутепов без всякого повода с моей стороны повторил мне о гвардии буквально то же самое, что я в ноябре 1918 г. говорил в семье Лукомского, признав восстановление гвардии большой ошибкой.
Второе явление, о котором я еще в Киеве был осведомлен и которое воочию увидел, прибыв в Екатеринодар, это было заносчивое отношение участников Кубанского похода ко всем не участвовавшим в этом походе, непомерные претензии их на исключительные права и преимущества и, наконец, крайняя нетерпимость ко всем, кто так или иначе приобщился к службе у большевиков. В особенности эта нетерпимость проявлялась к лицам в генеральских чинах. Нетерпимость ко всем служившим у боль-
521
шевиков стала своего рода принципом Добровольческой армии. На всех перебежчиков оттуда добровольцы смотрели только с точки зрения своей «чистоты», какою они считали верность союзникам и полную непричастность к службе у большевиков, и совсем забывали о государственной пользе, о пользе своего же дела, которое страшно страдало от такого взгляда. Добровольцы и не хотели понять тех сложных условий, которые заставляли офицеров царской армии служить у большевиков.
С первых же дней своего пребывания в Добровольческой армии я начал внушать и высшим, и низшим добровольцам мысль, что отношение к служившим в Советской России офицерам требует большой осторожности, исключающей всякую нетерпимость, заносчивость, мщение и жестокость. Очень трудно было проводить эту мысль, ибо в армии преобладал взгляд, что всех перебежчиков из России, особенно генералов, надо вешать. И когда генерал Болховитинов не был повешен, а лишь разжалован в рядовые, многие возмущались этим140. Брешь в этом вопросе пробивалась крайне медленно. Мне казалось, что молодежь, занявшая видные места в Добровольческой армии, особенно настойчиво поддерживала взгляд на необходимость самого строгого отношения к прибывающим из Советской России, опасаясь, как бы последние потом не оказались непобедимыми их конкурентами на видные места. Сам Деникин был сторонником жестокого отношения только по своей честности, слишком прямолинейной, не знающей уступок. За все время революции он ни разу не изменил своему солдатскому долгу честно служить Родине, много раз мог поплатиться за это своею жизнью, все время оставался верен своим союзникам и своим сильным, но слишком прямолинейным умом не мог понять и в своем сознании примирить офицерского звания со службой у большевиков.
Почти до самого конца деникинской эпохи отношение главного командования к офицерам, служившим у большевиков, оставалось нетерпимым. При ставке была образована особая комиссия — «болотовская» (председатель ее — генерал Болотов), состоявшая из семи (кажется) генералов, через которую, как чрез чистилище, должны были проходить все перебежчики141. Процедура «очищения» тянулась иногда 2-3-4 месяца, и длительность ее для лиц, не располагавших средствами, а таковых было большинство, была мучительна. Для не смогших реабилитироваться предстоял суд, иногда с предварительным, чрезвычайно унизительным заключением на гауптвахте или в особом помещении, назначенном для таких узников, и, конечно, лишенном самых примитивных удобств. А затем предстоял суд, часто очень немилостивый, иногда кончавшийся для заслуженных генералов разжалованием в рядовые, а то и каторгой. Изменить эту убийственную политику не представлялось никакой возможности, ибо она
522
встречала сочувствие не только у крепко уцепившихся за свои места и боявшихся поверять их, но и вообще на фронте среди участников Кубанского похода, много выстрадавших и, естественно, озлобленных. Ни у тех, ни у других не хватало ни мужества, чтобы забыть о своих правах и по-братски встретить идущих к ним, ни мудрости, чтобы предвидеть все ужасные последствия, к которым должна была привести такая нетерпимость.
Я несколько раз просил генерала Романовского, намекал генералу Деникину о необходимости изменить взгляд на перебежчиков и отношение к ним. Мне отвечали, что негодяев нельзя щадить, что против снисхождений весь фронт и прочее. Зная мое отношение к этому делу, ко мне со всех сторон шли проходившие чрез чистилище, но я был бессилен что-либо для них сделать. Так продолжалось до ноября 1919 г., когда были присуждены к каторге два генерала Генштаба, георгиевские кавалеры: доблестный герой Нароча честный и патриотично настроенный генерал Буров и генерал Котельников: первый — на 4 года, а второй — на 8 лет. Бурова я знал еще по академии Генштаба и после следил за его службой. Пришедши ко мне. Буров как на духу рассказал мне и про свою службу у большевиков (в течение года он сменил у них пятнадцать мест, значит, фактически не служил), и про свое семейное горе: его жена с двумя детьми в это время голодала в Харькове (я читал ее письма), жила в неотапливаемой комнате, с закрытыми ставнями, чтобы теплее было; ели горячее через день: все распродала: исхудала так, что не могла сидеть на деревянном стуле, дети покрылись нарывами. Буров плакал навзрыд, рассказывая про свое горе. Я пошел к Романовскому и представил ему весь ужас их «правосудия», уже давшего результаты: в июле этого года в г. Орле двадцать два офицера Генштаба, служащие у большевиков, обсуждали вопрос, как им быть ввиду установившегося в Добровольческой армии отношения к перебежчикам. И решили: доселе мы играли в поддавки, теперь начнем воевать по совести. Романовский уверял меня, что он по своему мягкосердечию готов всех простить, но фронт против снисхождений. Я настоял, чтобы он просил Деникина. Он обещал. В результате Буров и Котельников были помилованы и для всех других была объявлена амнистия. Но было уже поздно: наши войска, откатываясь назад, подходили к Ростову и Таганрогу.
Возможно, суровое беспощадное отношение к служившим у большевиков ускорило нашу катастрофу. Оно ожесточило тех, кто готов был стать нашими союзниками: более того, заставило их искать спасения не у нас, а у наших противников. Мы не только лишились их помощи, но и приобрели в их лице серьезных врагов.
Другою, уже несомненною причиною наших неудач были развившиеся до больших размеров в Добровольческой армии грабе-
523
жи, взяточничество и казнокрадство. Еще в начале 1919 г. я умолял генерала Романовского обратить внимание на грабежи и прежде всего на их причину. Первой же их причиной была крайняя честность и бережливость генерала Деникина. Он сам довольствовался таким жалованьем, которое не позволяло ему удовлетворять насущные потребности самой скромной жизни. Госпожа Деникина сама стряпала: сам он ходил в залатанных штанах и дырявых сапогах: семья его скудно питалась. Такой же самоотверженной скромности он требовал и от всех добровольцев. Но если главнокомандующий и мог кой-как перебиваться на 1500 рублей в месяц, то семейный офицер никак уж не мог жить на 300-400 рублей в месяц. Я несколько раз доказывал генералу Романовскому (кажется, и Деникину), что такое бережливое отношение к казне до добра не доведет, что содержание офицеров на нищенских окладах будет толкать их на грабежи.
Мне отвечали, что иначе поступить не могут во избежание обвинений в расточительности, да и станков не хватает для печатания денег. Когда же начались грабежи и я обратился с просьбою прекратить их. генерал Романовский ответил мне, что грабежи — единственный стимул для движения казаков вперед: «Запретите грабежи, и их никто не заставит идти вперед». И грабежи, с молчаливого попустительства главного командования, развивались все больше. Некоторые из вождей, такие как кубанский герой генерал Шкуро и донской — генерал Мамонтов, сами показывали пример. О Шкуро открыто все, не исключая самого генерала Деникина, говорили, что он награбил несметное количество денег и драгоценных вещей, во всех городах накупил себе домов, что расточительность его с пьянством и дебоширством перешли все границы. О Мамонтове ходили тоже невероятные слухи. 30 марта 1920 г. мне многое рассказал о Мамонтове генерал-лейтенант Н.Н. Алексеев, в Донской армии бывший командиром корпуса, а пред Великой войной — профессором военной академии, умный и честный человек. В Гражданской войне его корпус действовал рядом с корпусом Мамонтова, и он, следовательно, хорошо знал Мамонтова.
Генерал Алексеев рассказывал мне. что денщик генерала Мамонтова вывез из знаменитого мамонтовского похода «на Москву» 7 миллионов рублей. Сам Мамонтов рассказывал генералу Алексееву, что в Тамбове и в Воронеже он обобрал сейфы. В одном из сейфов он захватил целый ящик архиерейских крестов и панагий, украшенных драгоценными камнями. Этот ящик он передал на хранение своему адъютанту. Когда на другой день Мамонтов попросил адъютанта принести ящик с архиерейскими вещами, чтобы показать их какому-то гостю, адъютант с удивлением ответил: «Какой ящик? Никакого ящика на хранение я не получал». И так и не вернул ящик. «Это совершенно спокойно
524
рассказывал Мамонтов о своем адъютанте, а что этот адъютант рассказывал о Мамонтове, того не передашь», — закончил свой рассказ генерал Алексеев. Но и Шкуро, и Мамонтова награждали, повышали, чествовали, прославляли. Кто ж не знает, с какими овациями встречал Мамонтова Донской Круг. Шкуро — Екатеринодар и так далее.
Вслед за вождями грабили офицеры, казаки, солдаты. За частями тянулись обозы с награбленным добром: казаки и солдаты возвращались домой с мешками, набитыми деньгами и драгоценными вещами и, конечно, разбогатев, не хотели вновь идти воевать. Грабежи стали общим явлением, которого уже никто не скрывал. Священник 2-го конного полка прямо говорил мне в августе 1919 г., что в их полку каждый солдат получает не менее 5 тысяч рублей в месяц (насколько помню, Деникин в это время получал тоже 5 тысяч рублей в месяц) и что надо только в дружбе жить с солдатами и офицерами, чтобы иметь сколько угодно денег. А как грабили, об этом вспоминать страшно... Один офицер рассказывал мне, что в некоем селе у только что разрешившейся от бремени учительницы начальной школы сняли обручальное кольцо и забрали детские распашонки... Приезжавшие с фронта офицеры тратили на кутеж огромные деньги.
А тыл, в свою очередь, не отставал от фронта, изощряясь в спекуляции, которая достигла невероятных размеров и остановить которую не было возможности. Спекулировали даже в Ставке. Комендант главной квартиры полковник Яфимович был отдан под суд за спекуляцию и хищения и был присужден к шести годам каторги. В Комендантском управлении продали 500 тысяч папирос, пожертвованных для армии и сданных Деникиным на хранение в Комендантское управление.
Взяточничество открыто процветало. В декабре 1919 г. ростовские железнодорожники потребовали 30 тысяч рублей за вагон для семейств высших чинов Управления путей сообщения. И последние только тогда получили вагон, когда дали просимую взятку.
Кубанский походный атаман (военный министр) генерал Болховитинов в январе 1920 г. говорил мне: «Я должен ежедневно отправить на фронт два вагона муки. Мерзавцы железнодорожники не дают вагонов без взятки. Нечего делать. Приказал давать по 20 тысяч рублей в день».
Общее развращение дошло до бесстыдства. У большинства как будто мозги и совесть перевернулись. Священник 2-го конного полка Кирилл Желваков, еще молодой человек лет 28, с полным семинарским образованием, был переведен мною по его просьбе в августе 1919 г. в Терский казачий полк. В октябре или ноябре командир 2-го конного полка полковник А. Г. Шапрон доложил мне, что этот пастырь с офицерами лично занимался гра-
525
бежами и награбил более 300 тысяч рублей, которые положены им в банк. Я поручил одному из священников произвести строгое расследование. Моя бумага не дошла ли до следователя, или его расследование затерялось в пути, но ответа я не получил. А события начиная с декабря пошли так головокружительно быстро, что мне было не до Желвакова, благо новых жалоб на него не поступало. 30 марта в Севастополе Желваков явился ко мне. Я предъявил ему обвинение. Свое участие в грабежах он отрицал, но не отрицал того, что у него в полку были большие деньги, только не 300, а 200 с лишком тысяч. На мой вопрос, как он их добыл, он спокойно ответил: «Выиграл в карты у офицеров». И затем, видя мое возмущение, стал спокойно доказывать, что тут нет ничего предосудительного, а лишь чисто семейное дело. Когда же я начал еще более возмущаться, он также спокойно спросил меня; «Да вас-то что удивляет? Размер суммы? У меня теперь есть более 2 миллионов рублей». «Тоже в карты выиграли?» — спросил я, пораженный его цинизмом. «Нет! — ответил он. — Эти деньги я добыл иначе. В июле я взял двухмесячный отпуск, купил в Петровске 2 тысячи пудов керосину по 100 рублей за пуд. Этот керосин отвез в Чутуев и продал там по 800 рублей за пуд».
И потом этот иерей-картежник-спекулянт стал мне доказывать, что и в последней его операции не было ничего предосудительного, и никак не мог понять, что иерей, обыгрывающий своих духовных чад — офицеров, иерей-спекулянт нетерпим в армии. К сожалению, в этот день я сдал управление военным духовенством епископу Вениамину и потому не мог ничего большего сделать, как только выразить свое полное презрение этому субъекту.
Грабежи, спекуляция, нахальство и бесстыдство разложили дух армии. Грабящая армия не армия, а банда. Она не могла не прийти к развалу и поражению.
Наряду с указанными печальными явлениями в интеллигентных кругах наблюдалось легкомысленное отношение к революции с отсутствием желания понять ее и определить свою роль в ней. Пожалуй, большинство интеллигентов смотрели на революцию как на мужицкий хамский бунт, лишивший их благополучия, мирного и безмятежного жития. Этот бунт надо усмирить, бунтовщиков примерно наказать, и все пойдет по-старому. Многие с наслаждением мечтали, как они начнут наводить порядок — поркой, кнутом и нагайкой. А некоторые, по мере продвижения Добровольческих войск на север, устремлялись в свои уже освобожденные имения и там начинали восстанавливать свои права, производя суд и расправу. Серьезного, глубокого взгляда на революцию почти не приходилось встречать. Почти никто не хотел понять, что под видом революции идет огромное стихийное движение. направляемое незримой рукой к какой-то особой цели: к
526
перестройке жизни на новых началах, к очищению ее от разных наростов, наслоений, условностей, разных предрассудков и разных неправд. Это движение, зависящее от многих причин и особенностей русской жизни, проходит неровно, бурно, болезненно. Разразившаяся буря счищает удушливую атмосферу русской жизни медленно, неприметно для глаза, сокрушает и коверкает все попадающееся на пути слишком явно и наглядно для всех. Вот ее-то и надо было общими силами ввести в надлежащее русло, дать ей правильное течение, а у нас лишь хотели ее задержать, остановить, чтобы на обломках после бури начать восстановление старой, одряхлевшей, а теперь еще и разрушенной постройки. Хотели задержать ход истории, повернуть назад текущую реку. Усилия были тщетны и смешны. Они лишь замедляли, осложняли и делали более болезненным исторический процесс, вызывая новые жертвы, новые страдания.
Наша интеллигенция тут не выдержала исторического экзамена. Революцию интеллигенты сознательно и бессознательно, намеренно и ненамеренно, прямо или косвенно сумели подготовить. Эта мысль едва ли нуждается в доказательствах. Все «новые» идеи заносились в народ, конечно, интеллигентами. Интеллигенты же первые показали примеры неверия, неуважения к власти, к старым заветам, С другой стороны, они же были крепостниками, пользовавшимися трудами простого народа и слишком мало радевшими о благе его. Не они ль были виновны в том, что до самого последнего времени наш простой народ оставался невежественным? Они, а не простой народ, и подготовили, и начали революцию, но понять ее они не сумели, и, когда она прежде всего ударила по ним же, по их благосостоянию, потребовала от них огромных жертв, они испугались и принялись останавливать ее силою, не противопоставив ей мощной творческой идеи.
3 мая 1920 г. на приходском собрании, составленном из одних интеллигентов, на острове Антигоне я, не обинуясь, сказал присутствовавшим: «Господа, посмотрите прямо и честно на происходящее! Мужик наш, наш простой народ оказался не тем, чем вы представляли его: разбушевавшись, он натворил за эти три года много грязных и ужасных дел. Но мы-то лучше ли его оказались в это время? Вспомните про спекуляции, хищения, грабежи и этот грубый, бесцеремонный эгоизм, охвативший всех нас!,. Мы хуже их. ибо от нас больше требуется, чем от них».
Если бы не все — этого никогда не бывает, — а хотя бы большинство в Добровольческой армии прониклось мыслью, что в ту пору нужно было жертвовать не только своею жизнью на поле брани, но и своими правами, преимуществами, достоянием своим и мечтать не о реставрации старого, а о строительстве нового, отвечающего интересам не отдельных классов, а целого народа,
527
тогда, думается, добровольческий подвиг привел бы нас к лучшим результатам.
Конечно, было много и других причин нашей неудачи. К ним надо отнести: неустройство тыла и особенно резервов, ошибки командования, вырвавшегося вперед, избиравшего иногда географически неверные направления для операций, и другое. Может быть, ошибкой генерала Деникина было и его большое доверие англичанам. Генерал Хольман и другие англичане были постоянными его советниками. А всегда ли англичане были добрыми советниками главнокомандующего? Не преследовали ль они больше свои, чем наши интересы? Не затягивали ли они намеренно, в своих интересах развязку великой нашей трагедии? Эта мысль мучила многих.
Упомянутый уже мною генерал Н.Н. Алексеев 30 марта 1920 г. говорил мне. что наш провал стал для него несомненным со времени мамонтовского похода, предпринятого вразрез со всеми правилами стратегии и тактики. Снять с растянутого фронта 15 донских полков (там всего было 25 полков) и бросить их на явную авантюру, не обещавшую, кроме грабежа, никаких других успехов, — это было безумным преступлением. Результаты мамонтовского похода были таковы: тамбовские и воронежские комиссары были очень перепуганы, но это для общего большевистского дела было неважно: у нас же 15 мамонтовских полков были окончательно деморализованы грабежами и беспутством, а оставшиеся на фронте 10 полков, несшие непосильную службу, были совершенно истощены. Начался развал Донского фронта.
Но в штабе главнокомандующего или не предвидели всей опасности, или старались скрывать ее. Генерал-квартирмейстер штаба генерал Плющик-Плющевский несколько раз в конце 1919 г. повторял мне, что наши неудачи временны, что осень и начало зимы всегда были неблагоприятны для нас. Генерал Романовский так же смотрел на дело. Генерал Деникин заверял, что он не сдаст Харькова, потом — Ростова, наконец — Екатеринодара. Может быть, иного они и не могли говорить, чтобы не сеять панику. Но факт тот, что с эвакуацией у нас опаздывали. В Ростове, как рассказывали очевидцы, было брошено до 10 тысяч больных и раненых солдат и офицеров, многие из которых потом были зверски замучены большевиками: два больших госпиталя на Таганрогском проспекте были сожжены со всеми больными, лежавшими в них. Священник Марковского полка протоиерей Евгений Яржемский видел страшную картину исковерканных огнем железных госпитальных кроватей с лежавшими на них обугленными человеческими костями, не убранными после страшного пожарища. По рассказам других, санитарные вагоны, которые не успели вывезти из Ростова, были увешаны трупами казненных больных.
528
Относясь к генералу Деникину с глубоким уважением, ценя его бескорыстие, его кристальную честность, я, однако, редко бывал у него. Два раза я обедал у него: на именинах и на крещении его дочери, два раза был с визитами у него, вернее, у его жены. По служебным делам я тоже не учащал посещений: шел только в случаях крайней необходимости. Мой принцип: глаза начальству не мозолить и зря его не беспокоить. Обыкновенно приходилось мне делать ему доклады по духовным вопросам. Но несколько раз я беспокоил его и по общим делам. В августе 1919 г., например, я предстательствовал пред ним за вдов и сирот добровольцев.
Положение вдов и сирот добровольцев тогда требовало большого участия: они все бедствовали, получая ничтожную пенсию. Дело в том, что оклады чинов Добровольческой армии все время повышались. В ноябре 1918 г. я застал совсем маленькие оклады: несмотря на то что рубль наш уже был обесценен, сам Деникин получал 1500 рублей в месяц; я получал 600 рублей, когда при полноценном рубле в 1911-1914 гг. я получал 10 тысяч рублей в год, значит, более 800 рублей в месяц. На долю младших офицеров приходился совсем мизерный оклад. 1 декабря 1918 г. оклады были увеличены почти в три раза. 1 июля и 1 декабря 1919 г. были сделаны новые повышения. По последнему окладу я получал до 20 тысяч рублей в месяц. А вдовы продолжали получать пенсии из окладов, какими пользовались их мужья в день смерти. Таким образом, вдова какого-либо капитана-добровольца, погибшего до 1 декабря 1918 г., получала пенсию из оклада 300 рублей. Это была насмешка над пенсией.
До меня доходили жалобы вдов и сирот. Я попытался сначала добиться толку в пенсионном отделении военного управления. Но там сидели формалисты, крючкотворы, заявившие мне, что они действуют строго по закону, который в данном случае не допускает исключений. Тогда я пошел к Деникину, чтобы представить ему всю несуразность и жестокость таких действий «по закону». Деникин согласился со мной и приказал быстро разрешить вопрос. Но проходили месяцы, жизнь дорожала, оклады еще раз чрезвычайно повысились, а на долю вдов и сирот по-прежнему падали жалкие крохи. Я побывал в пенсионном отделении, затем у начальника отдела генерала Фирсова, наконец, у начальника управления генерала Вязьмитинова. В первом мне сказали, что вопрос разрабатывается (это с августа): последний заявил мне, что дело идет, но оно затянется на 2-3 месяца, ибо управление финансов раньше не рассмотрит его. «Как это можно тянуть такое дело целый год и теперь ждать управления финансов в течение трех месяцев? Оно должно рассмотреть его в два дня. Не захочет — поставьте перед ним пушку и пригрозите, что снесете это неповоротливое учреждение!» Вязьмитинов обещал
529
содействие. Однако дело не двигалось. Тогда в январе 1920 г. я еще раз обратился к Деникину, представив ему всю серьезность вопроса, вызывающего у вдов ропот, у воинов — опасение за судьбу их семейств, могущих остаться без кормильцев, и в общем отзывающегося на настроении всей армии. «Я же в августе после разговора с вами приказал наладить это дело (действительно, тогда Деникин при мне написал записку: «Быстро исправить дело»). Ужель они ничего не сделали?» — возмутился Деникин. «Если бы сделали, не пришел бы я к вам. Так исполняются ваши приказания», — сказал я. Деникин очень нервно написал приказ: «Немедленно наладить дело». Скоро оно было налажено: все вдовы и сироты стали получать пенсии по последней общей ставке.
В январе же пришлось воздействовать на генерала Деникина в пользу генерала Болховитинова, избранного на должность походного атамана Кубанского войска (то есть кубанского военного министра). Болховитинова как чрезвычайно дельного офицера Генштаба я знал еще с Русско-японской войны по штабу 1-й Маньчжурской армии. В 1909 или в 1910 г. я венчал его в Суворовской церкви. С середины 1917 г. он был командиром 1-го армейского корпуса. А в марте 1918 г. был назначен инспектором по формированию войск. В конце июня этого года я встретился с ним на московском Александровском вокзале. Он пригласил меня в свой вагон, где мы долго с ним беседовали. Между прочим он сказал мне: «Не удивляйтесь, что я тут на службе! Если Бог поможет мне сформировать хоть один настоящий корпус, виселиц не хватит для здешних мерзавцев». В июле он бежал в Екатеринодар, не предполагая, что его товарищ по академии Деникин жестоко расправится с ним. Но вышло иначе. Деникин отдал его под суд, приговоривший его к смертной казни. Как я потом узнал, только заступничество генерала Романовского спасло Болховитинова: он был разжалован в рядовые и отправлен на позицию в Самурский полк. Новый рядовой, бывший генерал-лейтенант, служил с образцовым усердием, безропотно перенося все невзгоды и смиренно подчиняясь начальству, был произведен в унтер-офицеры, а в августе (кажется) восстановлен в чине генерал-лейтенанта с увольнением в отставку.
Теперь, приняв избрание на должность походного атамана. Болховитинов боялся, что пережитое им помешает установлению искренних и добрых отношений между ним и Деникиным, какие необходимы для пользы общего дела. Болховитинов несколько раз заезжал ко мне, стараясь уверить меня, что все недоброе старое им забыто, что он сейчас воодушевлен одним желанием — всецело отдать себя общему делу. Он убежден, что только в согласии с Добровольческой армией под водительством Деникина можно спасти и Кубань, и все дело. Он не останется ни минуты у власти, как только увидит, что самостийные кубанские
530
стремления начнут принимать реальную и опасную форму. Он просил меня уверить в этом Деникина.
Сначала я написал об этом Деникину. А потом в середине января 1920 г. поехал в Тихорецкую, где тогда жил Деникин, и доложил ему все слышанное мною от Болховитинова. Поверил ли мне Деникин, не знаю. Как и в других нередких случаях, он выслушал меня молча, не проронив ни слова. Но отношения между ним и Болховитиновым после этого были внешне приличными.
XXXIV. Деятельность Временного высшего церковного управления на юго-востоке России
Как уже сказано, ВВЦУ должно было иметь своим местопребыванием ставку, хотя не исключалась возможность заседаний, если председатель найдет нужным, и в других местах.
Первые заседания ВВЦУ и происходили в Екатеринодаре, с переходом же ставки в Таганрог — иногда в Таганроге, чаще же в Новочеркасске. Новочеркасск оказался наиболее удобным пунктом для таких заседаний. Тут одни члены ВВЦУ в прекрасном архиепископском доме, а другие в женском монастыре находили не только приют, но и уют, которых не могли предоставить загроможденные Екатеринодар и Таганрог. Опасение же, что донцы используют для своих целей фактическое перемещение к ним ВВЦУ, совершенно отпало, когда члены ВВЦУ присмотрелись к своему председателю архиепископу Митрофану.
Когда эти строки увидят свет, архиепископа Митрофана, наверное, уже не будет в живых. Поэтому я могу говорить о нем совершенно откровенно, не опасаясь, что меня обвинят в лести.
Архиепископ Митрофан родился 25 декабря1845 г., в 1919 г. он, значит, доживал 74-й год. Архиереи его возраста часто утрачивали подвижность, энергию, деловитость, понимание жизни и места, занимаемые ими, становились пустыми. Об архиепископе Митрофане я не раз слышал, когда он служил в Пензе (1907-1915 гг.). О нем отзывались как о человеке толковом, деятельном, но добавляли: «Если б он не пил!» Думаю, что это было клеветой на достойнейшего архиерея. Если бы он когда-либо пил, это отразилось бы на нем.
Наружность архиепископа Митрофана не располагала в его пользу. Высокий, широкоплечий, довольно плотный, но не упитанный. С его широким туловищем не гармонировала маленькая голова, покрытая редкими короткими волосами, с такой же реденькой бородой. Своим видом он напоминал пещерного орла, каких очень много в Софийском зоологическом саду. По первому
531
взгляду он казался угрюмым, неприветливым. В Новочеркасске таким, по-видимому, его и считали. И любви особенной там к нему не было.
Архиепископ Митрофан большую половину своей службы провел на Дону. 21 год (с 1884 по 1905 г.) он состоял ректором Донской духовной семинарии, а с 10 января 1915г. стал Донским архиепископом. За этот длинный срок он хорошо изучил донцов и не сделался горячим их поклонником. «Эти донцы — странный народ, — не раз говорил он мне. — Самомнению их нет границ. Они считают себя выше всех. Лесть для них дороже всего. Хвалите их — и все получите».
Надо признаться, преклонный возраст председателя в первое время очень беспокоил членов ВВЦУ. И тем более они были удивлены, когда скоро увидели, что ни ясность ума, ни чуткость сердца, ни способность улавливать требования жизни и идти навстречу ее запросам нисколько не оставили престарелого архиепископа.
Я полтора года заседал в Святейшем Синоде (с 1 октября 1915 г. по 26 апреля1917 г.), полгода в Высшем церковном совете при Святейшем Патриархе (в 1918 г.) и должен сказать, что ни в том и ни в другом высоком учреждении я не получил такого удовлетворения, какое я получил, работая в ВВЦУ, возглавлявшемся архиепископом Митрофаном.
Наш председатель сразу же внес в заседания ВВЦУ спокойствие. серьезность и деловитость, и мы все прониклись самым искренним и глубоким к нему уважением. Между членами ВВЦУ сразу установились драгоценные для дела солидарность, единодушие, полное доверие друг к другу, не нарушавшиеся ни разу за все время его существования, хотя камней преткновения на его рабочем пути было много.
Главное внимание ВВЦУ было обращено на разрешение вопросов общего характера, на устроение и усовершенствование разных сторон церковной жизни. Должен тут отметить, что сильным толкачом в работе ВВЦУ был профессор Павел Владимирович Верховской (в январе 1920 г. убитый в Одессе), человек нежной души, искренней веры и большой работоспособности. Он почти на каждом заседании с жаром юноши, с удивительной чуткостью поднимал то тот, то другой вопрос церковной жизни, нуждавшийся в разрешении; представлял наперед заготовленные им проекты указов, реформ, разъяснений и тому подобного. Большая часть указов ВВЦУ по принципиальным вопросам принадлежит его перу.
В свежести взгляда, в способности понять современные церковные нужды, откликнуться на них некоторые более молодые члены ВВЦУ отставали от своего престарелого председателя. Помнится, обсуждался представленный мною проект указа об
532
улучшении учебного и воспитательного дела в наших духовных семинариях. Некоторым членам проект показался слишком либеральным. Между прочим, епископ Арсений заметил: «А что скажет митрополит Антоний Киевский (Храповицкий), если мы опубликуем этот проект?» «Митрополита Антония здесь нет, и считаться с ним нет нужды», — спокойно ответил архиепископ Митрофан. Проект прошел без дальнейших возражений.
Недостаток средств, невозможность без средств сорганизовать нужные исполнительные органы, наконец, краткость времени существования ВВЦУ не позволили ему развернуться, как хотелось бы, и достичь нужных результатов. Но его работа заслуживала большого внимания, так как в ней появились два качества: 1) идейность, устранявшая возможность использования тем или иным членом своего положения для достижения личных целей и интересов, и 2) принципиальность, в силу которой главное внимание обращалось на общецерковные современные вопросы и нужды, а прочим делам отводилось второе место, наградным же — последнее. Если бы в таком направлении работал наш бывший Святейший Синод, мы, наверное, не переживали бы многого, что переживаем ныне.
Как ни кратко было время существования ВВЦУ, ему пришлось заниматься четырьмя архиерейскими делами. А архиереев-то всего было не более 10. Наиболее серьезное между ними было дело Екатеринославского архиепископа Агапита. С добрым сердцем, очень опытный в делах хозяйственных и гораздо менее сведущий в делах духовных, довольно недалекий, но хитрый архиепископ Агапит в разгар революции был увлечен волною украинской самостийности. Не будучи в состоянии разобраться в быстро сменявшихся событиях и хоть отчасти заглянуть в будущее, он при первом же обособлении Украины решил, что последняя крепко стала на ноги, и всецело примкнул к самостийникам. Так как у него не было никаких данных для роли демагога — ни дара слова, ни острого ума, ни святительского авторитета, — его выступления не дали существенных результатов и лишь остались сильные улики против его политической благонадежности. Когда с захватом Малороссии войсками Деникина самостийности был положен конец, архиепископу Агапиту предъявили ряд тяжких обвинений. Его обвиняли во многом: 1) что он в Екатеринославе на площади пред молебном взывал: «Москва нас знищила»; 2) звал к отделению Украйны от Москвы, а украинской Церкви — от Патриарха и сам прекратил поминовение Патриарха: 3) в декабре 1918 г. в полном облачении, окруженный духовенством, встречал въезжавшего на белом коне в Киев Петлюру, своего ученика по Полтавской духовной семинарии, причем приветствовал его речью и троекратным лобызанием (митрополит Платон, бывший Одесский, уверял, что Агапит, его друг, был уполномочен на
533
это находившимися тогда в Киеве епископами, но это не могло вполне оправдать Агапита); 4) в конце декабря 1918 г. возглавлял сформированный из нескольких священников и мирян петлюровский Украинский Синод, деятельность которого, кажется, ограничилась тем, что он предписал поминать в украинских церквах на всех богослужениях троицу: «Сымона, Хведора» и еще какую-то дрянь, то есть Петлюру, Винниченко и их компаньона. Скоро эта директория была выгнана из Киева, после чего и Ага- пит убежал чрез Одессу в Екатеринодар. Обвинителями Агапита явились бывший секретарь Екатеринославской духовной консистории, уволенный Агапитом от должности за москвофильство, и Екатеринославская прокуратура. Главнокомандующий потребовал суда.
К несчастью для Агапита, в это время вернулся из галицийского плена Киевский митрополит Антоний, беспощадно отнесшийся к экспериментам Агапита и так же, как и главнокомандующий, потребовавший суда над ним.
Дело поступило в ВВЦУ. Как ни защищал Агапита его товарищ по академии и друг архиепископ Димитрий (Абашидзе), силившийся доказать неосновательность всех обвинений, ВВЦУ поручило Кишиневскому архиепископу Анастасию произвести следствие. Архиепископ Анастасий не покривил душой. Произведенное им самым тщательным образом следствие представило полную картину самостийных похождений Екатеринославского архиепископа, пробиравшегося по взбаламученному морю украинской жизни к Киевской митрополичьей кафедре.
По Положению ВВЦУ не могло судить архиерея, требовался Архиерейский Собор. В октябре (кажется, не ошибаюсь) 1919 г. в Новочеркасске такой Собор составился. Участвовало, кажется, 12 архиереев.
Интересен заключительный момент этого Собора. Прочитано следствие, резюмированы выводы, прошли прения, при которых только архиепископ Димитрий силился обелить своего приятеля. Началось голосование, как всегда, с младших. «Ваше мнение?» — обращается председатель архиепископ Митрофан к младшему архиерею. «Лишить кафедры, послать в монастырь», — отвечает тот. «Лишить кафедры... послать в монастырь... в монастырь... Молод сам, а уже других в монастырь...» — ворчит недовольный архиепископ Димитрий. «Ваше мнение?» — обращается архиепископ Митрофан к следующему. «Послать в монастырь, лишив кафедры», — отвечает и этот. «Тоже в монастырь... Строг больно... Смотри, как бы сам не попал туда», — продолжает ворчать архиепископ Димитрий. И так как мнения всех архиереев в общем оказались согласными, то он не переставал давать подобные реплики на суждение каждого. Наконец, очередь дошла до него. «Ваше мнение?» — обратился к нему председатель. Архи-
534
епископ Димитрий встал, перекрестился: «Господи, помоги сказать по совести!» — и, помолчав немного, скороговоркой ответил; «Лишить кафедры, сослать в монастырь». Все так и ахнули.
Архиепископ Агапит был сослан в Георгиевский монастырь Таврической епархии, подчиненный архиепископу Димитрию. В действительности эта ссылка стала похожа на ссылку кота в погреб, где множество крыс. Георгиевский монастырь — один из богатейших и красивейших монастырей Крыма. Архиепископ Агапит скоро был проведен своим покровителем в настоятели этого монастыря.
Второе архиерейское дело касалось Кубанского епископа Иоанна. Я иногда задумывался, какое место оказалось бы подходящим для епископа Иоанна? И всякий раз являлась у меня одна и та же мысль: место 2-го священника на кладбище. Именно второго кладбищенского священника, а не первого, ибо настоятельские обязанности были бы ему не под силу. Совсем негодный для серьезного дела — недалекий, безгласный. А между тем в такое трудное время и такой большой и трудной епархией он «управлял». Впрочем, управлял не он, а его келейник малограмотный казак Борис, в 1919 г. возведенный им в сан диакона, а ранее служивший на кубанском заводе «Кубаноль». Так и говорили: епархией управляет не Иоанн Кубанский, а Борис Кубанольский. Этот Борис командовал епископом и до возведения в сан диакона. Сделавшись же диаконом, он пытался командовать и духовенством епархии. Наконец. ВВЦУ обратило внимание на ненормальное положение кубанских церковных дел. Архиепископу Евлогию было поручено следствие.
Следственное дело дало ряд юмористических картин, изображавших карикатурную беспомощность Кубанского епископа. Воспроизведу одну из них. У епископа прием. Приемная заполнена просителями. Некоторые духовные лица в штатских костюмах. Все ждут. Наконец выходит из внутренних покоев епископ, кругленький, с неумным лицом и беспокойными движениями. Выслушивает одного, другого просителя, что-то отвечает им. Но вдруг среди просителей начинается волнение, подымается шум... Епископ теряется, не зная, что предпринять. Тогда влетает Борис, хватает епископа под руку и уводит его во внутренние покои, а затем появляется один и быстро наводит порядок. После этого снова выходит епископ Иоанн. Прием продолжается.
При таком управлении жизнь епархии шла сама собой, по инерции, как попало. Это, однако, не мешало некоторым архиереям даже восторгаться епископом Иоанном. «Благочестивый святитель! — говорил мне о нем Гавриил, епископ Челябинский. — Почти ничего не ест и не пьет». «Какая ж польза от этого? С коня, который не ест и не пьет, но и не везет, снимают шкуру», — сказал я. «Что вы, что вы! — ужаснулся большой чревоугодник и циник,
535
десятипудовый епископ Гавриил. — Разве можно так говорить о святителе?» «Это я о коне, а не о святителе», — ответил я. «Ну а все ж, а все ж», — волновался Гавриил.
Вызвав епископа Иоанна, ВВЦУ предложило ему принять Киевское викариатство или подать в отставку. Он сразу согласился на викариатство, не заметив, что в это время через щель двери в зале заседания за ним следил его соправитель Борис Кубанольский. Когда епископ Иоанн вышел из залы, последний задал ему здоровую головомойку, и Иоанн в тот же день отказался от данного согласия. Потом он опять соглашался, еще отказывался и, наконец, согласился принять настоятельство в Кавказском монастыре Кубанской епархии. На этом и кончилось дело. Как и в Ставрополе на Соборе, при разборе его дела в ВВЦУ он молчал и даже на обедах и ужинах у архиепископа Митрофана не проронил ни одного слова. Это был молчальник без обета.
Третье дело — новороссийское. Сумбурное, глупое и по существу ничтожное дело. Суть его в следующем. Настоятель новороссийского собора, не столько умный, сколько хитрый, чрезвычайно угодливый и честолюбивый протоиерей Владимир Львов (чех, раньше носивший немецкую фамилию), бывший небескорыстным другом В.К. Саблера, угождавший всем архиереям и пользовавшийся их неизменною за это благосклонностью, после нескольких лет благоволения к нему правившего в то время Сухумско-Новороссийскою епархией епископа Сергия («петуха с вырезанными мозгами») вдруг в 1918 г. впал в немилость.
Бесконечно сумбурный и бестолковый в жизни, епископ Сергий был щедр в милости, но и неудержим в каре. Немилость скоро перешла в опалу, во время которой на бедного о. Львова один за другим сыпались удары. Он был лишен благочиния и подчинен младшему. В частных письмах, как и в деловых бумагах, епископ Сергий не упускал случая уязвить и унизить Львова, причем делал это слишком плоско, грубо, иногда жестоко. В поздравительном письме, например, по случаю 35-летнего юбилея священнослужения протоиерея Львова епископ Сергий «молитвенно» желал ему, чтобы в этот знаменательный день Господь вспомнил все пакости, все преступления, какие он совершил в Новороссийске за эти 35 лет, и воздал ему по делам его. Переехавши в 1919 г. из Сухума в Новороссийск, епископ Сергий потребовал, чтобы о. Львов уступил ему свою квартиру, которую Львов занимал около 20 лет и которая находилась в церковном доме, самим же Львовым выстроенном на собранные им средства. О. Львов предлагал епископу Сергию лучшую городскую квартиру, умолял не настаивать на выселении его с семьей из их квартиры. Епископ Сергий оставался непреклонным. Ясно было, что ему не столько хотелось занять квартиру о. Львова, сколько сделать неприятность ему. О. Львов отказался очистить квартиру.
536
В Сергиево-Львовское дело втянулся весь город: одни стояли за о. Львова, другие — за епископа Сергия. Генерал-губернатор Кутепов был на стороне Львова. Депутации то и дело приезжали то к генералу Драгомирову, то в ВВЦУ. Случалось, что одни и те же лица становились то на одну, то на другую сторону. Соборный новороссийский староста действительный статский советник Диатолович (отставной полковник Генштаба) в марте 1919 г. приезжал к Драгомирову ходатайствовать за Львова, а в июне 1919 г. он пред ВВЦУ поносил Львова и превозносил епископа Сергия.
Ни одно дело не отняло у ВВЦУ столько времени, как это несчастное дело. Были сессии ВВЦУ, которые мы в шутку называли «неделями о Сергии и Львове». Выслушивались депутации, прочитывались доклады и доносы, посылались ревизоры. ВВЦУ изучало дело по документам, разбирало его без тяжущихся и в их присутствии и все же так и не решило его.
Сергиево-Львовское дело изобиловало всякого рода эпизодами. Упомяну об одном из них. На одном из заседаний ВВЦУ епископ Сергий давал объяснения. Он не защищался, все время нападал на Львова, обвиняя его в лицемерии, непочтительности, коварстве и прочем. «Львов подлежит суду, — между прочим заявил епископ Сергий, — так как он не исполнил евангельской заповеди: если у тебя две рубашки, отдай одну неимущему. У меня нет квартиры, а он не хочет отдать мне свою квартиру». «Владыка! — не выдержал я. — А вы не боялись нарушить Божью заповедь, когда хотели отнять у человека последнюю рубашку: у Львова, человека семейного, ведь нет другой квартиры?» Епископ Сергий жалобно посмотрел на меня, потом опустил голову на стол и заплакал.
Дело разрешилось небесною властью. В январе или феврале 1920 г. епископ Сергий, устрашившись большевиков, покинул Новороссийск. Но и Львов недолго торжествовал. Говорят, он вскоре после этого скончался.
Четвертое дело — Владикавказское. Епископ Владикавказский, страха ради иудейска, начал вменять советские гражданские разводы за настоящие и разрешать венчание граждански разведенных. Когда большевики были изгнаны из пределов Владикавказской епархии, пострадавшие от таких разводов супруги начали возбуждать процессы. Тогда это дело показалось ВВЦУ криминальным, теперь таких дел в России всюду сколько угодно.
27 или 28 августа 1919 г. в Таганрог прибыл освобожденный из галицийского плена Киевский митрополит Антоний. Параграф 6-й составленного Собором Положения говорил: «...Временное высшее церковное управление на юго-востоке России простирает свои полномочия на все области России по мере освобождения их Вооруженными силами юга России»: параграф 7: «В эти обла-
537
сти могут войти и епархии Украинской Церкви, автономия коих была признана Всероссийским Церковным Собором, при том условии, что, как только военные обстоятельства не будут тому препятствовать. Украинская Церковь восстановится в правах, дарованных ей Всероссийским Церковным Собором».
А вдруг митрополит Антоний откажется признать власть ВВЦУ и поведет автономную политику на Украйне — эта мысль беспокоила и генерала Деникина, и членов ВВЦУ. Как потом стало известно, митрополит Антоний, подъезжая к Ростову, не был чужд мысли игнорировать ВВЦУ как неканоническое учреждение.
В Ростове произошла встреча генерала Деникина с митрополитом Антонием. О чем они беседовали, не знаю. На следующий день Деникин сказал мне: «Я вчера решительно дал понять Антонию. чтобы он не рыпался. После этого он присмирел, а то начал было петушиться. Как он ведет себя в отношении ВВЦУ?» Но в это время митрополит Антоний уже был смирен, как агнец. Его беседа с Деникиным, затем устроенная ему ВВЦУ в Таганроге торжественная встреча, приглашение его на заседание ВВЦУ и предложение принять звание почетного председателя, наконец, ознакомление его с Положением и решениями ВВЦУ, в которых он не нашел ничего антиканонического, успокоили скорого на выводы и решения Киевского митрополита.
Вступление митрополита Антония в состав ВВЦУ не изменило ни курса, ни характера деятельности последнего. Митрополит вскоре уехал в Киев и фактически до декабря 1919 г. не принимал никакого участия в работе почетно возглавляемого им учреждения. В конце ноября он после эвакуации из Киева прибыл в Таганрог, а в начале декабря уехал в Екатеринодар, согласившись принять управление Кубанской епархией. На место Иоанна в Екатеринодар ВВЦУ был назначен епископ Димитрий, викарий Киевской епархии, но он так и не прибыл в Екатеринодар.
Во второй половине 1919 г. начались неудачи нашей армии. По мере того как армия откатывалась на юг, эти неудачи становились зловещими. Появились беженцы с севера. Среди них оказалось немало и духовных лиц. Еще наша армия была по ту сторону Белгорода, как в Новочеркасск прибыл управляющий Харьковской епархией Минский архиепископ Георгий (Ярошевский) со своими викариями Феодором, Митрофаном и Алексеем. Вероятно, они первыми покинули Харьков. Митрополит Антоний возмущался этим. Архиепископ Георгий с епископами Алексеем и Митрофаном задержались в Новочеркасске, а Феодор уехал в Екатеринодар. Вскоре епископы Феодор и Алексей погибли от тифа: первый — в Екатеринодаре, а второй — в Новочеркасске. Потом прибыли Курский епископ Феофан с викарием Аполлинарием, Ставропольский епископ Михаил. Донской викарий Гермоген,
538
Царицынский Дамиан и, наконец, живший в Пятигорском монастыре митрополит Питирим. А так как в это время в наших краях уже пребывали митрополит Антоний, волынский архиепископ Евлогий, Челябинский епископ Гавриил и епископ Сергий (Лавров), то на Кубани составился большой сонм иерархов. Кубань в это время бурлила и кипела от раздоров с Добровольческой армией, от внутренних разногласий, от надвигавшейся с севера грозы. Должен сказать, что беженцы-архипастыри не только не вносили успокоения, но некоторые из них своею суетливостью, нервностью и неосторожными речами содействовали нарастанию паники. Митрополит Антоний резко выделялся среди архиереев своим спокойствием и бесстрашием. К счастью, в январе 1920 г. все архиереи, кроме митрополита Антония и епископа Сергия, перекочевали в Новороссийск, а оттуда вскоре за море.
С оставлением нашими войсками Ростова ВВЦУ лишилось почти всех своих членов, ибо архиепископ Митрофан, епископ Арсений и профессор Верховский остались на местах: первый — в Новочеркасске, второй — в Таганроге, третий — в Ростове. Профессор протоиерей Рождественский тяжко больным был эвакуирован, а граф Мусин-Пушкин выбыл в Крым. Остались только митрополит Антоний и я.
В начале декабря 1919 г. при ВВЦУ был учрежден Беженский комитет для попечения о бежавших с севера священнослужителях, теперь наводнивших Дон и Кубань. В январе 1920 г. в одном кавказском монастыре (Кубанской епархии) их собралось около 12 человек. Положение большинства из них было трагическое. Они бежали, бросив все свои пожитки, и теперь нуждались во всем. На помощь этим несчастным в декабре 1919 г. Деникиным был отпущен 1 миллион 800 тысяч рублей. Деньги были переданы в Церковно-беженский комитет, а во главе комитета был поставлен епископ Митрофан, викарий Харьковский. В январе епископ Митрофан покинул Екатеринодар. Председательство в Комитете было поручено мне. Я получил слабое наследство: до 800 тысяч рублей было роздано архиереям; сам председатель получил около 200 тысяч рублей (для того времени большие деньги) на «поездку в Иерусалим» и в пособие; состоявший при нем священник Лисяк получил 32 тысячи рублей; ни один архиерей не был забыт. Следующими счастливцами оказались члены епархиальных советов, преподаватели духовных семинарий, училищ, умудрявшиеся получать из этой благотворительной суммы не только пособие, но и жалованье за несколько месяцев вперед. Вопросы решались единолично распоряжением председателя или митрополита Антония: выдать такому-то столько, такому-то столько. По распоряжению митрополита Антония, например, было выдано митрополиту Питириму 15 тысяч рублей, а князю Жевахову — 4 тысячи рублей. Семейным же священникам выда-
539
валось по тысяче рублей, одиноким — по 500 рублей. Прежняя деятельность князя Жевахова не заслуживала того, чтобы его поставить в разряд привилегированных духовных лиц. В то же самое время половина нижнего этажа Екатеринодарского духовного училища была набита духовными беженцами: в одной огромной комнате (столовой) помещались священники и диаконы. их жены и дети: здоровые валялись рядом с тифозными больными. большинство — на полу, полуголодные. Еще ужаснее было в кавказском монастыре. Там беженцам-священникам было отведено помещение с разбитыми окнами, без отопления. А потом монахи ограничили выдачу воды. Настоятельствовавший там епископ Иоанн, бывший Кубанский, ничего не видел и не замечал. Как мне сообщали, половина беженцев, нашедших убежище в этом монастыре, сложили там свои головы, погибши от тифа, явившегося естественным результатом тех ужасных условий, в которых жили несчастные беженцы.
Если епископу Митрофану не прибавило славы председательствование в Беженском комитете, то митрополит Антоний оказался тут тем, чем он всегда и везде был. Митрополит Антоний был человеком чрезвычайно добрым, не мог отказать просящему, готов был отдать последнюю рубашку. Получая всегда очень много, он никогда ничего не имел. Но его благотворительность всегда была бессистемной, сумбурной; больше всего получали от него тунеядцы, плуты и проходимцы. Каков был митрополит Антоний в расходовании личных средств, таков он был и в распоряжении казенными суммами.
Вступив в должность председателя комитета, я ввел решение всех дел комитетом, какого доселе в действительности не было, ибо комитет состоял из председателя, секретаря и казначея: председатель давал приказания, а секретарь и казначей исполняли их. Теперь комитет был составлен из нескольких членов, причем каждое прошение рассматривалось в комитете. Митрополит Антоний продолжал передавать комитету ультимативные требования о выдаче определенным лицам определенных пособий. Но комитет исполнял такие требования только после проверки действительных нужд тех лиц. для которых митрополит Антоний требовал пособий, и нередко отклонял требования митрополита Антония. Должен сказать, к чести митрополита Антония, что он ни разу не выразил мне своей обиды на неисполнение его резолюций. Он сам, вероятно, понимал, что как не входящий в состав комитета он не может решать за него дел и что его резолюции, продиктованные привычкой никому не отказывать, не всегда бывают исполнимы.
Сам митрополит Антоний теперь был стеснен материально. Ему всего выдавали что-то около 8000 рублей в месяц на его личное содержание и на содержание архиерейского дома. Сумма по
540
тому времени ничтожная. Между тем в начале января к нему явились гости — две «знаменитости»: митрополит Питирим и князь Жевахов, бывший товарищ обер-прокурора Святейшего Синода Раева. Митрополит Антоний откровенно заявил гостям: «Мое помещение, братие, к вашим услугам, но питать вас не могу, ибо средств не имею. Хотите на компанейских началах?» Гости согласились. Так они прожили две с небольшим недели. Митрополит Питирим скоро слег, серьезно заболев. Жевахов же пил и ел по-здоровому и бесцеремонно пользовался услугами келейника митрополита Антония. А затем Жевахов исчез, не уплатив митрополиту ни копейки за стол. Одновременно с этим у митрополита Питирима исчезли 18 тысяч романовских денег и двое или трое золотых часов. Когда я на другой день после исчезновения Жевахова зашел к митрополиту Антонию, он встретил меня следующими словами: «Вот сукин сын Жевахов! Уехал, не заплативши моему Федьке (келейнику) за то, что тот ему прислуживал, сапоги чистил; даже не заплатил за ваксу, которую Федька для него за свои деньги покупал. А Питирима Жевахов обокрал; украл у него золотые часы и 18 тысяч рублей николаевских денег, которые были зашиты в теплой питиримовской рясе. Распорол рясу и вынул оттуда деньги».
Вскоре митрополит Питирим умер. Хоронили его перед самой эвакуацией. Похоронили в Екатерининском соборе, в стене у левого клироса. Митрополит Антоний уверял, что Питирим пред смертью совершенно раскаялся. Я не верю этому. Митрополит Питирим всю свою жизнь паясничал и лицемерил. За полгода до смерти он писал мне, что «никогда не забудет моих добрых отношений к нему во время совместного служения в Синоде», а в конце письма подписался: «Ваш неизменный почитатель и богомолец м. Питирим». Между тем отношения наши в течение всего времени пребывания его на Петроградской митрополичьей кафедре были из ряда вон дурными. Достаточно сказать, что за полтора года совместного служения я ни разу не посетил его, что он учитывал и обещал свернуть мне шею. Главное же, трудно было этому человеку своим предсмертным раскаянием, когда тело обессилело, а все страсти сами собой отпали, загладить свой величайший грех пред Россией. Друг Распутина по корысти и расчету, ставленник его, митрополит Питирим — один из главных лиц, которые сгущали тьму, зловеще окутывавшую в 1915-1917 гг. восседавших на царском троне. Торгуя своим саном. играя и тешась, он, казалось, благополучно взбирался все выше и выше по лестнице почета и положения и снискал такую милость и благоволение царской семьи, какими не пользовался ни один из самых блестящих его предшественников по Петроградской кафедре. По своему легкомыслию он не предполагал, что игра с огнем может кончиться взрывом порохового погреба, кото-
541
рый до основания потрясет всю Россию. Несомненно, митрополит Питирим ничего, кроме самого себя, не видел. Не видел он ни того, что происходило, ни еще более — того, что могло произойти. Он упоен был своим положением и мечтал, как бы вознестись еще выше. Склад его души был таков, что неограниченное честолюбие соединялось у него с полным безразличием в средствах достижения цели, хитрость пропорционально соответствовала легкомыслию. Будущий историк скажет, что митрополит Питирим, сам не сознавая того, сильно помог ускорению революции. Церковный же историк добавит, что митрополит Питирим — естественный плод господствовавшего пред революцией в нашей церкви направления, когда для достижения почестей высшего церковного звания требовалось прежде всего честолюбие и неразборчивость в средствах, а потом уже благочестие, образование, ум, знания. Но этого «потом», как показывают примеры Питиримов, Варнав и многих других, могло и не требоваться, без этого можно было обойтись.
Другим учреждением, возникшим при ВВЦУ в 1919 г., был Церковно-общественный комитет, возглавленный архиепископом Евлогием. Как показывает самое название комитета, ему предстояла разработка назревавших вопросов церковно-общественной жизни и осуществление их. В данное время умы всех были заняты двумя вопросами: а) придут ли большевики: б) как остановить разложение тыла, все растущее под влиянием наших неудач на фронте. Все другие вопросы меркли пред этими злободневными вопросами жизни и смерти.
В первой половине января архиепископом Евлогием было созвано совещание из наиболее видных священнослужителей, находившихся тогда в Екатеринодаре. Был приглашен и я. Архиепископ Евлогий поставил вопрос: как нам содействовать успокоению все более волнующегося кубанского казачества? На него ведь теперь возлагали последние надежды. Решили разослать проповедников по разным станицам. И в первую очередь послать в сборные мобилизационные пункты для проповеди мобилизованным. Наметили способных проповедников. Но на другой день почти все избранные отказались, сославшись то на нездоровье, то на семейные обстоятельства. В действительности же они учли все неблагоприятные обстоятельства, с которыми соединялось проповедническое странствование по станицам: передвижение по железным дорогам тогда было опасно, ибо вагоны кишели вшами — распространителями сыпного тифа: казачество было возбуждено против Добровольческой армии, деморализовано грабежами на фронте, прониклось революционной психологией и враждебно относилось ко всякому, кто пытался склонить его на другую сторону. Само собою понятно, что призыв проповедника к защите фронта и к самопожертвованию мог
542
сопровождаться нерадостными для него возможностями. Бывают моменты, когда высокие призывы не только бесполезны, но и опасны. Скоро и сам архиепископ Евлогий оставил Екатеринодар, направившись поближе к исходу.
Между тем настроение умов становилось все более грозным. На Кубани начались восстания против Добровольческой армии. В станице Елисаветинской (в 15 верстах от Екатеринодара) бунтовал член Рады Пилюк. На станице Динской готовил восстание есаул Рябовол, брат убитого. В Екатеринодаре чины штаба Добровольческой армии сорганизовали собственную охрану на случай нападения казаков, которая несла ночные дежурства. Кубанское правительство не порывало связи с Деникиным, но действовало неуверенно, вяло, не надеясь ли на свою силу или учитывая сильное возбуждения казачьего населения против Добровольческой армии. Трения между генералом Деникиным и казаками продолжались все время, но особенно они обострились после повешения генералом Покровским в Екатеринодаре (кажется в ноябре 1919 г.) Калабухова, члена Кубанского правительства по внутренним делам. Кстати, Калабухов — священник, не только не снявший сана, но и не запрещенный в священнослужении. Многие из пришлых и не подозревали этого, ибо Калабухов всегда ходил в черкеске, с кинжалом. Когда Калабухова повесили (это было ночью, около трех часов ночи). Кубанский епархиальный совет спохватился и, экстренно собравшись в этот же день, чуть ли не в шесть часов утра, вынес постановление: запретить Калабухова в священнослужении (уже повешенного).
В половине января ко мне зашел учитель Батумского реального училища, уроженец Кубани Некрасов, еще молодой человек (около 30 лет), идейно настроенный. Он представил мне страшную картину все растущего разложения казачества, которому (разложению) никто не оказывает сильного противодействия: казачья власть пассивна: деникинский ОСВАГ (отдел пропаганды) не обращает никакого внимания на деревню: агенты его туда не заглядывают, литература его туда не проникает; станичная интеллигенция испугалась и, притаившись, молчит. Бунтовщики же действуют — готовится буря.
Прежде чем идти ко мне, Некрасов был у екатеринодарского окружного атамана, сговорился с ним и теперь от его имени просил меня немедленно начать объезд наиболее неспокойно настроенных станиц Екатеринодарского отдела. Атаман обещал предоставить мне перевозочные средства, а Некрасов — сопровождать меня. Я должен был совершать в станицах богослужения и проповедовать. Некрасов брал на себя особую миссию, о которой я скажу особо. Я, конечно, согласился отправиться в опасное путешествие и об этом прежде всего доложил митрополиту Антонию. Последний одобрил мое решение и даже добавил:
543
«Если надо, и я готов поехать по станицам». Меня это очень тронуло.
Теперь скажу несколько слов о миссии Некрасова. Генерал Деникин был искренно проникнут желанием не только освободить страну, но и дать ей затем возможность начать новую лучшую жизнь, свободную и разумную, открывающую простор для всех сил народных и обеспечивающую помощь и содействие власти всем честным гражданам, без различия сословий и состояний.
Пока, однако, население занятой территории особой попечительности власти и помощи с ее стороны не видело. Жертвы же от населения, особенно казачьего, требовались все новые и большие. Казаки не только беспрерывно слали на фронт своих бойцов, но и снабжали этих бойцов полным обмундированием, даже лошадьми. Почти все казачье мужское население было на фронте, только женщины, старики и малолетки оставались в станицах. Для казачьих хозяйств это было убийственно. В 1919 г. и на Кубани, и на Дону в станицах чрезвычайно остро чувствовался недостаток рабочей силы и в людях, и в лошадях.
Вместе с этим ощущался большой недостаток и в земледельческих орудиях. Надо сказать, что вообще юг, а в особенности казачьи части, в отношении пользования сельскохозяйственными машинами далеко опередили север России. На Кубани, например, почти в каждом хозяйстве были свои молотилки, веялки, однокосилки, жатвенные машины и прочее. Но теперь старые износились, исправить их было некому: новых не привозили. Вследствие всего этого уже в 1919 г. на Кубани очень уменьшилась площадь посева. Помощь населению очень нужна была. Некрасов понял это и в начале 1919 г. отправился в Америку с целью склонить американские фирмы прийти в этом отношении на помощь казакам. Скоро туда же прибыл Одесский митрополит Платон, который оценил идею Некрасова и вместе с ним повел дело.
По словам Некрасова, хлопоты их увенчались успехом. Несколько фирм обещали доставить для юга России сколько угодно не только земледельческих машин, но и всякого другого товару: паровозов, вагонов и прочего под долгосрочный кредит. Фирмы ставили одно лишь условие: так как твердой власти на юге России сейчас нет, то посредником между ними и населением должна стать церковь в лице своих церковно-приходских советов. Некрасов вернулся в Екатеринодар, упоенный успехом и обнадеженный митрополитом Платоном, что, объехав кубанские станицы, они не только склонят казаков принять американское предложение, но и поднимут в станицах патриотическое настроение. Станицы, мол, увидят, что власть не только от них требует, но и заботится о них. С этим планом был ознакомлен екатеринодарский атаман. Ему план очень понравился.
544
Но митрополит Платон, вернувшись из Америки, метеором промчался через Таганрог и Екатеринодар, даже не повидавшись в Екатеринодаре с Некрасовым. Ясно было, что он не собирается проводить план. Вот тогда и явился ко мне Некрасов.
Замысел заинтересовал меня, и я решил ознакомить с ним генерала Деникина. Деникин выслушал меня молча и на мою просьбу принять меры, чтобы правительство воспользовалось этим выгодным для него предложением, не сказал мне ни слова. Может быть, тогда он видел, что дело идет к концу и что его правительству не только не осуществить, но и не начать осуществление этого плана. Но я тогда был удивлен таким поведением главнокомандующего и в душе очень посетовал, что он безучастно отнесся к моему докладу.
После Деникина я посетил Донского атамана генерала А.П. Богаевского: авось он поймет меня. Генерал Богаевский отнесся к моему сообщению с большим вниманием, пообещал воспользоваться предложением для Дона, как только последний будет освобожден, теперь же советовал мне обратиться к Мельникову, которому он передает должность председателя правительства. К Мельникову я не пошел, а вместо этого отправился с Некрасовым по станицам, начав с Елисаветинской, где бунтовал Пилюк.
В первое свое путешествие мы проехали чрез 8 станиц с востока на юг, от ст. Елисаветинской до Динской. В каждой станице я проповедовал и совершал богослужения. Туго пришлось в Елисаветинской станице, где казаки были страшно возбуждены против Добровольческой армии. Когда я упомянул о последней, в церкви поднялся дикий шум. Опасным же было наше положение и в ст. Динской, где наш приезд совпал с моментом, когда Рябо- вол подготовлял восстание.
Во второе путешествие, в начале февраля, мы проехали 7 станиц — от Пашковской до следующей за Рязанскою. В общем, везде наблюдалась одна и та же картина. Почва для пропаганды против войны везде благоприятная. Казаки устали от войны: в станицах терпят много лишений от недостатка мужчин и рабочего скота: все взволнованы слухами о постоянных несогласиях между главным командованием и казачьей властью: взвинчены расправой с Калабуховым. Вернувшиеся с фронта — ими кишели станицы — развращены грабежами и, обогатившись, не желают больше рисковать жизнью.
Во всех кубанских станицах интеллигенции немало: семейства офицерские и множество учителей — встречались станицы, где имелось более 30 учителей. Но интеллигенция присмирела, замкнулась, обособилась, молчит. Сочувствующие борьбе боятся слово сказать, а бунтовщики разглагольствуют вовсю. Никакой здоровой пропаганды в станицах не ведется ни ОСВАГом, ни ку-
545
банскою властью. Даже газеты туда не попадают. Для бунтовщиков. словом, полный простор, никакого противодействия.
Вообще, в эти поездки меня поразила полная неосведомленность станиц в отношении происходящих событий, столь выгодная для рассеивания всевозможных слухов. Укажу пример. Епископ Иоанн был уволен, а на его место был назначен и прибыл в Екатеринодар митрополит Антоний, помнится, в начале декабря 1919 г. Я ездил в конце января и в начале февраля 1920 г. И в некоторых станицах, отстоящих в 25-30 верстах от Екатеринодара, еще ничего не слышали о происшедшей перемене в управлении епархией и продолжали поминать за богослужениями епископа Иоанна.
Моя проповедь в некоторых местах имела значительный успех. В станице, следующей за Рязанскою (к сожалению, забыл ее название), казаки на другой день после проповеди выслали на фронт более 300 человек. А пред тем они не хотели никого посылать. В некоторых станицах меня упрашивали еще побыть у них, чтобы «бросить в их души еще добрыя семячки».
Некрасов в каждой станице беседовал по своему делу. Казаки откликались с восторгом, обещая скоро заплатить за машины или золотом или сырьем. В эту поездку я узнал Кубань. Думаю, что это богатейший утолок не только в России, но может быть, и во всем мире. Чего только нет на Кубани: лучший в мире чернозем, обилие леса, птицы, рыбы, масса всяких минералов, нефть, виноград и прочее — все, что только нужно человеку! Американцы в 1919 г. открыли там марганцевое озеро, к которому еще никто не прикасался и которому цены нет.
Но в духовном отношении край небогат. Кубань могла бы дать возможность всем своим насельникам получать высшее образование и таким образом открыть простор для всех своих талантов. Кубанцы в отношении образования могли бы стоять в России на первом месте. Я не буду говорить о том. как обстояло дело с образованием в Кубани. Но в прошлом Кубань не дала знаменитостей ни в одной области: ни в государственном деле, ни в науке, ни в искусстве. Богатство, приволье, «ни в чем нет отказу» — сделали то, что чрево в жизни кубанцев заняло первое место, ослабив интересы духа.
Эта особенность отразилась прежде всего на кубанском духовенстве: сытое сверх меры, обеспеченное всякими благами, оно, за немногими исключениями, не шло дальше требоисправлений и совершения очередных богослужений. Проповедь, духовное и вообще культурное воздействие на паству — это как будто не входило в круг обязанностей станичных священников, оправдывавшихся множеством чисто приходской работы, то есть треб. В известном отношении они были правы, ибо они бывали завалены требами, так как в некоторых приходах на одного священника
546
выпадало до 15 тысяч душ обоего пола. У самого перегруженного приходской работой священника все же могло найтись время и для чисто духовной, культурной работы на благо его паствы. Но уже к полному огорчению, в эту поездку мне пришлось встретить таких священников, которые поразили меня своей невообразимой одичалостью, как бы вычеркнувшей их из числа человекоподобных существ.
Была ли какая-либо польза от моей поездки? Теперь могу сказать с уверенностью, что не было никакой. Настроением посещенных мною станиц, если бы и удалось мне поднять его до высшей степени, нельзя было поправить проигранного на фронте дела. Поэтому моя поездка была самоотверженным, соединенным с большим трудом, переживаниями и риском для жизни, но бесплодным исполнением долга.
Интересно, как отнеслись к моей поездке наши власти. Митрополит Антоний сам был готов поехать со мной. Генерал Деникин отнесся совсем безразлично, ни осудив, ни одобрив мою поездку. Такое его отношение я объясняю тем. что в это время он уже потерял всякую надежду на какую-либо возможность поправить дело. Кубанские же власти... Они, узнав о моей поездке, учредили за мной самую строгую слежку, а екатеринодарского атамана, содействовавшего моей поездке, уволили от должности. Об установлении председателем Кубанского правительства господином Иванисом за мною слежки меня секретно предупредил один присяжный поверенный, член Кубанской Рады, посоветовавший мне быть крайне осторожным. Упоминаю об этом для характеристики взаимоотношений между властями, которые должны были делать одно дело.
XXXV. Закат Добровольческой армии
В конце февраля штаб генерала Деникина переехал в г. Новороссийск. Город был переполнен офицерами, оставившими свои части. По сведениям штаба, в начале марта 1920 г. в Новороссийске болталось без дела до 18 тысяч офицеров. Они бродили по улицам, шатались по притонам, нервничали, суесловили и, конечно, всех и все критиковали. Эта отбившаяся от дела масса начинала внушать опасения.
В Новороссийске образовался Союз офицеров тыла и фронта. К счастью, во главе его оказались разумные, серьезные и уравновешенные люди. Но их во всякую минуту могли сменить люди «с темпераментом». Начались митинги. 5 марта ко мне явился бывший комендант г. Новороссийска полковник Темников и от имени Союза пригласил меня на имеющий быть в этот день в помещении банка офицерский митинг, названный им собранием.
547
Я согласился и предложил полковнику пригласить и митрополита Антония, который тут же присутствовал. Митрополит тоже согласился.
Митинг начался в 5 часов вечера. Неотложные дела задержали митрополита Антония и меня, и мы пришли в 6 часов, что лишило нас возможности услышать самые бурные речи. Потом мы узнали, что до нашего прихода собрание проходило чрезвычайно бурно: страсти бушевали, выступающие в выражениях не стеснялись, чтобы обвинить и очернить главное командование. В особенности поносили начальника штаба генерала Романовского. Один молодой офицер, подбежав к председательскому столу, бросил на него свой кошелек, крикнув: «Тут все мои деньги! Отдайте их (тут он прибавил дурное слово) Романовскому! Пусть только поскорее уберется из армии!» Очень резко, задорно, жестоко говорил полковник генштаба Манакин, только что назначенный генералом Деникиным на должность командира полка.
С нашим приходом страсти немного стихли и речи стали довольно спокойными. Слово было предоставлено митрополиту Антонию и мне. Митрополит Антоний не угадал момента, запел не в тон. невпопад: завел речь о благочестии, говорил о нарушении офицерами седьмой заповеди и тому подобном. Меня всегда удивляла какая-то поразительная, феноменальная нечуткость в подобных случаях этого безусловно способного, много знающего, талантливого человека. Не сумел он уловить момент, найти центр, ударить по струнам сердца, захватив внимание слушателей. Пожалуй, в этот раз он говорил неудачно как никогда. Говорил так. как будто пред ним стояла толпа деревенских баб, охочих до всякой болтовни, а не очутившаяся пред порогом жизни и смерти, взвинченная, озлобленная, ждущего огненного слова масса. Офицеры слушали его небрежно: некоторые, повернувшись к нему спиною, закурили папиросы... После митрополита Антония я сказал несколько слов. Митинг закончился решением, что окончательное постановление вынесет выбранная группа, заседание которой было назначено на следующий день. Митрополит Антоний и я были приглашены на это заседание.
6 марта состоялось заседание группы. Мы с митрополитом Антонием пришли к началу заседания. Председательствовал председатель Союза полковник Арндт (кажется, верно называю его фамилию). Присутствовало около 20 человек, все серьезные люди, 16 — в полковничьих чинах, 2 генерала (Лазарев, а другого по фамилии не помню) и два обер-офицера. Помещение было кошмарное. Крохотная комнатушка в крохотной лачужке, более походившей на собачью будку во дворе. Стены завешены солдатскими палатками. Вместо стульев какие-то грязные ящики... Однако рассуждения шли спокойно и деловито. Некоторое возбу-
538
ждение внес явившийся полковник Манакин, сообщивший, что его только что вызывал к себе генерал Романовский и объявил ему, что он будет предан военно-полевому суду, если опять позволит себе произнести подобную вчерашней речь. Сообщив об этом, Манакин покинул заседание.
Из бывших на этом заседании рассуждений нам стало ясно, что офицерская масса в большом волнении. Что она хочет добиться от главного командования быстрого проведения каких-то мероприятий, что в противном случае она готова на крайние эксцессы. Была высказана мысль о необходимости отправить к Деникину депутацию с определенными требованиями. Митрополит Антоний подхватил мысль о депутации и предложил собранию просить меня взять на себя миссию ознакомить Деникина с желаниями офицерства и просить его принять офицерскую депутацию. Собрание согласилось.
Не отказываясь от миссии, я, однако, поставил условие, чтобы собрание уполномочило кого-либо предварительной обстоятельно ознакомить меня: 1) от имени какого офицерства я буду говорить с Деникиным: 2) какие требования предъявляет офицерство: 3) в каком составе будет депутация.
Собрание сейчас же избрало депутацию из трех лиц — полковника Арндта, генерала Лазарева и полковника генштаба Темникова — и этим же лицам поручило во всем ориентировать меня.
В этот же день поздно вечером явились ко мне полковники Арндт и Темников. Когда я спросил их, от имени какого союза они будут говорить со мною, они объяснили мне, что их Союз обнимает не только все находящееся в г. Новороссийске офицерство, но и офицерство многих фронтовых частей. Дальше они сообщили мне, что настроение офицерства становится все более угрожающим. В последний момент страшной угрозой является появившееся в литографированном виде письмо генерала Врангеля к генералу Деникину. «Если это письмо станет известно толпе. не обойтись без взрыва. Мы принимаем все меры, чтобы скрыть его, и всевозможные усилия, чтобы хоть немного успокоить бушующие страсти», — сказал мне Арндт.
На мой вопрос, против кого именно особенно возбуждено офицерство, мне ответили, что главным образом ненависть кипит против генерала Романовского, которого считают злым гением Деникина и обвиняют во всевозможных гадостях, не исключая хищений; что не пользуются доверием и другие помощники Деникина — генералы Драгомиров и Лукомский. Офицерство, кроме того, возмущено нераспорядительностью власти, не принимающей мер к укреплению Новороссийска. Офицерство опасается, что при эвакуации оно будет так же брошено, как бросили офицеров в Одессе. «Если не принять са-
549
мых быстрых мер, — говорили мне мои собеседники, — то мы не ручаемся, что не произойдет невероятный скандал. Нам уже стоило большого труда, чтобы остановить готовившуюся вооруженную вспышку среди офицеров, хотевших перебить генералов Романовского, Драгомирова и Лукомского, а Деникину затем предъявить ультимативные требования».
Затем я задал им два вопроса: 1) чего хотят добиться офицеры, 2) дают ли они мне честное слово, что депутация, если примет ее генерал Деникин, ни в чем не выйдет из рамок вежливости и должного подчинения. Мои собеседники ответили мне: 1) желания офицеров сводятся главным образом к следующему: а) к устранению генерала Романовского и некоторых других, б) к предоставлению офицерству права чрез своих представителей наблюдать за укреплением г. Новороссийска и за ходом эвакуации, в) к предоставлению ему же права организовать свои отряды для защиты города; 2) на второй вопрос они ответили утвердительно.
На следующий день, в пятницу, в 11 часов утра я отправился к Деникину, чтобы исполнить возложенную на меня миссию. Когда я подходил к поезду главнокомандующего, стоявшему у морской пристани, Деникин, окруженный множеством англичан и чинов своего штаба, возвращался в свой вагон. Я обратился к нему с просьбой сегодня же принять меня по спешному делу. «Не могу принять сегодня», — буркнул он и вошел в свой вагон. «А вы, Иван Павлович, можете уделить мне несколько минут?» — обратился я к Романовскому. «Пожалуйста, пойдемте в мой вагон!» — ласково ответил он. Я и он за мной вошли в вагон начальника штаба.
Генерала Романовского я хорошо знал по Академии Генштаба, когда в 1900-1903 гг. он учился в академии, а я был академическим священником. В 1904 г., во время Русско-японской войны, я служил с ним в 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В Великую войну я встречался с ним на фронте, когда он командовал полком, а в 1917 г. он был моим сослуживцем в ставке, где он занимал должность генерала-квартирмейстера. Всегда между нами были отличные сердечные отношения. Я всегда считал его честным, умным, усердным, самоотверженным офицером, сердечным человеком. Я никогда не допускал мысли, чтобы Романовский мог пойти на какую-либо гадкую, недостойную офицера сделку со своей совестью.
За время совместной с ним службы в Добровольческой армии я не разочаровался в нем. Напротив, при своих ходатайствах за униженных и оскорбленных, я убедился, что этот для многих казавшийся сухим и черствым человек обладал весьма чутким и отзывчивым сердцем.
Но Добровольческая армия ненавидела Романовского. На Романовского валили все, в чем была повинна и неповинна власть.
550
Романовского, можно сказать, обвинили во всем, в чем только можно обвинить человека: даже и в измене, и в хищениях, и во франк-масонстве.
Я не стану утверждать, что Романовский как начальник штаба, как ближайший советник главнокомандующего никогда не делал ошибок. И в ту пору, когда наша государственная машина была в порядке, когда пути жизни были ясны и определенны, даже лучшие наши государственные деятели не были свободны от грехов и ошибок. Теперь же, когда наша государственная машина была сломана, настоящее и будущее наше темны, когда старые пути оказались негодными, а новые еще не были проложены. ошибки и промахи были неизбежны для всякого. Романовский же, кроме того, принимал на себя и чужие ошибки. Когда-нибудь раскроется, как он, защищая главнокомандующего от ударов, самоотверженно подставлял под эти удары свою голову. Я понимал неосновательность нападок на Романовского, жестокость обвинений, предъявленных ему на собрании 5 марта. Нелегко мне было сообщать ему об отношении к нему офицерства, но это было необходимо для его же пользы, он должен был знать о том.
Когда мы вошли в вагон, я попросил закрыть двери, чтобы кто-нибудь не подслушал нас. Иван Павлович закрыл двери. Мы уселись около его письменного стола. Скрепя сердце я начал говорить ему о развившейся в Добровольческой армии ненависти к нему — слепой, не знающей границ, способной на что угодно. Ни остановить ее сейчас, ни ослабить нет человеческих сил и способов. Ее могут рассеять лишь постепенно здравый смысл и время. «В чем же обвиняют меня в армии?» — скорбно спросил Романовский. «Во всем, дорогой Иван Павлович, решительно во всем, в чем только можно обвинить человека! Злоба слепа и бессердечна». — ответил я. «Ну а, например, в чем?» — опять спросил он. «5 марта на офицерском собрании, между прочим, утверждали, что вы из Новороссийска отправили целый пароход табаку. Я знаю, что это ложь, но сообщаю, чтобы вы знали, что злоба против вас и клевета перешли всякие границы. И еще многое...» — сказал я. Романовский, все время не спускавший с меня глаз, при этих словах повернул голову в сторону и, облокотившись, закрыл лицо рукой. Видно было, что тяжко он страдал. Я замолк на минуту... А потом продолжил: «Поверьте мне как искренно расположенному к вам человеку, что сейчас у вас нет средств бороться с этой клеветой! Что бы вы ни сказали, какие бы доводы ни представили, вам не поверят, всех вы не убедите, клевета не смолкнет. Пока вы можете реагировать только одним способом: уйти от службы в отставку. И вы для пользы дела, ради своей семьи обязаны это сделать!» Тут я подробно обрисовал настроение бродившей по Новочеркасску офицерской массы, ска-
551
зал о готовившемся нападении на него и на других генералов, о возможности вооруженного восстания и так далее. «Уйдите, Иван Павлович, уйдите как можно скорее!» — закончил я.
Когда я кончил. Романовский уже спокойно ответил мне, что он давно хочет уйти, зная о ненависти к нему в армии, что он уже несколько раз просил главнокомандующего об отставке, но всякий раз получал отказ, что он и сейчас готов уйти с места, хоть и смущает его то, что как солдат он не должен бежать с поста в самую трудную минуту. «Но я знаю, что главнокомандующий и теперь откажет мне. — закончил он. — Опять скажет уже не раз слышанное мною от него: что я у него единственный человек, которому он во всем верит, что он сообщает мне даже такие тайны, которые не доверяет жене. Попробуйте вы повлиять на него! Авось он вас послушает». «Только что я просил главнокомандующего принять меня сегодня — он отказал мне, — сказал я Романовскому. — Время не терпит. Убедите вы его, чтобы он принял и выслушал меня!» Романовский обещал сделать это. Мы расстались.
Прибывшим ко мне вскоре, чтобы узнать о результате моих переговоров с Деникиным, полковникам Арндту и Темникову я сказал, что главнокомандующий очень занят и аудиенция моя отложена на завтра. Весь день я не уходил из дому, поджидая приглашения к главнокомандующему. Не получивши, я на следующий день, в субботу, в девятом часу утра направился к поезду Деникина. Вызвав из поезда адъютанта Деникина полковника Шапрона, я попросил его доложить главнокомандующему, что я настойчиво прошу принять меня по чрезвычайно серьезному и спешному делу. Минуты через две Шапрон сообщил мне, что главнокомандующий примет меня через полчаса, как только уедет от него его жена. Пришлось ожидать. Наконец госпожа Деникина уехала. Меня пригласили в вагон, но мне пришлось просидеть там еще около часу, так как на докладе у главнокомандующего был генерал Романовский. Выйдя по окончании своего доклада из кабинета Деникина. Романовский пригласил меня: «Пожалуйте! Главнокомандующий ждет вас». Я вошел в кабинет Деникина.
Деникин, как всегда серьезный и мрачный, сидел за столом на диване. Молча протянув мне руку, он пригласил меня сесть у стола. Я начал свой печальный доклад с предупреждения: все, что я буду докладывать, уже сказано мною генералу Романовскому. Затем я подробно доложил ему о настроениях в офицерской массе, о ненависти к Ивану Павловичу, о собиравшихся бурных митингах, о готовившемся нападении на генерала Романовского и на других генералов и прочем. Не утаил ничего. Когда я сказал, что на собрании офицеров в банке присутствовали митрополит Антоний и я, Деникин сердито заметил: «А митрополиту Антонию-то что на-
552
до было в этом митинге?» «Мы с митрополитом Антонием были приглашены возглавляющими офицерский Союз благонамеренными полковниками и пошли на собрание не затем, чтобы митинговать. а затем, чтобы своим присутствием и словом сколько-нибудь утишить пыл возбужденного собрания и предупредить крайние решения», — ответил я. Осветивши положение дела, я просил Деникина освободить генерала Романовского от должности. «Вы думаете, что это так просто сделать? — с дрожью в голосе сказал Деникин. — Сменить... Легко сказать!., мы с ним, как два вола, впряглись в один воз... Вы хотите, чтобы я теперь один тащил его... Нет! Не могу!.. Иван Павлович — единственный у меня человек, которому я безгранично верю, от которого у меня нет секретов. Жене я не говорю того, что доверяю ему. Не могу я отпустить его...» «Вы не хотите отпустить его. Чего же вы хотите дождаться? Чтоб Ивана Павловича убили в вашем поезде, а вам затем ультимативно продиктовали требования? Каково будет тогда ваше положение? Наконец, пожалейте семью Ивана Павловича!» — решительно сказал я. Деникин после этого нервно вытянулся, закинув руки за голову, закрыв глаза и почти простонал; «Ох, тяжело! Силы духовные оставляют меня...».
Офицерскую депутацию Деникин решительно отказался принять. Когда я стал убеждать его, что в депутацию избраны люди почтенные, серьезные, благонамеренные, что стоящие во главе офицерской организации исполнены самого искреннего желания помочь ему, он категорически заявил: «Не просите! Все равно не приму. Вы чего хотите, чтобы я совдепы начал у себя разводить? Покорно благодарю!»
«А мне-то можно посещать офицерские собрания? — спросил я. — Из вашего замечания по адресу митрополита Антония я заключаю, что вы и моего присутствия на офицерских собраниях не одобряете. Я должен предупредить вас, что бывать там мне и неприятно, и тяжело. Я считал доселе, что мое присутствие, мое слово может остановить кого-либо. Если вы думаете иначе, я больше не пойду туда». «Нет, можете посещать!» — коротко ответил Деникин. На этом наш разговор кончился.
Полковникам Арндту и Темникову я сообщил, что главнокомандующий по особым причинам не может принять депутацию. А на другой день вышел приказ главнокомандующего, запрещающий сборища офицеров и грозивший самыми строгими мерами наказания всем нарушителям военной дисциплины.
Кажется, 12 марта мы покинули Новороссийск, перебравшись в Феодосию. По приезде туда генерал Романовский был освобожден от должности начальника штаба. Одновременно с этим пошли слухи, что и Деникин оставляет армию. Никто, однако, не хотел верить этому. В Феодосии я поселился на подворье Топловского женского монастыря.
553
22 марта, в Вербное воскресенье, я в соборном монастырском храме совершал литургию. Было много причастников. Служба затянулась. Несмотря на это. И.П. Романовский дождался не только окончания литургии, но и моего выхода из церкви. «Я пришел проститься с вами. Уезжаю. Благословите на дорогу!» — обратился он ко мне. Я благословил его просфорой и пошел провожать его. «Вы не сердитесь на меня. Иван Павлович, за мою беседу с вами 7 марта? — спросил я его. — Я смело говорил с вами. ибо верил, что вы поймете меня. Поймете, что мною руководит доброе чувство к вам». Он уверил меня, что в этой беседе он увидел только новое доказательство моей любви. Мы шли до моря около версты. Я старался утешить и подкрепить его надеждой, что сплетшиеся около его имени злоба и клевета рассеются, а правда засияет. У моря мы простились... Не думал я. что прощаемся навсегда.
Рано утром в понедельник мне сообщили, что вчера вечером неожиданно для всех, ни с кем не простившись, уехал на миноносце генерал Деникин. С ним уехал и генерал Романовский.
Деникинская эпопея кончилась...
***
Все доселе о Соборе 1919 г. изложенное было записано мною в 1919-1920 гг. Теперь, в 1943 г., может показаться странным, что тогда серьезно, с затратой времени и нервов, долго и бурно обсуждались вопросы: где быть ВВЦУ, в Екатеринодаре или в Новочеркасске: кому быть членом ВВЦУ. графу Апраксину или графу Мусин-Пушкину. Могут казаться нестоящими внимания и такие вопросы: кто и как открывал Ставропольский поместный Собор: кому первому пришла мысль о необходимости высшей церковной власти на территории, занятой Добровольческой армией, хорошо или худо поступил генерал Деникин, признав верховным правителем адмирала Колчака? Но. во-первых, история не брезгует никакими фактами. А во-вторых, из-за картины всего происходившего и на Ставропольском Соборе, и в Добровольческой армии выглядывает лик старой России, не только болевшей многими недугами, приведшими ее к невероятным страданиям, но и изобиловавшей многими доблестями, ее возвеличивавшими. Роль Добровольческой армии для многих и доселе остается неясной. Многие судят о ней по тому отрицательному, что. к сожалению, случалось и на фронте, и в тылу, по тому, о чем мечтали некоторые ее участники, офицеры-помещики, не имевшие ни разума, ни мудрости, чтобы примириться с потерей своих достояний: наконец, по тем насилиям и грабежам, которые имели место в армии и в судьбе ее сыграли роковую роль. И многие забывают, что вожди Добровольческой армии, генералы Алексеев, Корни-
554
лов, Деникин, Марков, Романовский, Дроздовский и другие, как и многочисленные ее участники, были воодушевлены самыми чистыми, светлыми, благородными порывами и все стремились только к одному: чтобы вывести свою Родину на путь свободной и счастливой жизни. Все они были демократами в истинном смысле этого слова: они до самозабвения любили свой народ, верили в огромные, еще не развернувшиеся и не использованные (ибо он продолжал еще находиться не по своей вине в невежестве) его силы и хотели вывести его на широкий путь творческой работы. Собой они самоотверженно жертвовали, но своего не искали. Одни из них погибли, другие со смиренным терпением переносят все невзгоды беженского существования, не переставая горячо любить свою Родину и мечтая как о самом великом, возможном для них счастье — остатком своих сил поработать на родной земле. Возглавлявшаяся ими армия имела свои недостатки, свои недуги, многие тяжкие грехи, но она же изобиловала удивительными примерами истинно русской доблести, мужества, самоотвержения, беспримерного героизма.
Добровольческое дело 1917-1920 гг., может быть, когда-нибудь будет признано недоразумением: своя своих не познаша. Может быть, Добровольческая армия принесла не только пользу, но и вред России. Может быть, без обильно пролитой в Гражданской войне русской крови скорее возродилась бы Россия. Но в защиту Добровольческой армии надо сказать, что она явилась благородным и самоотверженным протестом против тех крайностей, с какими выступила в октябре 1917 г. новая власть: объявлением религии опиумом для народа, отрицанием собственности. свободного труда и полным пренебрежением к человеческой личности. Россия тогда разделилась на два лагеря, между которыми оставалось, однако, неразрушенным одно звено: и те и другие — русские люди. Большевики и антибольшевики — преходящие явления. Большевизм как крайнее учение не может не умереть: исчезнет тогда и антибольшевизм, с ним борющийся. Но Россия, русский народ должны быть вечны. Должен поэтому наступить момент, когда продолжающие принадлежать к разным лагерям, но одинаково честно любящие свою Родину и готовые самоотверженно служить ей русские люди поймут друг друга, забудут прошлое, протянут друг другу руки и начнут совместными усилиями возвеличивать измученную за последние 30 лет свою Родину.
555
XXXVI. Самокритика.
Новый главнокомандующий.
Мой отъезд из Добровольческой армии
Если бы кто спросил меня, доволен ли я своей работой в Добровольческой армии, я ответил бы ему, что совершенно недоволен. В течение всей Великой войны я находился в беспрерывном общении и с войсками, и с духовенством, а во время Гражданской войны я был далек и от войск, и от военного духовенства. Я не имел возможности посещать войска, так как они были в постоянном движении: не посещая войска, я не мог наблюдать за работой духовенства. Если бы не тыловая работа по разрешению разных вопросов церковного характера, с которыми ко мне беспрестанно обращалось командование, не организация Ставропольского поместного собора и не участие затем в Высшем церковном управлении на юге России, я считал бы свое пребывание в Добровольческой армии совсем напрасным. Но эта тыловая работа не удовлетворяла меня: я привык к общению с войсками, к постоянному наблюдению за работой подчиненного мне духовенства, к направлению этой работы.
Однако было еще одно обстоятельство, которое подрывало мою энергию и в некотором отношении духовно угнетало и даже опускало меня. Я ушел в Добровольческую армию, не находя в себе сил примириться с направлением, принятым советскою властью. с отрицанием тех устоев, без которых, по моему разумению, не может строиться человеческая жизнь, с глумлением над религией, семьей, почитанием родителей и старших, с теми неправдами, насилиями, грабежами, которые производились разными органами советской власти, в первое время ее существования часто составлявшимися из негодных элементов. Я ушел в Добровольческую армию, кроме того, поверив ее вождям; Алексееву, Корнилову, Деникину, Маркову, которых я хорошо знал как преданнейших и самоотверженнейших сынов своей Родины, никогда не искавших для себя ни славы, ни выгоды. Я верил в глубокую идейность и высокую прогрессивность этих вождей, не сомневаясь в то же время в их способности в случае победы разумно, должным образом устроить русскую жизнь.
Прибыв в Добровольческую армию, я нашел вождей такими же идейными, бескорыстными, самоотверженными, какими я знал их в прежнее время. Но армия была не такой, к какой привык я в прежние годы: в нее влилось много нежелательных элементов-шкурников, бывших помещиков, озлобленных против захвативших их земли крестьян, мечтавших не о возрождении Родины, а о возвращении захваченных имений и о вымещении своей злобы на «взбунтовавшихся рабах», как они называли посягнувших на их достояние крестьян. Пьянство, грабежи, даже
556
ужасающие жестокости процветали почти во всех частях армии. Даже некоторые высшие начальники, генералы, прогремели своими безобразиями: командовавший армией Май-Маевский — пьянством и развратом, Мамонтов — грабежами, Шкуро — дебошами и грабежами. Среди рядовых офицеров встречались садисты, для которых мучить других, издеваться над их страданиями являлось высшим наслаждением. Я знал некоторых из них. Мне противно вспоминать их лица и фамилии.
Я скоро убедился, что с такой армией нельзя восстановить России. О своих наблюдениях и прогнозах я сказал начальнику штаба генералу И.П. Романовскому, которого я знал издавна как безукоризненно честного, морально безупречного человека. Его ответ обескуражил меня: «Знаем мы и о грабежах, и о пьянстве. Но что мы можем сделать? Запретить и то и другое — воевать не станут...» Такая армия, решил я, не может спасти Россию. Порвалась нежная цепь, которая должна была соединять меня с Добровольческой армией. Жаль мне было честных, самоотверженных вождей, понимавших, что страшными недугами болеет их армия, и в то же время не перестававших верить, что какое-то чудо должно спасти их чистое дело. Мне хотелось помочь армии, чтобы она стряхнула с себя эту душевную немочь и своей чистотой привлекала к себе народ, а не пугала его своими бесчинствами и жестокостями. Но не было человеческой силы, которая могла бы сразу возродить, пересоздать сотни тысяч людей, продолжительною войною развращенных, ожесточенных и, кроме всего этого, политически разрозненных: в рядах войск, а еще более в тылу и даже в Высшем управлении не прекращалась борьба крайних правых, умеренных и левых партий, каждая из которых мечтала властвовать и насаждать свои порядки в будущей России. Все это угнетало, обессиливало, духовно расслабляло меня. В таком положении застала меня смена главнокомандующего.
После отказа генерала А.И. Деникина от власти старшие начальники армии, собравшись в Севастополе, избрали на его место генерала П.Н. Врангеля, находившегося в то время в Константинополе.
Барона П.Н. Врангеля я знал довольно хорошо. Он поступил на службу в лейб-гвардии Конный полк по окончании курса Горного института. Курс Академии Генштаба он окончил в 1910 г., когда я служил там священником академической церкви. По окончании академического курса Врангель в Генштаб не пошел, а остался на службе в своем полку. В Великую войну он прославился налетом своего эскадрона на немецкую батарею, увенчавшимся захватом батареи, но стоившим жизни нескольких офицеров. Любили у нас такие безумные номера. Врангель украсился тогда орденом Георгия 4-й степени и славой неустрашимого офицера.
557
В Гражданской войне Врангель слыл за лучшего командующего армией. Его считали более талантливым военачальником и более зрелым и ловким, чем Деникин, политиком. В моральном отношении Деникин и Врангель были людьми разными. Деникин был слишком честен, даже в самых исключительных условиях и случаях он никогда не поступался своею совестью и долгом. Как я сам наблюдал и как мне говорили другие, Врангель принадлежал к числу тех людей, о которых в старину у нас говорили; «Для красного словца он не пожалеет и родного отца...» Для успеха дела, для своей славы Врангель мог поступиться чем угодно.
Вступление Врангеля в должность главнокомандующего не могло предвещать мне ничего доброго. Мне сообщали, что в 1919 г. Врангель очень обиделся на меня за то. что я не исполнил его просьбы приехать в г. Царицын, где тогда помещалась его ставка, для совершения торжественного богослужения по случаю дня его ангела (29 июня). А кроме того, у него пред отъездом в Константинополь завязалась большая дружба с епископом Вениамином Севастопольским, викарием Таврической епархии.
О епископе Вениамине — ныне он митрополит — надо, сказать несколько слов. Я помню его с академической скамьи: он был на два или на три курса моложе меня. Тогда уже в нем замечались два как будто несходных, но в старой России нередко наблюдавшихся качества: с одной стороны, талантливость, а с другой — бесталанность, выражавшаяся в какой-то неуравновешенности, непостоянстве, склонности к эксцентрическим выходкам. Таков был, таким и до старости остается он, теперешний митрополит, по какому-то недоразумению посланный на одну из самых ответственных российских кафедр — в Ригу, где в особенности требуются и мудрость змеиная, и кротость голубиная, и строгая размеренность действий. Достаточно сказать, что он все время перебегал: от карловцев к Евлогию, от Евлогия опять к карловцам, потом из карловцев в Америку, в Америке — от противников Московской Патриархии к этой патриархии. Патриарх Сергий по безграничной своей доброте и всепрощению сделал его своим экзархом в Америке и возвел в сан митрополита, преемник Сергия Патриарх Алексий переместил его в Ригу. Я считаю, что более неудачного назначения нельзя было сделать: в Риге протестанты, католики, большой старообрядческий центр; все православное население делится на две части — латышскую, считающую себя хозяйкой положения, и русскую, к которой первая относится как к пришлой. И в такую епархию послан архипастырь с белым клобуком, но без руля и ветрил. Кажется, в Москве уже поняли допущенную ошибку. Но меня удивляет, как они раньше не могли заметить ее, прежде чем Вениамин прибыл в Ригу.
У Врангеля с Деникиным при их совместной службе не было добрых отношений. Врангель не соглашался с многими распоря-
558
жениями Деникина и открыто, резко критиковал его. Деникин знал это и очень обижался на Врангеля. Вениамин познакомился с Врангелем в то время, когда звезда Деникина закатывалась, а имя Врангеля начинало упоминаться все чаще. Вениамин заметил это и начал разными способами ублажать Врангеля, что очень пришлось по вкусу честолюбивой натуре этого полководца. Я не присутствовал при сокровенных беседах Вениамина с Врангелем, но представляю, как первый старался возвеличить последнего, когда на торжественнейшем параде 25 марта 1920 г. в Севастополе, обратившись к Врангелю, он повышенным голосом произнес: «Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Из контекста речи ясно было, что под Церковью Вениамин разумел тут Российскую державу, а под вратами адовыми — советскую власть. Другие говорили мне, что Вениамин уверял Врангеля, что он уже видит царскую корону на голове его. Как тут было Врангелю не полюбить Вениамина?
Не в мою пользу было и то, что ко мне очень хорошо относился Деникин. Может быть. Врангелю было доложено и то, что я неодобрительно относился к его публичной резкой критике действий Деникина.
Первая моя встреча с Врангелем по вступлении его в должность главнокомандующего произошла в Страстной понедельник. 23 марта, на военном корабле, где он тогда помещался. Беседа наша была очень краткой. Он сказал мне, что вызовет меня в один из ближайших дней для обстоятельной беседы о духовных нуждах армии.
На Благовещенье, 25 марта (это был день полкового праздника лейб-гвардии Конного полка), по случаю вступления Врангеля в должность главнокомандующего на севастопольской площади после совершенной во Владимирском соборе литургии происходил огромный парад. В собор к литургии прибыл и Вениамин, ради парада пожертвовавший службой в своем соборе. Под конец литургии он заявил мне, что желает участвовать в крестном ходе на площадь. Я ответил ему, что возглавлю этот ход.
На параде были представлены все части, составлявшие Добровольческую армию. Я воспользовался случаем, чтобы со всей откровенностью высказаться перед ними. «От имени пророка говорю вам: если не покаетесь и не исправитесь, все погибнете» (Ис. 1, 18-20), — так начал я свою речь. Дальше я говорил о том, что воины должны уяснить себе: почему это их встречали с благословениями, а провожали их при отступлении с проклятиями: что святое дело нельзя делать грязными руками и так далее. Врангель нервничал во время моей речи. Видно было, что не по сердцу пришлась она ему. После меня выступил Вениамин. «Протопресвитер сказал, что вы погибнете, — начал он свою речь. —
559
А я, епископ, говорю вам: нет, не погибнете!» И затем, обратившись к Врангелю: «Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16, 18-20). И так далее. Во время речи Вениамина просиял Врангель.
Во все последующие дни Страстной седмицы я совершал богослужения, хотя жестокая крымская лихорадка измучивала меня. На 12 Евангелиях, на выносе плащаницы, на отпевании, в пятницу вечером Врангель присутствовал на моих богослужениях. В субботу утром он исповедовался и приобщался у меня. В субботу вечером я окончательно свалился с ног — температура поднялась выше 40°, совершать пасхальную службу я не мог. Вернувшийся из собора протоиерей Г.С. Спасский, у которого я жил и который замещал меня в соборе, сообщил, что Врангель осведомлялся по поводу моего отсутствия и выразил сожаление о моей болезни, пожелав мне скорого выздоровления. В 10-м часу дня первого дня Пасхи адъютант Врангеля передал мне пакет, содержавший извещение об увольнении меня от должности протопресвитера и командировании меня за границу «для обследования духовных нужд и устроения этой стороны русских беженцев...» Бумага была подписана Врангелем в Великую субботу, 28 марта, значит, после исповеди у меня. Как будто на исповеди у нас не произошло ничего особенного, что дало бы повод к такому номеру. На мое место был назначен Вениамин. В скором времени он доказывал Врангелю, что надо огромным, торжественнейшим крестным ходом выйти против большевиков, тогда не устоят они. Врангель не согласился. Как-то теперь Вениамин прислуживается Советам?..
Откровенно сказать, я не огорчился бы освобождением от возглавления духовенства армии. У меня уже не было тогда сомнений, что дни Добровольческой армии сочтены. Но обстановка увольнения не могла не огорчить и не возмутить меня: увольнение делается тотчас после исповеди у меня, в Великую субботу, во время постигшей меня тяжкой болезни, по поводу которой мне высказывается сочувствие и пожелание скорейшего выздоровления, приказ присылается мне утром первого дня Пасхи вместо красного яичка, — все это свидетельствовало об отсутствии у нового главнокомандующего морального чутья. Совершенно отвергаю мысль, что он таким образом хотел поиздеваться надо мной. Думаю, что он не сообразил, что этот номер выйдет у него исключительно неудачным.
В конце 1920 г., как известно, закончила свое бытие Добровольческая армия. Вскоре после этого ко мне заехал бывший очень близким к Врангелю А.И. Пильц со специальной целью — помирить меня с Врангелем, поручившим ему достичь этого. «Генерал Врангель, — сказал мне Пильц, — очень хочет примирится с вами. Он сознает, что сделал тогда большую ошибку,
560
освободив вас от возглавления армии, и просит вас забыть происшедшее. В епископе Вениамине он потом горько разочаровался и часто вспоминал вас». «Врангель имел полное право духовно возглавить армию тем лицом, которое ему больше нравилось. И я не мог обижаться, что Вениамин ему нравился больше, чем я. Но я и доселе не могу примирится с тем, как он меня уволил: в Великую субботу, поисповедовавшись у меня, а приказ о моем увольнении прислал в 10-м часу дня, в первый день Пасхи, значит, вместо пасхального яичка, зная о моей тяжкой болезни. Можно было подумать, что таким способом он хотел доконать меня. Другой на моем месте не вынес бы такого удара», — ответил я Пильцу. «Да, он нехорошо поступил тогда и теперь раскаивается в этом, — сказал Пильц. — Теперь он был бы очень доволен, если бы вы согласились занять место протопресвитера при его штабе». «Поблагодарите генерала Врангеля за такое внимание, но я решительно отказываюсь от чести служить при его штабе», — ответил я. С Врангелем я после того не встречался. Виделся с его женой, когда она приезжала в Софию. Ни она, ни я ни одним еловом не обмолвились о бывшем недоразумении между ее мужем и мною.
Из Севастополя я выехал в конце апреля, после того как совершенно оправился от своей болезни. Тяжело было расставаться с Севастополем. Тяжкое предчувствие, что едва ли придется опять увидеть русскую землю, мучило меня. Ехал в неизвестность, но старость еще своей убийственной рукой не коснулась моих сил и энергии: я верил, что и в чужих землях не останусь без дела и куска хлеба.
В Константинополе я задержался, чтобы ознакомится с состоянием русского православного дела в самом городе и на островах. Приятно было видеть, что самая незначительная русская колония опешила обзавестись собственной церковью и священником и везде налаживалось хорошее совершение богослужений. В Константинополе я встретил Кишиневского архиепископа Анастасия, бывшего московского викария. На острове Халки я нашел нескольких знакомых: бывшего своего академического профессора протоиерея А.П. Рождественского с семьей, почти целый причт Николаевского адмиралтейского собора — протоиерея Доримедонта Твердого, священника Михаила Малявинского и многих светских. В Константинополе я нашел еще больше знакомых: посла Нератова, походного кубанского атамана генерала Вячеслава Григорьевича Науменко, известного московского профессора-хирурга И.П. Алексинского и многих других. В Константинополе побывал в Патриархии, где с почетом был принят заместителем Патриарха (самого Патриарха не было), а на острове Халки — в Халкинской духовной семинарии, где тогда ректорствовал теперешний Западноевропейский патриарший
561
экзарх митрополит Германос, очень приветливо встретивший меня. Конечно, повосхищался чудной Святой Софией, и по обращении ее в мечеть не потерявшей красоту, святость и притягательность для каждого православного христианина.
Когда я выезжал из Севастополя, у меня не было определенного решения, где я должен буду задержаться для более или менее определенного жительства. Я имел в виду посетить Константинополь, Болгарию и Сербию, где уже успело скопиться значительное число беженцев. И Врангель, и Высшее церковное управление на юге России предоставили мне полную свободу в выборе маршрута. В Константинополе сербский дипломат Спалайкович, служивший послом в России и хорошо знавший меня, убедил меня осесть в Белграде. «Король Александр, — говорил Спалайкович, — хорошо знает и очень уважает вас. Он рад будет оказать вам полное гостеприимство. Жалеть не будете». 19 мая я выехал из Константинополя, решив по пути остановится на некоторое время в Софии, чтобы ознакомится с состоянием русского духовного дела в Болгарии.
Прибыв в Софию, я прежде всего отправился в Священный Синод. Там в первую очередь познакомили меня с архимандритом Стефаном (будущим митрополитом Софийским и экзархом Болгарским) как с самым большим другом России. Он встретил меня необыкновенно любезно. Узнав, что я решил обосноваться в Сербии, он бурно запротестовал: «Ни за что не отпустим вас в Сербию! Вы останетесь у нас. Мы открываем Высшее богословское училище — академию, нам нужны профессора. Священный Синод на любую кафедру назначит вас». В следующий день архимандрит Стефан сообщил мне. что Священный Синод согласен назначить меня на профессорскую кафедру. Это было 21 мая. Но вернусь к 20 мая.
Побывав у архимандрита Стефана, я встретил в Синоде своего давнишнего знакомого — однокашника по академии митрополита Охридского Бориса. В академии он был на три года старше меня. Но он хорошо помнил меня, и я не забыл его. Теперь его епархия была взята сербами, а он состоял членом Синода. В академии нашей он был общим любимцем: всегда жизнерадостный, благодушный, остроумный, прекрасный товарищ и милый собеседник — его знали и любили и старшие, и младшие. Мы встретились как друзья. Узнав, что у меня было намерение осесть в Сербии, он тоже запротестовал: «И не думайте об этом! Не отпустим вас! А пока вот что нам надо сделать: сейчас адмиральский час, вам, я думаю, хочется подкрепить свои силы. Пойдем-ка в ресторанчик! Там мой знакомый ресторатор хорошо угостит нас».
Если бы у нас в России в старое время митрополит со своим приятелем уселся в ресторане обедать, завопил бы весь город, зазвонили бы все российские колокола. Меня заинтересовало, как
562
это я с митрополитом в ресторане на глазах публики буду обедать, и я принял предложение.
Ресторан Батенберга, где мы собирались обедать, находился вблизи собора Святой Недели в полуверсте от Синода. Мы шли около часу, потому что на каждом шагу митрополит встречал знакомых, при встрече с каждым у него появлялась улыбка и находились самые ласковые слова. Получалось впечатление, что почти все горожане были добрыми знакомыми его. Всех встречных митрополит называл по имени: Колю, Ваню. Митко, Сашо: пожилым прибавлял — Бай, Бай Тодор, а старика назвал Дедо Кристо. Все встречные называли митрополита Бориса Дедо Владика и целовали ему руку. Все разговоры вертелись около вопросов, как живешь, как жена и дети, куда идешь, давно ли видел такого-то и тому подобных. Признаться, я был очень рад, когда кончилось наше путешествие и мы вошли в ресторан.
В вестибюле нас встретил хозяин. По его обращению с митрополитом Борисом я заключил, что мой митрополит бывал тут частым гостем. Сквозь стеклянные двери вестибюля видно было, что ресторанный зал переполнен. Митрополит Борис направился в хозяйское помещение, расположенное рядом с залом, в вестибюле. В этой отгороженной стеклянными рамами каморке могли усесться три-четыре человека. Я и хозяин последовали за ним. «Познакомься, Бай Христо, с моим гостем! — обратился митрополит Борис к хозяину. — Мы вместе учились в академии. Потом в России большим человеком был: всеми русскими военными и морскими священниками управлял, с царем каждый день обедал. Пока зал поосвободится, угости-ка ты нас такой сливовой, какой мой гость и у царя своего не пивал! Да и хорошенького мезе (закусочки) поднеси нам!»
Хозяин не замедлил поднести нам две рюмки сливовой и болгарскую закуску. Раньше мне не приходилось пить сливовую, в России она не употреблялась. Мне она показалась очень приятной, ароматной. Я и теперь удивляюсь, почему это болгары не позаботятся о большем распространении этого продукта, лучшего и русских водок, и русских и болгарских коньяков? «Не повторим ли?» — спросил меня митрополит Борис. Я охотно согласился. Когда зал поосвободился, мы вошли туда и заняли один из столиков. Накормили нас нехудо: вкусным супом (по-болгарски — чор-бой), жареной индейкой и компотом. Пили мы за обедом болгарское вино, уступавшее, конечно, подававшимся за царским столом, но все же неплохое.
Кончая обед, митрополит Борис обратился ко мне: «Не проехать ли нам теперь в Горну-Баню. Это пригород Софии, в восьми километрах от нее. Там приятно выкупаемся в минеральной воде, потом подышим приятным воздухом и закусить в тамошнем ресторане можем». Я согласился. До Горно-Банского шоссе
563
мы ехали в трамвае, где митрополит Борис встретил многих своих знакомых и с каждым успел побеседовать, а от Горно-Банского шоссе до бани — на повозке.
Баня мне очень понравилась: чистота безукоризненная, вода приятная, очень теплая — 38°. Выкупался я с наслаждением. После бани мы с полчаса отдохнули в кабинах. А затем последовало новое предложение митрополита: «Зайдем-ка теперь в этот кабачок, что против бани! Хозяин угостит нас хорошим шашлычком. И вино недурное у него найдется. После бани закусочка будет приятна». Я и тут согласился.
Кабачок помещался в низенькой и старенькой, еще турецкого времени избушке. Войдя в единственную его комнату, митрополит Борис встретился с пожилым хозяином как со старым добрым знакомым: «А, Бай Митко! Как поживаешь? Скажи что-нибудь новенькое! А чем же ты угостишь нас? Это — гость из Петербурга, знатный. Ты должен угостить его таким винцом и таким шашлыком, каких он и в Петербурге не видал». Бай Митко обещал угостить нас на славу. Вскоре на нашем столе появились и вкусный шашлык, и неплохое вино. После доброй бани и то и другое оказалось весьма благовременным. Мне как гостю митрополит Борис не позволил платить ни в ресторане, ни в этом кабачке. Так прошел первый день моего пребывания в Софии, давший мне немало ценных наблюдений.
У нас в дореволюционной России не только митрополит, но и самый маленький архиерей являлся человеком особого мира, ограниченным самыми сложными условностями. Он не мог ходить пешком по городу и даже ездить на извозчике, ездил он только в карете. Людям он показывался только в величии своего сана, не иначе как в рясе и клобуке, с панагией на груди; в храме — в архиерейских священных одеяниях, с атрибутами архиерейского сана. Об обыденных вещах он считал неудобным разговаривать с мирянами. А тут, в Софии, я увидел совсем иной тип митрополита, который ходил по улице в обыкновенной рясе и камилавке, без архиерейской панагии, ничем не отличаясь от рядового священника; запросто беседовал на улице с прохожими; ел и пил на людях в ресторане, не чуждался и захудалого кабачка, где соседом его за столом мог оказаться и простолюдин, и пропойца; не брезговал мясными блюдами, когда наши архиереи официально воздерживались от мясной пищи и только некоторые из них «тайно образующе» вкушали ее.
Поведение митрополита Бориса сначала показалось мне странным, не подобающим архиерею. Но потом я убедился, что оно не вредит спасению архиерейской души и не мешает пастырскому влиянию архиерея, если он умеет удерживаться в границах приличного и дозволенного. Напротив, при своей общительности, простоте и доступности архиерей легче находит
564
доступ к человеческим сердцам и своей человечностью может привлекать их.
Много раз после 21 мая 1920 г. я встречался с митрополитом Борисом. Однажды в 1921 г., когда в горячий летний день, уже под вечер, возвращаясь из города в семинарию, где я тогда жил, я проходил мимо открытого в саду ресторанчика на углу бульвара Графа Игнатьева и Евлогия Георгиева, меня кто-то окрикнул. Я заглянул через оградку. Там над морем голов сидевших за столиками гостей возвышались две камилавки, одна из них принадлежала митрополиту Борису. Поздоровавшись со мной, он крикнул кельнеру: «Цветко! Принеси еще одну большую халбу (кружку) пива!.. В такую жару приятно бывает выпить кружечку пива. Садитесь к нам!» — добавил он, обратившись ко мне.
Лет около десяти тому назад я в последний раз посетил умиравшего митрополита Бориса. Он лежал в больнице доктора Сарафова, что на площади против памятника Царю-освободителю. «Как чувствуете себя, владыка?» — спросил я. «Что чувствовать? Умираю, — спокойно ответил он. — Благодарю Бога, что Он дал мне возможность во время долгой и тяжкой болезни замолить мои грехи». «Может быть, нуждаетесь вы в чем-либо?» — спросил я. «В чем нуждаться умирающему? Помолитесь за меня! Больше ничего мне не надо», — с тем же спокойствием сказал он. «А владыки — члены Синода навещают вас?» — спросил я. «Когда же им навещать меня? Они слишком заняты... Впрочем, Неофит142 вчера был у меня. Не успел сесть, как начал свою песню: нас народ уважает, нас народ любит». И так далее. «Откуда ты знаешь, что народ так уважает и любит вас?» — спрашиваю я. Он отвечает: «Посмотрел бы ты, сколько народу собирается, как нас встречают и провожают, когда мы объезжаем епархии». «Чудак ты. Неофит! — сказал я. — Да если бы медведя одеть в наши архиерейекие одежды, а в лапы дать ему дикирий и трикирий, еще больше собралось бы народу. Теперь, умирая, я вину, что архиереи — это особого рода животные, которых естественная история еще не изучила». Юмор не покидал и умиравшего митрополита Бориса. Через два дня после нашего разговора он скончался.
XXXVII. Жизнь в Болгарии.
Моя литературная и преподавательская работа. Встречи и впечатления
Священный Синод разрешил мне поселиться в духовной семинарии, находившейся в полуверсте за городом, на высокой горе. Огромный сад окружал семинарское здание. Там я нашел несколько ранее меня прибывших в Софию своих соотечественников: бывшего ректора Одесской духовной семинарии, а потом
565
настоятеля Одесского кафедрального собора протоиерея Василия Антоновича Флоровского и своего бывшего профессора протоиерея А.П. Рождественского. Первый из них состоял исполняющим должность инспектора семинарии, второй, как и я. был назначен на должность профессора предполагавшегося Высшего богословского училища. Кроме самого хорошего ничего не могу сказать об обоих. Настоятелем посольской русской церкви в Софии в то время состоял бывший инспектор Киевской духовной академии архимандрит Тихон. Завистливый, жадный, сребролюбивый. он не сошелся ни с одним из нас. Скоро он получил назначение в Берлин.
В первый же день по своем прибытии в Болгарию я посетил русского дипломатического представителя Александра Михайловича Петряева. оказавшегося весьма умным дипломатом и приятнейшим человеком. До его отъезда в Сербию у меня не прекращались самые дружественные отношения с ним.
Ректором семинарии в то время был архимандрит Павел, питомец Санкт-Петербургской духовной академии (выпуск 1907 г.), в 1922 или 1923 г. избранный на кафедру митрополита Старозагорского и сравнительно недавно в шестидесятилетием возрасте скончавшийся. Русский питомец и по семинарии, и по академии, архимандрит, а потом митрополит Павел был лучшим представителем болгарского монашествующего духовенства, обладавшим солидными богословскими познаниями, большой скромностью и совершенной порядочностью. Если бы не некоторого рода его инертность, он мог бы быть ярким украшением Болгарской Церкви. С архимандритом Павлом у меня сразу установились самые дружественные отношения, не прекращавшиеся до самой его неожиданной кончины.
С 1 июля 1920 г. я начал получать из Синода жалованье по должности ординарного профессора Высшего училища. Занятий же иль обязанностей Синод не возложил на меня. Мне пришла счастливая мысль воспользоваться свободным временем и набросать свои воспоминания о войне 1914-1917 гг., главным образом о своем пребывании в Ставке Верховного главнокомандующего, пока еще события держались в моей памяти. Получился большой и, как уверяют меня познакомившиеся с ним, весьма интересный труд. Я лично считаю, что для истории он будет иметь немалое значение, так как он освещает много событий, известных только мне или никем не записанных, и касается весьма судьбоносного предреволюционного времени. Я уже получил несколько предложений за порядочные деньги продать этот труд. Но считаю, что еще не пришло время для опубликования его, и на все предложения ответил решительным отказом.
К концу 1920 г. Синод оставил мысль об открытии Высшего богословского училища. Мне была предложена преподаватель-
566
ская должность в пастырском училище, помещавшемся в Банковском монастыре, в 12 километрах от г. Станимака и километрах в 50 от Пловдива. Я с негодованием отверг это предложение, заявив, что не затем я остался в Болгарии, чтобы учительствовать в захолустных пастырских училищах. Меня тогда назначили преподавателем Софийской духовной семинарии.
В наших духовных семинариях назначенный преподавателем преподавал свой предмет до окончания своей учебной службы. Неудивительно, что вследствие этого у нас вырабатывались большие мастера школьного дела. Я с умилением вспоминаю своих семинарских учителей: Ф.И. Покровского, Н.М. Миловзорова, которые своими познаниями и мастерством преподавания превосходили моих академических профессоров. В болгарских семинариях введен иной порядок: там в начале каждого учебного года происходит распределение предметов между учителями, которым, таким образом, часто приходится расставаться со своими предметами. Я в течение трех с половиной лет состоял учителем семинарии, за это время мне пришлось преподавать церковную историю, пастырское богословие. Священное Писание Нового Завета (Евангелия и Апостольские послания) и Ветхого Завета (Учительные книги). Неудобство такой системы слишком было заметно, но ни Синод, ни педагогический семинарский совет не замечали его.
Состоя семинарским преподавателем, я сравнивал наших русских семинаристов с болгарскими. Разница замечалась значительная. Во-первых, наши были более подготовлены к прохождению семинарского курса. Наши духовные училища, где основательно проходились Священная история Ветхого и Нового Завета, катехизис, богослужение, славянский язык и ученики приучались к писанию сочинений, давали солидную подготовку. О латинском и греческом языках надо сказать, что они в наших духовных училищах проходились так серьезно, что семинарии мало добавляли к полученным нами по этим предметам знаниям. Болгарские семинарии заполнялись учениками прогимназий, где духовными предметами не интересовались, история Ветхого Завета начиналась с Авраама, славянский язык не преподавался, общее развитие у них было слабее, чем у наших, латинского и греческого языков они совсем не знали. Мне казалось, что и любознательности у них было меньше, чем у наших, они добросовестно заучивали заданное, но углубляться в предмет не любили. А что касается болгарских преподавателей, то они очень уступали нашим. Неудивительно, что иногда оканчивали семинарский курс большие невежды в богословском отношении. Один из таких окончивших курс Софийской духовной семинарии, будучи уже протоиереем в столице, на отпустах поминал: «Молитвами Успения Божией Матери... молитвами пренесения честных ве-
567
риг апостола Петра... молитвами усекновения главы Иоанна Крестителя» и тому подобное. А по-славянски редко кто не только из священников, но и из болгарских архиереев читает безукоризненно. Такие образованные богословы, какие у нас среди священников-семинаристов были обычным явлением, в Болгарии большая редкость.
За время моего пребывания в семинарии в моем положении произошли следующие перемены. В 1921 г. на второй неделе Великого поста уехал в Берлин архимандрит Тихон. Чтобы никому из нас троих не было обидно, мы — я, протоиереи Флоровский и Рождественский — сговорились по очереди замещать его. А А.М. Петряев возбудил ходатайство пред архиепископом Евлогием, которому тогда подчинялась посольская церковь в Софии, о назначении меня настоятелем этой церкви. Но Евлогий не мог забыть наших недоразумений по галицийскому униатскому вопросу и назначил «молодого и энергичного», как он сообщал, епископа Серафима, совсем недавно, 1 октября 1920 г., поставленного в Севастополе во епископа Лубенского, викария Полтавской епархии. Эта хиротония еще раз свидетельствовала о бесцеремонном обращении митрополита Антония с канонами, которые он уважал, когда они были ему выгодны, и ни во что их не ставил, раз они не услуживали ему. Вся Полтавская епархия в то время не была занята Добровольческой армией, и территория ее была подвластна в церковном отношении Московскому Патриарху, без согласия которого нельзя было поставить для нее епископа. Этот «молодой и энергичный» епископ Серафим потом доставил немало беспокойства и огорчения Евлогию. Все мы втроем остались служить при посольской церкви. К нам присоединился еще родной брат епископа Серафима иеромонах Сергий.
В 1921 г. я по приглашению доктора Мотта выезжал в Прагу для обсуждения вопроса об открытии Богословского института в Париже, вскоре затем и открывшегося. В начале марта 1924 г. я был приглашен на должность гонорованного доцента на богословский факультет Софийского университета по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. Меня привлекало пастырское богословие, изученное мною теоретически и еще более практически. В Святом Писании Ветхого Завета я совсем не чувствовал себя уверенно для академической кафедры. Но надоело мне возиться с семинаристами, перескакивая с одного предмета на другой, и я принял предложение, ставши титуляром этой кафедры, так как профессор для нее еще не был избран. А так как в то время на богословском факультете было всего три профессора: Н.Н. Глубоковский, протопресвитер С. Цанков и архимандрит Евфимий, то мне пришлось стать и членом факультетского совета. Труда прибавилось у меня много: к лекциям я не был подготовлен и мне приходилось усиленно готовиться к каждой лекции.
568
Потом на меня было возложено чтение представленной И.С. Марковским диссертации по Ветхому Завету, что явилось для меня не совсем легким делом.
Вскоре был объявлен конкурс на кафедру пастырского богословия. И я решил выставить свою кандидатуру. Пришлось ускоренным порядком писать диссертацию. Я неудачно выбрал тему для своей диссертации — о святом Афанасии Великом и его деятельности. В два месяца, имевшихся в моем распоряжении, нельзя было написать что-либо солидное, а я раньше вопросом о святом Афанасии не занимался. Сочинение мое оказалось, сознаюсь в этом, не таким, как мне желалось. Самой ценной частью его явилась библиографическая, благодаря моему товарищу по академии, священнику Лондонской русской церкви Василию Тихоновичу Тимофееву, приславшему мне превосходный список всех трудов о святом Афанасии. Сочинение мое было одобрено рецензентами протоиереем Н.Н. Глубоковским и протопресвитером Цанковым. Но архимандрит Евфимий, человек крайне своенравный и настойчивый, решил провести на эту кафедру своего любимца, окончившего в 1916 г. курс Московской духовной академии Стояна Петкова, и склонил на свою сторону профессора Михаила Еммануиловича Поснова, который, надо заметить, попал в профессора нашего факультета благодаря усилиям профессора Глубоковского и моим. На заседании богословского факультета голоса разделились: два голоса (Глубоковского и Цанкова) за меня и два голоса (архимандрита Евфимия и Поснова) за Петкова. Провалились мы оба.
Между тем настала пора чтения лекций по пастырскому богословию. Факультетский совет обратился ко мне с просьбой принять на себя труд чтения лекций и по второму предмету. Я не смог отказаться и от этого предложения. Но к нему прибавилось еще и другое: на кафедру гомилетики был приглашен Софийский митрополит Стефан, согласившийся при условии, что я возьму на себя просмотр студенческих проповедей. Пришлось и эту работу взять на себя. А с августа 1923 г. мне пришлось преподавать в пяти старших классах Софийской русской гимназии. В трех младших классах преподавал протоиерей В.А. Флоровский. Закон Божий изучался по программам и учебникам русских прежних гимназий. Директором этих гимназий до 1932 г. состоял Анатолий Павлович Стефанов, раньше директорствовавший в одесских гимназиях, опытный педагог, замечательный латинист. Преподавание в гимназии не отягощало меня, я к нему привык в Петербурге, когда состоял законоучителем в Смольном институте и Гимназии принцессы Ольденбургской. Опасался я за свое преподавание на богословском факультете, оно было новым для меня и по предмету, и по составу студентов. О том и другом приходится сказать несколько слов.
569
Порученный мне предмет — Ветхий Завет — по академической программе делился на две части: 1) введение и 2) толкование. Первая часть историческая, имеющая целью изложить основные сведения об истории канона, текста и прочего. Пособий по этой части предостаточно. Преподавание ее не составило для меня труда. Вторая часть — объяснение ветхозаветного текста. Она оказывалась для меня более трудной: кроме знания греческого и латинского языков тут требовалось и знание еврейского языка, чем я не мог похвастать.
Во всяком преподавании успех зависит не только от знаний профессора, но и от метода и манеры его преподавания. Н.Н. Глубоковский был профессором огромного масштаба, но его лекции не пользовались вниманием студентов, так как свой драгоценный материал он предлагал без всякого эффекта, монотонным голосом прочитывая по тетрадке свои лекции, которые каждый студент с большим удобством и меньшей затратой времени мог прочитать у себя дома. Я поставил себе за правило читать лекции только наизусть, без всяких тетрадок. При моей неплохой дикции это производило на студентов большое впечатление. Я прослыл чуть ли не знаменитым профессором. Митрополит Стефан несколько раз повторял мне, что студенты отзывались обо мне как о самом любимом и интересном профессоре. Объясняю это не столько своими достоинствами, сколько их нетребовательностью.
Труднее было мне овладеть вниманием студентов на лекциях по толкованию Ветхого Завета. Профессор архимандрит Евфимий в бытность свою деканом высказал мысль, что я должен на своих лекциях истолковать все книги Ветхого Завета. Сколько-нибудь разбирающийся в этом вопросе знает, что никакой целой жизни не может хватить на истолкование всех книг Ветхого Завета. Требовать, чтобы они были истолкованы на четырех лекциях в неделю в течение одного семестра, мог только человек, совершенно незнакомый с природой этого предмета. Я избрал несколько самых трудных глав из разных книг, где посредством сравнения древних текстов с применением разных научных сведений можно было наглядно показать метод толкования. И тут дело у меня пошло совсем благополучно.
Затруднение в своем преподавании я встречал с другой стороны. В наших духовных академиях студенты по своему развитию и подготовке к слушанию лекций не оставляли желать лучшего. В Петербургской и Московской академиях это были почти исключительно семинарские первенцы, обязательно выдержавшие вступительный экзамен и способные к слушанию каких угодно лекций. Наши академические профессора имели пред собою однородную массу и знали, что можно от нее требовать. В Софийский университет на богословский факультет студенты принимались без экзамена, причем не только семинаристы, но и все
570
другие, получившие среднее светское образование: гимназисты, реалисты, педагогисты, не обладавшие решительно никакими богословскими познаниями и потому совершенно не подготовленные к восприятию высшей богословской науки. Такая аудитория ставила профессора в невероятно затруднительное положение. Что было делать профессору Ветхого Завета с такими студентами, которые вместо «арамейский язык» говорили «армейский язык», которые на экзамене сообщали профессору, что Адам жил после Давида, пророк Иеремия пророчествовал после Иисуса Христа, что акриды (Мф. 3, 4) — это огромные животные вроде слонов, что Иордан впадает сначала в Мертвое, а потом в Белое море и так далее? По-славянски несеминаристы не умели читать. Трудно было достигать с такими студентами каких-либо успехов по Ветхому Завету.
Гораздо легче пошло у меня преподавание пастырского богословия. Во-первых, я чувствовал себя полным хозяином в этом предмете; во-вторых, мне приходилось преподавать его старшим курсам, уже богословски подученным. Обладая огромным практическим опытом пастырского делания, я на каждой лекции соединял теорию с практикой, иллюстрируя то и другое многочисленными примерами из собственной пастырской службы. Это придавало большую жизненность моим лекциям и увлекало моих слушателей. Моя аудитория всегда бывала переполнена. Мои бывшие студенты и теперь при каждой встрече со мной вспоминают о моих пастырских лекциях. В 1929 г. я напечатал свои лекции на болгарском языке, а в 1930 г. — на русском. С русского они потом были переведены на венгерский и румынский языки. Изданная таким образом моя книга «Православное Пастырство» разошлась по всему свету, встречая везде — и у священников, и у мирян — самый теплый прием.
В октябре 1939 г. мне заявили, что, по предельному возрасту (68 лет), я должен прекратить чтение лекций. Сообщил мне это факультетский секретарь. Никакой бумаги, никакой благодарности за мою службу, продолжавшуюся свыше 15 лет, не последовало. А деканом факультета в то время был профессор И.С. Марковский, считавший себя большим моим почитателем и приятелем.
В такой форме «отставки» не только без мундира и пенсии, но и без всякой благодарности нельзя было видеть проявление ко мне какого-либо недружелюбия профессорской коллегии, всегда с должным вниманием относившейся ко мне. Это просто-напросто был ориентальский номер, у нас в России называвшийся свинством. При всем желании снисходительно отнестись к нему я не мог и все же был обижен. Но... почти так же был выпровожен из факультета и митрополит Стефан: выбрали на его место другого, а ему объявили устно, что он освобождается от чтения лекций. Он не раз с обидой вспоминал об этом.
571
Софийская русская гимназия, существовавшая с июля 1920 г. до сентября 1944 г., была смешанной. Число учившихся в ней колебалось между 200 и 250 человек с приблизительно одинаковым числом мальчиков и девочек. Были решительные противники их совместного обучения, видевшие в этом опасность разных романических увлечений. Я более 20 лет прослужил в этой гимназии, преподавая сначала в пяти старших, а потом и во всех классах, с августа 1932 г. по ноябрь 1934 г. я состоял ее директором и заметил более положительных, чем отрицательных сторон совместного обучения. Девочки своим присутствием благотворно влияли на мальчиков, подтягивавшихся, избегавших сквернословия и вообще грубых выходок. А любовных увлечений, в особенности принимавших опасный характер, мне совсем не приходилось замечать. Общим правилом было обратное: между однокурсниками девочками и мальчиками устанавливались благородно-товарищеские, дружеские отношения, напоминавшие отношения между родными братьями и сестрами. И только в младших классах иногда между ними завязывалась любовная переписка, которой, конечно, нельзя было придавать ровно никакого значения.
В отношении успехов наблюдалось интересное явление. В младших классах девочки успевали лучше мальчиков благодаря своим аккуратности, трудолюбию и меньшей шаловливости. Но в старших классах интеллект мальчиков оказывался более сильным, в особенности при изучении математических наук, и перевес склонялся на их сторону.
С огорчением должен отметить, что уровень общего развития и серьезного отношения к учебному делу у наших гимназистов с каждым годом не повышался, а заметно понижался. Их гораздо больше занимали танцы, вечера, прогулки, чем науки. Вызвать в классе общий интерес представлялось почти невозможным. Усилия самых лучших преподавателей овладеть вниманием своих молодых слушателей не достигали полного успеха.
Скажу теперь несколько слов об административном и педагогическом персонале нашей гимназии. С основания ее до конца 1930/31 учебного года директорствовал в ней А.П. Стефанов, долго служивший в Одессе директором мужской и женской гимназий, считавшийся добрым педагогом. Спокойный, ровный, доброжелательный и доступный, он заслуживал уважения. Но за время продолжительного директорства он не смог освободится от устаревших привычек педагогов в отношении оценки ученических проступков. Приведу один пример.
Это было в конце апреля 1920 г. В субботу ученики 8-го класса были распущены для подготовки к выпускным экзаменам. Ученики 8-го класса Яренко (кажется, не ошибаюсь) и 5-го класса Куклев, оба возрастные (Яренко 22 лет, а Куклев 20 лет), захватив гитару и балалайку, отправились провести весело вечерок у
572
своего знакомого. Попели, поиграли, немножко выпили. Возвращаясь из гостей в 12-м часу ночи и проходя мимо женского гимназического интерната на ул. Каблешкова, они решили угостить серенадой своих соучениц. Под аккомпанемент своих инструментов пропели одну-другую песенку. На их несчастье, пение услышал учитель гимназии Лев Андреевич Оленин, живший вместе со своей женой-воспитательницей в этом интернате. Выбежав на балкон, он закричал на проказников. Те убежали. Но через пять минут они опять запели под окнами интерната. Оленин опять появился на балконе и. увидев полицейского, крикнул ему: «Задержи этих хулиганов! Получишь 50 левов». «Хулиганы» были задержаны. Оба оказались совершенно трезвыми.
В следующий день, в воскресенье, в 4 часа дня я отправился к остановке трамвая на углу бульвара Графа Игнатева и улицы 6 Сентября, чтобы вместе с супругами Стефановыми поехать на городское кладбище для совершения панихиды на могиле родного брата Стефановой. Последняя поспешила встретить меня. «Анатолий Павлович страшно удручен, — обратилась она ко мне. — Яренко и Куклев сегодня ночью вздумали распевать песни пред нашим женским интернатом. Этакое безобразие! Успокойте вы Анатолия Павловича!» Стефанов действительно был чрезвычайно обеспокоен. Как я ни убеждал его. что событие не стоит того, чтобы из-за него волноваться, мои убеждения не достигли цели. В понедельник в 6 часов вечера экстренно заседал гимназический совет для обсуждения преступления наших серенадчиков. Происходившее на этом заседании заслуживает того, чтобы быть увековеченным.
После краткого слова директора, сообщившего собравшимся о происшедшем в субботу «крайне прискорбном, позорящим нашу гимназию» событии, обвинителем выступил Л.А. Оленин. Очень образованный, чрезвычайно добрый и услужливый, всегда бескорыстный, он при всех своих исключительно положительных качествах оставался недопеченным человеком: одет он бывал всегда небрежно, речь его была неясная, часто путаная, как воспитатель он отличался неприятной привычкой — стремлением уловить, уличить, покарать ученика, причем в незначительных проступках он часто усматривал нечто криминальное, тяжко-преступное. На Яренко и Куклева он обрушился со всей силой своего красноречия, силясь доказать, что таким хулиганам не место в гимназии, они беспощадно должны быть выброшены. Его поддержали почти все воспитательницы и учительницы, в особенности старшие. Директор также принял его сторону. Я молчал и только когда все выговорились, попросил слова. «Меня. господа, удивляет, что такому незначительному случаю вы придаете такое значение, — так начал я. — Что, собственно, случилось? Два взрослых парня ночью, не будучи пьяными, скром-
573
но и прилично, под аккомпанемент гитары и балалайки пропели нашим милым барышням серенаду. Кто из нас не певал серенад? Признаюсь: я певал, когда был светским. Думаю, что певал и Лев Андреевич, и наш директор, теперь собирающийся так строго карать Яренко и Куклева». Хотелось мне тут добавить, что я понимаю возмущение наших дам: им обидно, что для них уже никто не запоет серенады, но воздержался. «По моему разумению, вот как надо было бы отнестись к происшедшему: вызвать певцов, сделать серьезное лицо и разнести их. а в душе посмеяться над случившимся, благодушно посмеяться, приняв во внимание их молодость, которая никогда не бывала без увлечений и похождений». Потом я рассказал два примера. Первый я слышал за царским столом от министра двора. В давнее время, когда гвардией командовал великий князь Николай Николаевич Старший, два молодых офицера лейб-гвардии Конного полка держали пари, что они в совершенно голом виде проедут в полдень верхом чрез весь красносельский лагерь, населенный не только офицерами. но и их семьями. Разделись и поехали. Когда они уже совершили половину своего пути, появился экипаж великого князя. Они бросились в сторону, но великий князь приказал поймать их. и они были приведены к нему. «Что бы вы сделали с этими офицерами? Их ведь проделка почище серенады, и они не ученики гимназии, а гвардейские офицеры? — спросил я. — А великий князь назначил им 30 суток аресту, чем дело и кончилось. Если в нашем деле кто-то больше других виноват, так это Лев Андреевич, привлекший даже полицию». Последние мои слова вызвали взрыв негодования у дам, увидевших в моей защите серенадистов полный подрыв гимназической дисциплины. Потом я рассказал другой случай. Знаменитый профессор Н. Н. Глубоковский кончал курс Вологодской духовной семинарии первым по успехам. После роспуска для подготовки к выпускным экзаменам он угобзился в городе до такой степени, что пошатываясь едва плелся по главной улице. Встретивший его ректор семинарии протоиерей обратился к нему: «Что с вами, Глубоковский?» А Глубоковский так рванул за полу рясы ректора, что тот упал на панель. На следующий день утром со страхом и трепетом явился Глубоковский к ректору: «Простите мне, о. ректор! Вчера я был невменяем». «И я вам не вменяю. Только впредь будьте благоразумнее». — ответил ректор. Профессор Глубоковский ежедневно утром и вечером в своих молитвах поминает этого ректора. А вы, наверное, исключили бы тогда Глубоковского, и наука в лице его не имела бы такого блестящего представителя. В результате наших прений Яренке была лишь сбавлена оценка за поведение, после экзаменов совершенно восстановленное. Куклев сам собирался уходить из гимназии, и я не препятствовал его увольнению.
574
В 1931 г. А.П. Стефанов тяжко заболел. Должность директора исполнял учитель математики Даниил Наумович Савченко, добрый, но совершенно безвольный, не пользовавшиеся авторитетом ни у учеников, ни у преподавателей. В 1932 г. Стефанов скончался. Я был назначен на его место.
Директорская должность привлекала меня отнюдь не жалованьем. а обязанностями, с ней соединенными. Любил я детвору, нравилось мне административно-педагогическое дело. Мне хотелось поставить нашу гимназию по своему вкусу, внести в ее жизнь больше простоты, семейности, сердечности, официальные отношения заменить дружескими, отеческими. Мне хотелось внести некоторые коррективы в постановку воспитательского дела и исправить хозяйственную жизнь в мужском интернате, беспечностью Д.Н. Савченко и беспутством заведующего хозяйством (алкоголика) доведенную почти до катастрофического состояния, и так далее. Увлекаясь такого рода перспективами, я упускал из виду, что совмещение директорской должности с уже лежавшими на мне обязанностями — гимназическими, факультетскими, литературными и церковно-приходскими — окажется почти непосильным.
Тут я должен пояснить, что директорские обязанности в нашей гимназии в то время были чрезвычайно сложными: директор был и начальником обоих интернатов, обязанным внимательно следить за их воспитательною и хозяйственною частью, и казначеем для гимназии и обоих интернатов, собиравшим и раздававшим деньги. Он должен был принимать от родителей и получать на почте плату за ученье и содержание учеников в гимназии. У него не было даже рассыльного. Делопроизводителем состояла вдова бывшего директора Стефанова, нуждавшаяся в постоянном руководстве. Когда я оставил директорскую должность, появились новые должностные лица: помощник директора, казначей, начальник над интернатами, рассыльный, а я, будучи директором, исполнял все их обязанности. Кроме того, мне приходилось вести постоянную борьбу с возглавлявшим русское учебное дело в Болгарии генералом А.В. Арцишевским, человеком чрезвычайно добрым и доступным, но безвольным и своеобразным, способным на какое угодно попустительство. Значительной затраты энергии и нервов потребовало от меня и слияние Шуменской русской гимназии, закрытой в 1933 г., с софийскою. Приходилось отыскивать помещения для переселенцев, отучать их от шуменских порядков и привычек, считавшихся неприемлемыми в софийской гимназии: например, некоторые шуменские ученики явились к нам с отпущенными баками, в комнатах сидели и расхаживали в шапках, которых не снимали и при появлении там директора, не считали нужным здороваться с начальствовавшими лицами. На все это в шуменской гимназии
575
не обращалось внимания, и мне пришлось принимать решительные меры, чтобы заставить их подчиняться нашей дисциплине.
Должен сказать, что, кроме всего этого, не переставал я заниматься и общественной работой: состоял председателем Русской академической группы в Болгарии, председателем русских педагогов в Болгарии, духовником Русского общества «Сокол» в Болгарии, председателем Общества почитателей памяти императора Николая II и его семьи, также вел значительную благотворительную работу, пользуясь своими связями с Америкой. Я не скажу, что каждая из этих должностей отнимала у меня много времени, но при общей моей занятости и эти должности являлись некоторого рода грузом, лежавшим на моих плечах.
Директорствуя, я старался как можно лучше поставить учебное дело и поддерживать строгую, но разумную и неотягощавшую учеников дисциплину. Для последней цели я пользовался не дисциплинарными мерами и понижением баллов по поведению (раньше бывшим излюбленным средством борьбы с ученическими проступками), а моральным воздействием на провинившихся. Между прочим, меня удручало курение учеников. Шуменские ученики старших классов открыто, не стесняясь даже присутствия директора, курили — значит им разрешалось курение. Я считал трату денег на курение преступным, а самое курение для здоровья в лучшем случае ненужным. Курили же не только состоятельные ученики, но и голытьба. Я провел несколько бесед о вреде курения, а затем применил более действенную меру. По крайней мере девять десятых учеников пользовались уменьшением платы за право учения и содержания в интернате. Когда ко мне являлся куривший ученик с просьбой уменьшить плату за его содержание в интернате, я отвечал ему, что, к сожалению, не могу исполнить его просьбу, так как в гимназии считают его состоятельным. «Какой же я состоятельный? — возмущался ученик. — Мой отец совсем бедный». «Может быть, отец твой бедный, но ты-то, очевидно, богатый. Иначе не сжигал бы ты деньги, тратя их на курение. Пока не бросишь курить, не будет тебе никакой скидки. Можешь уходить». В другой раз пришел ко мне ученик за пособием на покупку штанов взамен совсем износившихся. Я ответил ему: «Буду очень рад, если твои рваные штаны совсем свалятся. Не курил бы ты, мог бы купить двое штанов. Курцам я не помогаю». Такими мерами я добился того, что курение сильно уменьшилось в гимназии.
Моей большой заботой было знакомить наших детей с Родиной. с ее необъятными пространствами, с ее чудными, сердечными. талантливыми людьми, с ее исключительным служением другим народам. Я пользовался каждым приездом в Софию замечательных наших артистов, чтобы дать возможность нашим детям послушать их пение, игру. По случаю приезда такого артиста
576
в нашем женском интернате устраивалась домашняя вечеринка, на которую приглашался прибывший артист. Так побывали у нас: знаменитый наш пианист Николай Андреевич Орлов, знаменитый оперный тенор Дмитрий Смирнов, певица Надежда Васильевна Плевицкая. артист Орлов, брат пианиста, а из местных — Николай Осипович Массалитинов и оперный артист Евгений Фаддеевич Ждановский. Трогательно было смотреть, когда знаменитый пианист Орлов садился за разбитый интернатский рояль, а наши птенцы начинали под его музыку кружится парами. И каждый из артистов показывал нашим детям свое искусство.
Во все субботние вечера в женском интернате делались учениками старших классов доклады на разные темы исторического. религиозного, естественно-научного содержания. В обсуждении докладов главное участие принимали также ученики. Принимали участие и я, и особенно обладавший энциклопедическими знаниями Л.А. Оленин. Некоторым из учителей не нравилась моя близость к ученикам. Но ученики оценили ее. И я, вспоминая теперь о своем директорстве, не жалею, что придерживался такой системы.
Перегруженность разного рода должностями, каждую из которых я старался по совести исполнить, и соединенными с ними обязанностями чуть было не довела меня до катастрофы. Осенью 1934 г. я почувствовал сильное недомогание. Обратился к доктору С.К. Жукову, своему старому, еще по России, знакомому. Внимательнейше выслушав меня, он воскликнул: «Катастрофа! Надо позвать вашу сестру!» «Разве можно о таких вещах сообщать женщинам? Мне вы можете сообщить что угодно, можете сказать, что я завтра умру, и это нисколько не обеспокоит меня: во-первых, я вам не поверю, а во-вторых, придется же умирать когда-либо — не завтра, так спустя некоторое время. А женщины совсем по-иному реагируют на подобные сообщения». Все же по требованию доктора Жукова я отправился к рентгенологу. У меня оказалось сильное расширение сердечной аорты. Зная, что доктор Жуков в отношении собственных и чужих болезней склонен бывает преувеличивать опасность, я отправился к известному софийскому врачу по сердечным болезням Димитракову. И вот кончается 1948 год, а я продолжаю жить на этом свете и оставаться работоспособным.
В ноябре 1934 г. я настоял, чтобы меня освободили от должности директора. Мое место занял сидевший на месте генерала Арцишевского, освобожденного от должности, Константин Иванович Иванов, в России бывший доцентом Варшавского университета, а в Софийской русской гимназии с самого начала ее существования преподававший физику, бессарабский болгарин, человек очень способный, но бессердечный и злобный. Вскоре гимназия перешла в ведение Русского учебного комитета, воз-
577
главлявшегося профессором И.А. Базановым, и Иванов был заменен бывшим директором шуменской гимназии Н.А. Парманиным.
Сын мясника Екатеринославской губернии, небольшого роста, толстый, неряшливый, он всю свою душу отдавал канцелярскому делу, которое всегда было у него в идеальном порядке. Все прочее как будто не существовало для него. С учениками у него не было общения. И ученики, и учителя не обращали на него никакого внимания. К развитию в учениках эстетического вкуса, интеллигентности он относился совершенно безучастно. Приглашение знаменитых артистов даже на большие гимназические вечера, в его директорство устраивавшиеся один раз в году — в день гимназического праздника 6/19 декабря, он считал совсем ненужным. Чтение ученических рефератов тоже при нем прекратилось. Гимназия прозябала, живя мещанской жизнью. А профессор И.А. Базанов считал Парманина непревзойденным директором. Я удивлялся близорукости этого старого профессора, занимавшего в России посты попечителя округов...
Преподавательский персонал Софийской гимназии был неплохим. Как это ни странно, но лучшим преподавателем в ней до 1933 г. был Иван Петрович Нилов, преподававший русскую литературу, но страдавший душевной болезнью — манией преследования в сильной форме. Я только после кончины его в 1933 г. узнал, что он не Иван, не Петрович и не Нилов. Страх, что большевики будут преследовать его, заставил его отказаться от своих имени, отчества и фамилии. Уроки его по литературе были чрезвычайно интересны. Лучшие ученики восторгались его уроками, худшие не все понимали в его объяснениях.
Талантливом лектором был физик Константин Иванович Иванов. Его объяснения всегда бывали жизненны, красочны, увлекательны. Но странное дело! Ни на одном другом выпускном экзамене не бывало таких неудачных ответов, как на экзамене по физике, преподававшейся Ивановым. Объясняю это тем, что он очень увлекался своим красноречием и не заботился о том, чтобы ученики усваивали его объяснения. Может быть, университетское преподавание сделало его таким.
Чудным преподавателем латинского языка был Анатолий Павлович Стефанов, разумно и художественно преподававший свой предмет. Его сверстник, как и он. служивший директором одной из одесских гимназий, хорошо знал свой предмет, историю, но его отношение к делу было очень странным. Он не любил заниматься преподаванием и всячески отлынивал от него. Уходил он из учительской всегда с опозданием, после всех. Придя в класс, он начинал собирать пожертвования на оплату стипендий для беднейших учеников. Ученики пользовались этим, чтобы разговорами и спорами с благотворителем занять возможно
578
больше времени. Иногда дело доходило до того, что некоторые ученики предлагали больше пожертвовать, если они в этот день не будут вызваны к ответу.
Безусловно, интересным преподавателем был доктор Александр Алексеевич Рязанов, с безразличием относившийся к медицинской науке и полюбивший педагогику. Преподавал он естественные науки в низших классах — красноречиво, картинно, увлекательно.
Мне казалось, что Парманин должен быть хорошим преподавателем. Недавно ученики окончательно разубедили меня. По их отзывам, это был на редкость бездарный преподаватель, при своих объяснениях не отрывавший носа от учебника и совсем не умевший заинтересовать учеников своим преподаванием.
Из язычниц — так называли у нас преподавательниц новых языков — резко выделялись в хорошую сторону Зинаида Семеновна Губская (французский язык) и Софья Семеновна Левицкая (английский язык), достигавшие отличных результатов. По немецкому языку, преподававшемуся еврейкой Софьей Владимировной Завьяловой, на экзаменах каким-то образом всегда получались хорошие письменные работы и гораздо худшие устные ответы, а. по отзывам учеников, гимназические знания по немецкому языку всегда оказывались у них весьма ограниченными.
Хуже обстояло у нас дело в отношении педагогическо-воспитательского персонала. Почти каждый из воспитателей отличался или излишней слабостью, или непомерной строгостью. Доктор Рязанов совмещал обе такие крайности: к одним, которых он называл «законченными негодяями», он был беспощаден, каждое лыко ставил им в строку, к другим, в особенности к хорошеньким девочкам и к тем девочкам и мальчикам, матери которых нравились ему, он был слишком милостив. Некоторое из «законченных негодяев» по его милости вынуждены были оставить гимназию. Из всех гимназических и интернатских воспитателей только один пользовался заслуженною любовью и учеников и учителей. Это был интернатский воспитатель Федор Александрович Потто, полковник, сын известного кавказского историка генерала Потто. Он умел проявлять и любовь, и строгость. Он еще большую приносил бы пользу, если бы стоял во главе интерната, но генерал Арцишевский держал на этом месте Д.Н. Савченко, совсем непригодного для такой должности и не помогавшего, а мешавшего полковнику Потто проявлять свою инициативу и свои таланты.
Возвращаюсь снова к преподавательскому персоналу. Наша гимназия вместе с массой недисциплинированных щуменских гимназистов получила достойнейшего преподавателя — математика Ивана Владимировича Белина. Прекрасный знаток своего предмета, всегда опрятно одетый, ровный и спокойный, строгий и требовательный, он умел объяснить урок и настоять, чтобы
579
ученики уразумели его. Это была полная противоположность другому учителю математики, Д.Н. Савченко, дававшему массу поводов для насмешек над ним и учеников, и учителей. В директорство Парманина Белин занял место помощника директора и спасал гимназию от полного одичания. Аккуратность Белина и его строгость к самому себе были прямо легендарными. Однажды пред началом урока в 5-м классе один из учеников крикнул, вбежав в класс: «Сообщаю вам новость: Белин заболел и его урока у нас не будет!» Другой ученик спокойно возразил: «Глупости! Если бы он и умер, то и тогда пришел бы». Со смертью И.В. Белина наша гимназия понесла великую утрату.
Заботами бывшего директора Стефанова и моими был собран значительный капитал из остатков экономических сумм, имевший своим назначением помощь впадавшим в крайнюю нужду гимназическим учителям. При сдаче мною директорской должности этого капитала было 175 тысяч левов, по тому времени большая сумма. Начальствовавший некоторое время над русскими учебными заведениями К.И. Иванов передал всю хозяйствен- щчо гимназическую часть, а с нею и этот капитал, уполномоченному Красного Креста Л.Е. Фельдману. В скором времени этот капитал куда-то испарился. Фельдман был большим мастером в расходовании попадавших в его руки денег...
С приходом в Болгарию советских войск софийская гимназия прекратила свое существование. Ее богатая библиотека и имущество были приняты русскими.
***
P. S. Еще несколько слов о гимназических преподавателях.
Скончавшегося в 1933 г. И.П. Нилова замещали сначала Сергей Иванович Покровский, а потом Александр Иванович Виссонов, оба духовные семинаристы, окончившие курс университетов, первый — Петербургского, а второй — Московского, совершенно разные натуры. Покровский — франт и ухажер. Виссонов, безразличный к своему костюму и внешности, был более привержен Бахусу, чем женщинам; Покровский краснобайством и дерзкою развязностью пытался наверстывать недостаточное знание своего предмета, Виссонов хорошо знал свой предмет, но не умел живо и интересно выкладывать свои знания, а постоянными неудачными потугами на остроумие более вредил, чем помогал делу. Ученики относились к первому с насмешкой, ко второму с состраданием.
Оригинальной фигурой в гимназии был Георгий Георгиевич Данилов, математик огромного масштаба, которому следовало бы преподавать в университете, а не в гимназии, но, как и Нилов, страдавший манией преследования, крайне рассеянный, отличавшийся большими странностями. Недавно он скончался в страшной бедности.
580
Кроме общеобразовательных предметов в Софийской русской гимназии преподавались болгарский язык, болгарские история и география. Учителя этих предметов — часто сменявшиеся болгары — в преподавании очень отличались от нас. Мы, русские преподаватели, больше внимания обращали на идейную, чем на фактическую сторону, в каждом вопросе старались дать работу не только памяти, но и ученическому рассудку, а у болгар все внимание было обращено на усвоение учениками сведений, часто весьма мелочных и многосложных, запомнить которые стоило огромного труда, а удержать их даже на несколько дней не было возможности. Я с удивлением слушал ответы на выпускных экзаменах учеников на вопросы, сколько в такой-то болгарской деревне лошадей, коров, рогатого и мелкого скота, свиней, сколько в ней корчем, сапожных и портняжных мастерских и сыроварен и так далее. Мелочными сведениями заполнялось преподавание и истории, и географии, а по болгарскому языку в великие писатели возводились и такие персонажи, на которые у нас не обратили бы никакого внимания.
Встречая теперь бывших гимназистов времени моего директорства, я часто слышу от них отзывы, что лучшей порой пребывания их в гимназии было именно время моего директорства, что в моем лице они видели как бы родного отца, строгого, но и снисходительного к грехам их юности, всегда заботящегося об их нуждах и всегда для всех доступного. Это является лучшей наградой за мою директорскую работу.
XXXVIII. Мое участие в церковно-приходской деятельности
Не раз пытались облечь маня архиерейским саном. Летом 1916 г. митрополит Питирим от имени царицы убеждал меня принять архиепископский сан. В октябре 1917 г. самая культурная большая группа членов Московского Собора хотела провести меня в Патриархи — я решительно отклонил их желание. Летом 1918 г. тот же Собор просил меня стать митрополитом — я отказался и от этого предложения. В эмиграции митрополиты Евлогий и Платон (Американский) просили меня пойти к ним в помощники, причем каждый из них обещал сделать меня своим преемником. Зная особенности характеров этих митрополитов, я отказался от их предложения. Летом 1946 г. в Болгарию приезжал Московский Патриарх Алексий. Совершая литургию в Александро-Невском соборе, он во время взаимного приветствия священнослужителей при пении Символа Веры хотел поцеловать мою руку, а после причащения сказал мне: «Придется вам стать архиереем». Я ответил: «Это будет зависеть
581
не от меня, а от воли Божией». Что-то пугало меня в архиерействе. Только не самая должность и соединенные с нею административные обязанности. При всех трудностях современного архиерейского служения я, смею думать, с ними управился бы. Более всего путало меня монашеское одиночество (ведь архиерей должен быть монахом), оторванность архиерея от общества, от мира: пугали меня все условности архиерейского быта, которые укоренились в сознании верующих людей и которые принимаются ими за сущность архиерейского служения. Честь и слава, которыми стараются окружить архиерея, меня и раньше не увлекали, а теперь тем меньше увлекают. Мое желание теперь было бы получить какой-либо благоустроенный приход со сколько-нибудь приличной квартиркой, с маленьким садиком, с близким лесом и озером или рыбной речкой. Там я доживал бы дни свои, отдавая последние свои силы на служение простому народу, среди которого я вырос. Но знаю, что нет сейчас таких приятных приходов, где можно было бы спокойно доживать дни свои.
Меня теперь удивляют честолюбие и чрезвычайная уверенность в своих силах, которую не стесняются проявлять многие духовные лица. Среди моих слушателей на богословском факультете был иеромонах Г., поступивший на наш факультет по окончании курса одного из светских университетских факультетов. Об одной лошади говорили, что она почти весь свет обошла и все же лошадью осталась. Никакие университеты не сделают человека разумным, если у него нет природного разума. Я встречал людей, окончивших курс в двух высших учебных заведениях и далее занимавших профессорские кафедры, но о них говорили: «Ум у него есть, но ум — дурак» или «Ум него есть, да разума нет». А знаменитый профессор В.В. Болотов головы таких людей уподоблял нищенской котомке, набитой всякой всячиной, подбиравшейся нищим: тут найдешь и засохшие куски хлеба, и грязную тряпку, и гвоздь, и найденную на дороге подкову. Иеромонах Г., еще будучи студентом, отличался большой гордостью: наряжался он всегда франтом, ходил, гордо подняв голову, всегда обижался, что профессора недостаточно оценивают его знания, и так далее. Теперь он архимандрит, недавно я встретился с ним в приемной экзарха. Разговорились. «Я собираюсь поехать в Россию», — гордо заявил он мне. «Что же вы будете там делать?» — спросил я. «Как что будете делать? Стану митрополитом!» — ответил он. «Не зная языка, как и жизни, обычаев и уклада русского, станете митрополитом, сразу митрополитом, когда там всего шесть или семь митрополитов, а остальные архиепископы и епископы... Не слишком многого ли вы хотите?» — удивился я. «А чего же вы от меня хотите? Чтобы я, послужив протосингелом (то есть помощником) Пловдивского митрополита, в
582
России стал приходским священником?» — обиделся он. «Я иначе и не представляю дела. Разве служение приходского священника — унизительное дело? Я какие высокие должности занимал в России, тут был вашим профессором и образовательный богословский ценз мой повыше вашего, а вот нисколько не стыжусь, что в вашей маленькой стране служу приходским священником. Побольше смирения надо иметь, отец Г.!» — не выдержал я. На этом разговор наш прекратился.
После отъезда в Берлин архимандрита Тихона в софийской посольской церкви начали совершать богослужения я, протоиереи В.А. Флоровский и А.П. Рождественский. Поступавшие за требоисправления доходы делились нами поровну, отношения между нами оставались идеальными.
Архимандрит Тихон уехал в понедельник второй недели Великого поста. В пятницу на исповеди у меня произошел интересный случай. Исповедников было не очень много. Наряду с другими подошел ко мне прилично одетый и по виду очень скромный господин, как потом я узнал, художник. Контакт между нами никак не мог наладиться: на мои вопросы он отвечал нервно, на некоторые — с задором, даже грубо. Я вынужден был обратиться к нему: «Послушайте! Вы ведете себя здесь, пред крестом и Евангелием, как будто пришли вы сюда не исповедоваться, а спорить и ругаться со мной. Что с вами? Вы ели сегодня?» «Со вторника ничего я не ел... Уезжая, о. Тихон велел мне до причастия в субботу ничего не есть», — сердито ответил он. «Тогда идите домой! Пищей подкрепите свои силы и завтра утром поисповедаетесь», — приказал я ему. На другой день, в субботу, он исповедовался совершенно спокойно. Значит, и в благочестивых упражнениях надо быть благоразумным и умеренным.
А 22 июля, в день тезоименитства императрицы-матери, произошел обидно неприятный случай, в котором я оказался без вины виноватым и пострадавшим. К этой несчастной царице, потерявшей любимого жениха, потом 20 октября 1894 г. лишившейся своего 49-летнего мужа, наконец, пережившей великую трагедию своего сына, я относился с глубоким уважением. Еще начальница Смольного института княгиня Е.А. Ливен, ее близкая подруга, познакомила меня с этой благороднейшей и добрейшей, ставшей истинно русской женщиной. Несколько встреч с нею в Петербурге, в Гатчине, в Крыму подтвердили данную княгиней Ливен характеристику. Это действительно была сердечнейшая, доброжелательнейшая и рассудительная женщина, совершенно не разделявшая увлечений и крайностей своей невестки, младшей царицы.
Очередным священником 22 июля был о. А.П. Рождественский. В церкви собралось много народу, желавшего помолится о здравии именинницы. Вошедши в алтарь, я напомнил о. Рожде-
583
ственскому, что после литургии нужно будет отслужить царский молебен и что нам всем следовало бы принять участие в совершении молебна. «Ни к чему это! Я один отслужу», — нервно ответил он. Не желая препираться со своим бывшим профессором, я вышел из алтаря и стал среди молящихся.
Царские молебны у нас служились посреди церкви. Но о. Рождественский не сошел с амвона и служил без всякой торжественности. чем вызвал большое негодование у стоявших в храме. Потом я догадался, что это было проделано намеренно, в отместку царской семье за отстранение его от законоучительства царским детям.
Чрез несколько дней в одной из издававшихся в Белграде русских газет была напечатана присланная из Софии Иваном Михайловичем Калинниковым телеграмма, что я 22 июля отказался служить молебен о здравии августейшей именинницы. А затем я получил от нескольких своих сановных знакомых ругательные письма. Поняв свою ошибку, Калинников послал опровержение. Но... опровержения ведь не читаются, а если и читаются, то не достигают цели.
Наконец, прибыл в Софию назначенный Евлогием епископ Серафим. Протоиереи Флоровский и Рождественский были обижены тем, что Евлогий назначил его, а не меня, и отказались встречать его на вокзале. Не встречал и я. Однако он сделал красивый жест, чуть ли не на следующий день пришедши в семинарию, где все мы жили, чтобы познакомиться с нами.
При первой встрече епископ Серафим произвел впечатление скромного, благодушного, доброжелательного монаха. При последующих встречах с ним наши впечатления были также в его пользу: богослужения он совершал спокойно и благоговейно, был доступен для нас, почти никогда никого не осуждал, в своей монашеской жизни, по-видимому, был очень строг, все эти качества располагали в его пользу. При дальнейшем же знакомстве начали открываться и другие его качества, с которыми нам, старым священнослужителям, трудно было мириться: он не знал церковных законов и, когда мы ему напоминали о них, не находил нужным считаться с ними. Он, например, считал излишним ведение церковных приходорасходных книг, а большие суммы посольской церкви старостой Шуруповым безотчетно расходовались, на что ему хотелось143. То же наблюдалось у Серафима и в отношении многого другого, он полагал, что как архиерей может не считаться ни с какими законами и установлениями. Вскоре мы заметили, что епископ Серафим резко делит людей на своих и чужих, причем нас относит ко второй категории, что собственную персону он ставит центром всей нашей церковно-приходской жизни, как будто приход существует только для того, чтобы все ему служили, а он величался и благоденствовал. Не располагало нас в его пользу и
584
его религиозное мировоззрение: он окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии (в 1908 г.), но академическая наука не отражалась на его суждениях и действиях: в своем богословствовании он был очень прост, своими рассуждениями иногда напоминал благочестивую полуграмотную сельскую женщину, верившую во все сны, приметы и вещания разных кликуш и чревовещательниц. Нам казалось весьма странным, что, произнося длинные проповеди, он базировался в них не на евангельском и апостольском учении, выраженном в Новом Завете, а на разных сказаниях из житий святых и даже на снах и видениях разных благочестивых женщин, которые окружали его.
Все это, однако, было терпимо, пока около епископа Серафима не появилась женщина, захватившая в свои руки управление и приходом посольской церкви, и самим епископом Серафимом, простершая свое влияние и на Карловацкий Синод, членом которого скоро стал епископ Серафим. Этой женщиной была Варвара Ивановна Зызыкина, жена ставшего затем профессором по каноническому праву в Варшавском богословском факультете Зызыкина. Эта совсем нестарая женщина, весившая 160 килограммов, всегда своеобразно и демонстративно одетая (в платке и старосветском одеянии), богомольная, умная и хитрая, пронырливая и настойчивая, лукавая и льстивая, совсем овладела умом и волей епископа Серафима: он жил ее советами, руководствовался ее указаниями. Очень скоро она стала оказывать большое влияние и на Карловацкий Синод, где каким-то образом епископ Серафим приобрел большой вес. Мое отношение к госпоже Зызыкиной было резко отрицательным, хоть при встречах со мной она мне льстила и старалась превозносить мои таланты. Но я знал, что на языке у ней мед, а в сердце яд, что, ублажая меня словами, она тайно восстанавливает против меня и епископа Серафима, и Карловцы. Не подходил я к системе управления, к укладу жизни, развивавшейся около епископа Серафима, окруженного или недоброкачественной репутации людьми, или женщинами-кликушами. А тут еще появился повод, чтобы Серафимовская компания оказалась недовольной мною.
После назначения Патриархом Тихоном архиепископа Евлогия управляющим беженскими церквами в Западной Европе и на Балканах (с возведением его в сан митрополита) между ним и Карловацким Синодом начали все более обостряться отношения, в 1926 г. приведшие к полному разрыву. Во многих тяжелых переживаниях, связанных с этим разрывом, виновен был сам митрополит Евлогий. После патриаршего указа на имя Евлогия за № 348 от 5 мая 1922 г. последний с полным правом мог сказать Карловацкому Синоду: «Руки прочь!» Но митрополит Евлогий не сделал этого. Напротив, из уважения к своему бывшему академи-
585
ческому ректору митрополиту Антонию, теперь возглавлявшему Карловацкий Синод, он начал делать разные уступки. Синод же, не довольствуясь уступками, стремился совсем подчинить себе митрополита Евлогия.
Мои отношения с митрополитом Евлогием в то время оставались прежними. Но я никогда не смешивал личные отношения со служебными, стараясь примыкать к той стороне, где истина сияет. В данном случае я всецело стал на сторону митрополита Евлогия. Во-первых, на его стороне было формальное право — патриарший указ, не допускавший никакого кривотолкования. Во-вторых, сумбурный характер председателя Карловацкого Синода, наш церковный хаос в Софии, прочий архиерейский состав Карловацкого Синода, наконец, увлечение этого Синода политикой наших крайне правых партий до такой степени, что Синод чуть ли не возводил на беженский царский престол великого князя Кирилла Владимировича и присылал в Софию для направления церковной политики главного вожака крайне правых, бывшего члена Госдумы Маркова 2-го, не предвещали ничего нового. Я не стеснялся открыто высказывать свой взгляд. Это озлобило карловчан против меня. А.И. Пильц предупредил меня, что мне следует отказаться от дальнейшего служения в посольской церкви и вообще поскорее уйти из-под карловацкого начала, так как карловцы собираются учинить мне какую-то ужасную неприятность. Не раздумывая ни минуты, я подал заявление епископу Серафиму об уходе, а Софийский митрополит Стефан тотчас принял меня в свою епархию, определив к служению при церкви Святой Седмочисленницы, в которой я продолжаю служить до настоящего времени.
После ухода моего из посольской церкви с епископом Серафимом мы встречались нечасто, но праздничными и именинными поздравлениями обменивались аккуратно. Я продолжал законоучительствовать в Софийской русской гимназии, а он раз-два в год посещал гимназию. Его посещения создавали для меня значительное беспокойство. Прибыв в гимназию, он прежде всего заходил в те классы, где были мои уроки. За ним следовали, кроме директора и классного наставника, прибывшие с ним келейник и шофер, которые также усаживались в классе и выслушивали ответы учеников. Владыка не догадывался освободить их от этой обязанности, а я, чтобы не обиделся владыка, не решался напомнить им, что не их дело ревизовать меня. Вопросов епископ Серафим ученикам не задавал, а только хвалил и отвечавших учеников, и меня. Иногда он заходил и на урок истории или литературы.
После посещения владыкою уроков все ученики и учителя собирались в одном из классов, и там владыка произносил им речь. Эта речь была, так сказать, гвоздем его посещения.
586
Говорил епископ Серафим без задержек, но по отъезде его мне всякий раз приходилось выслушивать ученические вопросы: верно ли то, что говорил владыка? Касались эти вопросы тех примеров, которыми епископ Серафим иллюстрировал свою речь. Чтобы не уронить авторитета владыки, мне приходилось всячески выгораживать его. За время своего преподавания в гимназии я пять или шесть раз слышал его рассказ о нянюшке, в одну из зимних ночей возвращавшейся из отстоявшего от их села в 5 верстах монастыря и подвергшейся нападению стаи волков. Рассказ приводился в доказательство того, что молитва Божией Матери «Пресвятая Богородице, спаси нас» может спасти кого угодно и от чего угодно. «Моя дорогая нянюшка, дорогие мои деточки, — говорил владыка, — была очень религиозна. И вот, когда на нее напала большая стая волков, она упала ниц, на снег, и начала шептать молитву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И что же вы думаете? Волки один за другим начали подходить к ней. Подойдет волк, понюхает и отойдет. То же и другой, и третий...» За спиной моей слышаться шепот ученика старшего класса: «Здорово, видно, испугалась старуха». «Последний волк, деточки мои, — продолжал владыка, — подойдя к няньке, хотел ее съесть, но все остальные волки набросились и растерзали его. Вот что значит молитва ко Пресвятой Богородице!»
А то случалось и иное. Однажды, на следующий день после посещения владыкой гимназии и его рассказа о нянюшке, которую хотел съесть волк, в женском интернате происходила стрижка. Ученица 5-го класса Галина Икономова, недурная, но своенравная девушка, заявила начальнице интерната, что она не желает стричься. «Без всяких разговоров садись, и остригут тебя!» — приказала начальница. Галина уселась и со слезами начала шептать молитву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Молись не молись, а остригут тебя», — утешила ее одна из окружавших ее учениц. Другие рассмеялись.
Многими и другими подобными примерами поучал епископ Серафим наших гимназистов. Услышали они от него рассказы о скворце, молитвою Иисусовою спасшемся от кошки, об огромном крокодиле, жившем в одном озере: этот крокодил съедал всякого, кто появлялся на берегу этого озера, но когда пришел за водой смиренный и послушный монах, крокодил не съел его, а, взявши из рук монаха ведерко, отплыл на середину озера, там почерпнул чистой воды и, вернувшись, передал ведерко монаху, — вот что значат смирение и послушание!..
Мои отношения с епископом Серафимом ухудшились на почве тогдашних наших межцерковных отношений. В 1926 г. произошел окончательный разрыв между митрополитом Евлогием и Карловацким Синодом. 13-26 января 1927 г. этот самочинный,
587
составленный из бросивших свои российские кафедры архиереев Синод запретил митрополита Евлогия в священнослужении. Летом этого же года обострились отношения между митрополитом Евлогием и Местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием, потребовавшим, чтобы все зарубежные священнослужители представили подписки, обязывающие их к лояльности по отношению к советской власти. Для обсуждения этого требования митрополит Евлогий составил комиссию, пригласив и меня принять участие в ней. Но когда я прибыл в Париж, заседания комиссии были уже закончены и ответ — широковещательный. на 45 страницах большого формата, за исключением подписей, — был уже написан. Секретарь митрополичьего управления Тихон Александрович Аметистов дал мне его для прочтения. Я ужаснулся, прочитав его. Вместо того чтобы ясно, доказательно ответить на поставленный митрополитом Сергием вопрос, митрополит Евлогий все внимание сосредоточил на обвинении Карловацкого Синода. «Неужели вы эту бумагу пошлете митрополиту Сергию? — сказал я Аметистову, прочитавши Евлогиевский ответ. — Митрополит Сергий будет возмущен ею, и она станет обвинительным актом против вас же». «Вы. значит, не знаете, как своенравен и упрям наш митрополит. Если он подписал бумагу, никакая сила не может заставить его изменить ее». — ответил Аметистов. Но я, взявши это ответное письмо, отправился к Евлогию. Он с ужасом выслушал мое заявление, что подписанная им бумага должна быть серьезно переделана. Я в первый раз увидел митрополита, уподобившегося истеричной женщине. Он нервно бегал по комнате, хватался за голову, то возмущаясь моим требованием, то доказывая, что ответ должен быть именно таким. В конце концов он сдался. «Делайте что хотите! Вместе с профессорами Н.Н. Глубоковским и С.Н. Булгаковым изменяйте текст по своему усмотрению!» — были последние его слова. Аметистов был поражен результатом моей миссии. «Только вы, протопресвитер царского времени, с которым наши архиереи привыкли считаться, могли переубедить нашего митрополита», — сказал он мне. Ответ был серьезно переработан и уже в таком виде послан митрополиту Сергию.
Упрямство митрополита Евлогия произвело на меня отвратительное впечатление. «Нелегко работать с таким начальником», — подумал я. Это впечатление в значительной степени было причиной того, что я отказывался потом от многих его почетных предложений. Зато в другом отношении митрополит Евлогий произвел на меня самое приятное впечатление. В то время как карловцы осуждали, запрещали его в священнослужении, как ставший (вследствие чрезвычайного, не по годам одряхления председателя Карловацкого Синода митрополита Антония) заправилой в этом Синоде наш епископ Серафим в своих выступлениях с церковной
588
кафедры вещал, что советская власть — бесовская, что митрополиты Сергий и Евлогий лишились святительского права, что совершаемые ими священнодействия не священнодействия, таинства не таинства, бескровная жертва не Божественная, а бесовская жертва, и «прочие безумные глаголы», — от митрополита Евлогия я не услышал ни одного резкого слова по адресу карловцев и митрополита Сергия. Даже по поводу сделанного митрополитом Сергием иностранным корреспондентам заявления, что Церковь в России не терпит никаких притеснений от советской власти, митрополит Евлогий старался оправдать митрополита Сергия. «Легко им, сидящим в патриаршем Карловацком дворце, обвинять митрополита Сергия. Посмотрел бы я, что они делали бы на месте Сергия, что натворил бы их председатель митрополит Антоний», — говорил он мне. Тут я совершенно соглашался с ним.
Будучи в Париже, я участвовал в совершении митрополитом Евлогием в Александро-Невском соборе литургии. Вскоре затем митрополит Евлогий приезжал в Софию, и я также сослужил ему при совершении панихиды по генералу Врангелю.
В то время возник новый повод к конфликту между митрополитом Евлогием и карловцами, как и митрополитом Сергием. Это было учение протоиерея С.Н. Булгакова о Софии Премудрости Божией.
После святого Григория Нисского († ок. 394 г.), древнего христианского философа, редкому философу, который начинал заниматься богословствованием, удавалось удержаться на высоте чистого православно-христианского исповедания. Первое условие философствования — свобода умозрения, а богословствование имеет свои определенные границы, нерушимые основы и даже свои традиции, которых трудно держаться, с которыми нельзя мириться философу. Протоиерей С.Н. Булгаков был незаурядным философом, хоть это не мешало ему оставаться благоговейным, проникновенным, усердным, чтимым прихожанами пастырем. Учение о Софии он высказал как богословское мнение, не собираясь разрушать исповедуемый Церковью догмат о Святой Троице. По моему мнению, учение Булгакова никакой опасности для верующих не представляло: во-первых, книга о. Булгакова написана тяжелым, туманным языком, трудным и для заправских богословов: во-вторых, она касалась вопроса, малодоступного для рядовых верующих и мало их интересовавшего. На нее никто, кроме специалистов-богословов, не обратил бы внимания. Карловацкий Синод, объявивший о. Булгакова еретиком, и Патриарший Синод, осудивший его, рекламировали и его, и его книгу о Софии, хоть и после этого я не слышу, чтобы кто-либо ею интересовался. Наш же епископ Серафим написал толстейшую книгу против Софианской ереси. Карловацкий Си-
589
нод, едва ли имея на то право, присудил ему за эту книгу ученую степень магистра богословия: о. С.Н. Булгаков ни единым словом не обмолвился о ней, показав этим, что она не заслуживает никакого внимания. Я смог прочитать только 9 страниц Серафимовского творения. Это труд старообрядческого начетчика, а не православного богослова, представляющий набор отдельных выражений из творений разных святых Отцов и учителей Церкви. Знаменитый наш профессор В.В. Болотов за такой труд мог не дать и кандидатской степени.
Моя поездка в Париж, служение с митрополитом Евлогием в Париже и Софии и, наконец, мое отношение к учению Булгакова ухудшили отношение епископа Серафима ко мне. Имей он власть надо мной, он неминуемо запретил бы меня в священно- служении. Но состоя в клире Болгарской Церкви, я был недосягаем для него, и он ограничился тем, что в течение некоторого времени не допускал к причастию исповеданных мною. Потом отношения между епископом Серафимом и мною сгладились, хоть и до сего времени я не могу заставить себя уважать его, а он едва ли полюбил меня.
Огромное влияние, каким пользовался епископ Серафим в Карловацком Синоде, свидетельствует о том, насколько малоценен был этот Синод, составленный из архиереев небольшого калибра и возглавлявшийся совершенно одряхлевшим, а в последние годы выжившим из ума митрополитом Антонием, совершенно потерявшим способность и движения, и размышления. А между тем своим живым участием в крайне правой политике, своим рабским преклонением пред вожаками крайне правых партий, как и церковной смутой, им порожденной и им раздутой, он не только огорчил, смутил, сбил с толку множество беженских русских душ, но и принес много огорчений и страданий Патриаршей Церкви, отвечавшей пред советской властью за все его грехи.
Не игра ли это судьбы, что наиболее рьяные члены этого Синода, Серафим Парижский и Серафим Софийский, в первую очередь были награждены Святейшим Московским Патриархом, первый — званием экзарха, а второй — высокой наградой: крестом для ношения на клобуке? Мы, знающие их предыдущую деятельность, с полным правом можем сказать, что они награждены за свою энергичную деятельность против советской власти и против Патриаршей Церкви.
В заключение этой главы скажу несколько слов о своей благотворительной работе во время служения при софийской посольской церкви.
Вступив в должность настоятеля этой церкви, архимандрит Тихон основал Братство во имя Святителя Николая, которое начало проявлять некоторую деятельность: сам архимандрит Тихон вел беседы, братчики собирали пожертвования, дававшие
590
возможность оказывать помощь нуждающимся, рассылать рождественские подарки, устраивать пасхальные розговения. Новый «энергичный» настоятель епископ Серафим не уделил никакого внимания братству, и оно замерло. Летом 1922 г. епископ Серафим для отдыха от ничегонеделания уехал на Варненский курорт, поручив мне исполнение обязанностей настоятеля церкви. Вскоре группа прихожан во главе с генералом П.П. Ставицким и Н.П. Шуруповым обратилась ко мне с просьбой возобновить деятельность братства. Я исполнил их просьбу, не испросив согласия епископа Серафима. Собрание постановило; возобновить деятельность Братства во имя Святителя Николая, причем выбрало меня председателем братства, а членами — протоиерея В.А. Флоровского, генералов П.П. Ставицкого, В.П. Никольского, профессора М.Г. Попруженко, юриста В.В. Попова и других. Епископ Серафим был возмущен моим своеволием, и я сознавал, что сделал ошибку, не испросив его благословения на созыв приходского собрания. Но мне удалось убедить его, что возобновлением деятельности братства будет не унижено, а возвеличено его имя и что ему как епископу неудобно было бы председательствовать в братстве.
Работа наша в братстве пошла блестяще. Согласие между членами правления братства никогда не нарушалось: вполне доверяя нам, прихожане охотно жертвовали. Мне удало привлечь на помощь братству двух иностранок — англичанку Ляртер и жену сербского посланника в Софии госпожу Ракич. Первая вручила мне сначала 10 тысяч левов, а потом 25 тысяч левов. 25 марта 1925 г., в день Благовещения, госпожа Ракич вручила мне 140 тысяч левов. А лев в то время был полноценным: ординарные профессора получали по 3000 левов в месяц. Пользуясь накопившимися у нас деньгами, мы имели полную возможность широко проявлять благотворительность. Братские деньги привлекли внимание Зызыкиной и прочего архиерейского окружения. С той стороны была сделана попытка перетащить наши деньги в архиерейское ведение, но эта попытка нашла у нас единодушный и решительный отпор. Оставляя службу в посольской церкви, я покинул и братство, имевшее капитал более 200 тысяч левов. Место председателя занял протоиерей В.А. Флоровский. Архиерейское окружение сделало новую попытку захватить братские деньги. Не надеясь устоять пред этим напором, правление братства на одном из своих заседаний распределило все имевшиеся деньги между разными беженскими организациями, предоставив после этого епископу Серафиму принять братство в полное свое ведение.
591
XXXIX. Моя служба в болгарском клире при церкви Святой Седмочисленницы в Софии
Когда у меня обострились отношения с епископом Серафимом и карловцами, митрополит Стефан, так же как и я стоявший на стороне митрополита Евлогия, охотно принял меня в свой клир, назначив меня бесприходным священником при церкви Святой Седмочисленницы в г. Софии, предоставив мне право служить, когда пожелаю, и не возложив на меня пока никаких других обязанностей. Таким способом митрополит Стефан имел в виду не только дать мне возможность не оставаться без совершения богослужений, но и материально улучшить возмущавшее его незначительное мое вознаграждение за чтение лекций в университете.
Нелегко мне было расставаться с посольскою церковью, к которой я за пять с половиной лет службы привык и которая связывала меня с русскою колонией, состоявшей главным образом из бывших воинов, входивших в состав возглавлявшегося мною с 1911 г. Ведомства протопресвитера Российской армии. За время своего протопресвитерства я не отвык от приходской службы: общение с прихожанами не перестало доставлять мне большое духовное наслаждение; разделяя со своими духовными детьми их радости и горе, поддерживая одних, удерживая других, служа всем, кто во мне нуждался, я находил в этом оправдание своего существования. Правда, и по моем уходе из посольской церкви многие мои духовные дети продолжали обращаться ко мне со своими духовными нуждами, но это было не то, что при моем служении в посольской церкви, когда я жил одною жизнью с целым русским приходом.
Чувство горечи от расставания с посольской церковью еще сильнее ощущалось, потому что на новом месте служения я нашел совсем иной уклад жизни, новых людей, новые нравы и обычаи.
Церковь Святой Седмочисленницы была выстроена турками в XVI веке и до освобождения Болгарии считалась соборною мечетью для всего Балканского полуострова. В 1903 г. она была обращена в православный храм, посвященный памяти Святых Седмочисленников, славянских просветителей Кирилла и Мефодия и их учеников — Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангелария. Храм великолепный, напоминающий константинопольскую Софию, но внутренность его свидетельствовала о крайнем нерадении служивших в нем пастырей, сумевших обзавестись собственными приличными — а один даже пятиэтажным — домами и не проявивших никаких забот об украшении своего храма: нерасписанные стены, отсутствие ценных икон, бедная утварь, убогая ризница свидетельствовали об этом. И это в огромном и богатом приходе!
592
Не могло удовлетворить меня и совершение богослужений. В первое время моего служения всенощных бдений накануне воскресных дней не совершалось; болгарское унисонное пение на вечернях и утренях резало мое ухо: привычного для меня благоговения и художественности в возгласах и действиях священнослужителей я не видел. Печальнее же всего мне было увидеть непрекращавшиеся, доходившие до резкой вражды постоянные недоразумения между составлявшими причт этого храма четырьмя священниками, не стеснявшимися даже при совершении богослужений оскорблять друг друга.
И отношение прихожан к своему храму тут было не такое, как у нас. Вспоминаю свои сельские церкви: хвошнянскую, усмыньскую, азарковскую. Там даже в летние воскресные, а тем более праздничные дни, когда крестьяне были заняты сельскими работами, церкви переполнялись богомольцами. И это бывало в приходах, по количеству населения почти в десять раз меньших, чем софийский Седьмочисленницкий приход. Тут же только в Великие четверг и пятницу, на чтение 12 евангелий и погребение Спасителя, на пасхальную утреню да в день Рождества Христова собиралось множество народу, а во все остальные воскресные и праздничные дни свободного места в церкви сколько угодно было. Некоторым исключением являлись дни, когда служилось много панихид. У болгар гораздо больше, чем у нас, русских, развит культ покойников. При погребении умершего не только близкие и дальние родственники его, но и все знакомые считают своем долгом явиться к отпеванию: в установленные Церковью дни поминовений по покойным служатся панихиды, на которые стекаются все родные и знакомые их. В родительские субботы софийское кладбище напоминает наши самые многолюдные базары. только без купли и продажи. Священники в эти дни не управляются служить панихиды, хоть болгарские панихиды и короче воробьиного носа. Богомольцы не придают значения этой краткости и следят лишь за тем, чтобы в конце панихидки могила была полита принесенным ими вином или елеем. В оправдание священников могу сказать одно: если бы они со всем усердием. по чину, совершали в эти дни панихиды, большая часть могил осталась бы без церковного поминовения. А теперь выходит так, что и волки сыты, и козы целы.
И забот о своем храме болгарские прихожане проявляют гораздо меньше, чем наши. У нас самый бедный крестьянин считал своим долгом жертвовать на храм от недостатков своих: богатые купцы щедро одаривали храмы от праведных и неправедных прибытков своих. По-видимому, эта черта русской души отличает верующих русских людей и доселе. Года два тому назад ко мне в храме подошел советский офицер, оказавшийся инженером X. «У меня к вам просьба; поминайте моих родителей, таких-то.
593
А это примите от меня за труд и молитвы». — обратился он ко мне, вручая ассигнацию в 5000 левов. «Зачем же так много? — сказал я. — Я исполнил бы вашу просьбу и без всякого вознаграждения». «Нет, нет! Возьмите. Я такую же ассигнацию опустил в церковную кружку, на церковь», — взмолился он. Ассигнация в 5000 левов была найдена в одной из церковных кружек. У нас такой случай был бы обычным, у болгар он является исключительным. Сами болгары признают, что русская душа шире, отзывчивее, щедрее болгарской.
Вообще в Болгарии религия не играет той роли, какую она играет в России, тут главное внимание обращают на внешнюю, обрядовую сторону религии. Показателем этого, между прочим, может служить странное для Православной Церкви явление, что у болгар только в последнее время начала входить в церковную жизнь исповедь как подготовительное средство ко святому причащению. Пример русских беженцев побудил их к этому. Но и теперь только сравнительно немногие благочестивые женщины исповедуются пред причастием. Масса же приступает к принятию Святых Таин даже без говения, а некоторые, не прослушавши ни одной литургии, просто забегают в церковь, чтобы «хапнуть», то есть принять причастие, и, принявши, тотчас уходят из церкви. Самое причащение совершается без всякой торжественности по окончании литургии; благодарственные молитвы для причастившихся не прочитываются. Архиереи и священники не считают нужным исповедоваться. Исповедь — великое средство, заставляющее человека осмотреться, проверить себя, одуматься, слезами покаяния очистить душу свою. Но когда я стал доказывать одному из видных болгарских богословов необходимость введения у них исповеди, он решительно заявил мне. что это невозможное дело, так как никто не решится открывать свои грехи священнику, который может рассказать о них другим... Для русского священника, умеющего хранить исповедные тайны, такое заявление не может не показаться удивительным и странным.
Приверженность к обрядовой стороне религии отражается и в отношении болгар к посту. Благочестивые болгары постятся очень строго, воздерживаясь не только от мясной и рыбной пищи, как и от молочных продуктов, но и от постного масла. Характерен следующий случай: одна пожилая женщина в Рождественский пост обратилась ко мне с вопросом: ей снилось, что она ела пишу с постным маслом, может ли она, несмотря на это, приступить к Святым Тайнам? Такое строгое отношение к посту, с одной стороны, хорошее дело, но оно теряет свою цену, когда человек делает пост не средством, а целью, и таким постом усыпляет свою совесть, отклоняя ее от распознания и врачевания внутренних духовных грехов.
594
На первых порах служения в церкви Святой Седмочисленницы особенно тягостными для меня были дни первой и Страстной недель Великого поста, как и день Пасхи. В болгарских церквах богослужение этих дней значительно отличается от русских служб. Нет у болгар в их богослужении Страстной недели и пасхальном той задушевности, проникновенности, стройности, величественности. какими отличалось наше русское богослужение. И хоры софийских церквей не могут идти в сравнение с петербургскими церковными хорами. В посольской церкви было нечто, напоминавшее эти дни в России. А тут многое коробило меня, особенно небрежный вынос плащаницы после утреннего богослужения в Великую пятницу, отсутствие причастников в Великие четверток и субботу, когда наши храмы были переполнены ими, пение пасхального канона не хором, а двумя певцами, и прочее. Но человек ко всему привыкает. Когда в 1943 г. началось жестокое преследование немцами евреев, распространившееся и на Болгарию, один старый русский еврей утешал своих гонимых единоверцев; «Потерпите, потерпите еще немножко, лучше будет, гораздо лучше будет!» «Что же, что лучше будет? Ты же скажи нам!» — спрашивали утешаемые. «Что мне говорить вам? Поверьте мне, старому человеку, что вам скоро несравненно лучше станет!» — отвечал еврей. «Ну скажи же нам, что будет! Очевидно, ты знаешь что-то», — умоляли несчастные. «Еще раз говорю вам, что чрез пять-шесть месяцев вам лучше будет: привыкнете...» — улыбаясь, сказал еврей. Прогноз еврея оправдался и на мне: я привык к болгарскому богослужению, к нередкому отсутствию эстетики в возгласах и действиях священнослужителей. к небрежному иногда стоянию молящихся в храме, к восточному, иногда режущему русский слух пению, к отсутствию некоторых будящих приятные воспоминания русских обычаев, как освящение пасхальных куличей, христосованье красными яичками и так далее. Налетают, правда, от времени до времени страстные и пасхальные воспоминания далекого русского прошлого, щемящие сердце, и стараешься отогнать их. А на Пасху, вернувшись домой, найдешь посильно приготовленный пасхальный стол: с куличами, сырной пасхой, каким-либо мясом и обязательно с наполненной крашеными яйцами вазой. Освятишь приготовленное и разговеешься по-русски, хотя не совсем так, как было в старой России, где пасхальные столы ломились от множества всевозможных яств, где и бедняки в этот день находили, чем встретить великий праздник, а все же по-пасхальному, по-беженски и наполняешь пасхальной отрадой душу.
Болгары рассказывают, что раньше у них были замечательные владыки, мудрые и стойкие, умевшие совмещать строгое истинно христианское благочестие с самоотверженным патриотизмом. милость — с истиной, правду — с миром. Называют ряд
595
имен: Илариона Маркиопопольского, Константина Врачанского, Климента Тырновского и других. И в моральном, и в религиозном отношении мир в течение последнего столетия значительно ухудшился...
Это отразилось на всех слоях общества и, пожалуй, в особенности заметно — на «ученом» монашестве, из которого вербовались и вербуются наши архиерейские кадры. У нас в старое время учченый монашеский институт заполнялся лучшими студентами академий, которые затем постепенно подводились к архиерейству, проходя и монашеский, и служебно-административный подвиг, совершенствуясь не только в способности к управлению, но и в добродетельной, христиански возвышенной жизни. В последние десятилетия пред революцией и у нас этот институт стал заполняться реже искавшими самоотверженного, возвышенного служения Церкви и своему народу, чем увлекавшимися славой и обильными материальными благами, выпадавшими на долю наших архиереев. Результатом этого было то, что и у нас пред революцией замечалось весьма ощутительно измельчение архиерейства: могикане — митрополит Антоний Петербургский, архиепископ Димитрий Одесский, Стефан Курский, знаменитый Иоанникий, митрополит Киевский, и другие уходили в иной мир, их места занимались второсортными архиереями, а на многих провинциальных кафедрах восседали совсем не отвечавшие своему назначению владыки, стремившиеся владычествовать, но не святительствовать в Церкви.
К прискорбию, приходится сказать, что оскудение в архиерействе стало еще более заметным в Болгарской Церкви. Последним несомненно незаурядным святителем был умерший лет десять тому назад Климент, митрополит Врачанский, не блиставший особенными умственными дарованиями, но бывший архипастырем смиренным и скромным, строго благочестивым и стойким в вере. В особенности у теперешних болгарских архиереев заметно стремление к роскоши: все они понастроили себе богатые дворцы, завели дорогостоящие автомобили, стараются перещеголять друг друга пышностью своих обстановок, забывая, что всем этим архиерей вызывает дружное осуждение и ни в каком случае не увеличивает своего престижа: увлечение суетой никогда не приносило доброй славы духовным лицам, да еще облеченным высшим саном.
О болгарском «ученом» монашеском институте может свидетельствовать пример упомянутого выше архимандрита Г., мечтавшего стать сразу митрополитом в России. Монахи занимают все высшие места в Болгарской Церкви и относятся к белому духовенству как к низшему сословию. Этим недостатком, впрочем, страдали и многие наши архиереи — и первый между ними митрополит Антоний (Храповицкий), под конец своей жизни воз-
596
главлявший Карловацкий Синод: он пренебрежительно называл белых священников попишками, чего не мог простить ему высокоблагородный истинный архипастырь Антоний (Вадковский), на одном из синодальных заседаний резко возразивший ему: «Владыка! Вы забываете, что эти «попишки» — наши отцы». Я и доселе не могу примириться с явной неправдой, когда вижу мальчишку-архимандрита, два-три года назад окончившего курс богословского факультета, или полуграмотного архимандрита, только за свое монашеское звание украшенного архимандритским саном, стоящими выше заслуженных, действительно ученых протоиереев-старцев и даже выше протопресвитеров. Это лучший способ развивать честолюбие, славолюбие, высокомерие и убивать зародыши смирения у отрекавшихся при пострижении от таких недугов. Не буду уже говорить о том, что поставление на самые ответственные должности лиц неопытных, неподготовленных, не наученных смирению и мудрости в обращении с людьми не может не отражаться пагубно на церковном деле. Антагонизм, иногда скрытно, а иногда и явно проявляющийся в отношениях между белым и черным духовенством, имеет серьезные причины, и виновно в этом не белое, а черное духовенство, стремящееся не служить братии, а господствовать над нею. Между тем служение до готовности положить душуу свою — это долг каждого христианина, духовного лица в особенности, а для монаха — исключительно важный.
В то время как «ученое» болгарское монашество упражняется в начальствовании и господствовании, монастыри болгарские оскудели и подвигами, и даже числом своих насельников. Немало таких монастырей, где остаются только монастырские стены, а братию — и начальственную, и подчиненную — заменяет управляющий монастырем местный сельский священник. В наших русских монастырях, не исключая и населенных совершенными простецами, морально не безупречными, посетитель находил устроенный и заботливо украшенный храм, истовое богослужение и приятное монашеское пение, монастырскую обстановку с веянием монастырского духа. Богослужение в наших монастырях совершалось ежедневно, утром и вечером, и всегда чинно. В болгарских. даже самых многолюдных и прославленных монастырях, как Рыльский, богослужение не отличается ни монастырской художественностью, ни задушевностью, так нужной богомольцам. В монастырях же без братии не только в будни, но нередко и в воскресные и праздничные дни службы не бывает. Митрополии берегут такие монастыри ради доходов, извлекаемых из принадлежащей им земли и от некоторых монастырских праздников.
Обидно мне за наше православное монашество. Римская католическая церковь может гордиться своими монашескими
597
орденами, охватывающими всевозможные стороны церковной жизни и деятельности, могущественными и числом своих членов, и высокопробной подготовкой их к предстоящей им деятельности. Об английских монастырях мне приходилось слышать от посещавших их самые восторженные отзывы. В последнее время много забот о своих монастырях прилагает и Румынская Православная Церковь. Хочется думать, что и Российская Церковь займется исправлением и предупреждением тех дефектов, которыми страдали наши дореволюционные монастыри. В Болгарской Церкви пока подобных забот не ставится. Тут еще не дошли до сознания, что монашество должно быть авангардом в борьбе Церкви с врагами спасения, воспитанным, выученным, во всех отношениях подготовленным для такой борьбы.
23-й год я служу при церкви Святой Седмочисленницы, стараясь помогать своим младшим собратьям всем, чем могу. Все говорят, что ныне в этой церкви богослужение совершается стройнее, проникновеннее, мелодичнее, чем во всех прочих софийских церквах, и что этим оно обязано мне. Думаю, что такое мнение в значительной степени справедливо. Я даю своим сослуживцам пример хорошего русского совершения богослужений и осторожно стараюсь исправлять их ориентальские навыки, а они присматриваются, прислушиваются ко мне и воспринимают мои приемы. А вот в другом отношении все мои усилия наладить дело остаются тщетными.
Как я уже сказал выше, при вступлении в церковь Святой Седмочисленницы я не нашел нужных мира и любви между священнослужителями. Какой-то злой рок продолжает тяготеть над этою церковью. Из тех священников, которых я застал при своем назначении, не осталось ни одного: одни на пенсии, другие ушли в иной мир. Вместо прежних четырех теперь шесть приходских священников — себя как не имеющего прихода не считаю. Пять из них — мои ученики по богословскому факультету; старше 40 лет ни одного нет. Все они обеспечены сверх меры, я между ними — парий. Казалось бы, жить им в мире и любви и благодарить Бога за ниспосылаемые блага. Но мира и любви нет между ними. Мои усилия примирить, сплотить их остаются бесплодными. Это тем более обидно, что в других софийских храмах не наблюдается такого прискорбного явления. Благодарю Бога и за то, что на меня не простирается их вражда и все они относятся ко мне как к своему учителю с любовью и почтением. Это, может быть, зависит и от того, что я не посягаю ни на один лев их доходов и стараюсь помочь каждому по силам своим.
В последние годы мои Седмочисленницкие собратья возложили на меня духовнические обязанности и исповедь прихожан производится только мною. Нелегкое, но почетное служение. Число исповедников с каждым годом увеличивается.
598
XL. Русское беженство и Великая война. Русский корпус. Мое отношение к его вербовке
После разгрома в Крыму Добровольческой армии, переименованной генералом Врангелем в Русскую армию, у наших генералов не умирала надежда одолеть советскую власть. Эта фантастическая мечта сильно помешала множеству русских беженцев в Болгарии и других странах благополучно устроиться. Скажу о Болгарии. Ввалившиеся в 1920 г. массой в Болгарию бывшие русские офицеры и солдаты встретили самый благожелательный прием у братушек, охотно помогавших им найти работу, прочно осесть на местах. Знаю из самых достоверных источников, что тогда им могли быть предоставлены огромные участки земли, освободившейся после переселения множества турок из Южной Болгарии в Турцию, изобиловавшей лесными и горными богатствами. Имея множество специалистов, опытных рабочих рук и вывезенных из России инструментов, русское военное командование, из подчинения которому не выходили бывшие русские офицеры и солдаты, могло организовать выгодные концессии и дать сытый кусок хлеба своим подчиненным. Но... оно продолжало готовиться к войне и не только не позаботилось о привлечении своих воинов к организованной массовой работе, но и в первое время вообще запрещало им заниматься заработками. Бее его внимание было обращено на военные занятия: упражнения, лекции, курсы. В первое время в Болгарии действовали генералы Кутепов и Витковский. С отъездом их во Францию возглавителем Болгарского отдела Русской армии стал генерал-лейтенант Федор Федорович Абрамов, донской казак, а его подручным — генерал-майор штаба Михаил Михайлович Зенкевич.
Умный, волевой и очень скрытный, генерал Абрамов и доселе остается для меня некоторой загадкой, хотя он с редким вниманием относился ко мне и часто, казалось, с полной откровенностью беседовал со мной. По его действиям во время Великой войны, когда он слишком усердно содействовал формированию Русского корпуса, надо было бы думать, что он остается ярым противником советской власти. Но с другой стороны, приезжавший из России и живший у него его единственный сын оказался советским агентом. Многие и доселе склонны думать, что генерал Абрамов играл в Болгарии какую-то провокационную роль. До вторжения немцев в Россию я не находил в себе сил примириться с советской властью, как мне представлялось, угнетавшей Церковь, развращавшей молодое русское поколение. Вступление немцев в русские пределы вызвало во мне другие думы и другие чувства. Советская власть или изменит свою идеологию, или уступит место другой, более национальной власти, а Россия должна быть вечной, независимой. Немцы же выступили со злой
599
целью: завоевать Россию, обратить ее в свою колонию, поработить русский народ: всякий русский человек, помогая немцам, будет теперь преступником пред своей Родиной. Что немцы шли завоевывать Россию, в этом меня убедила беседа с протопресвитером Стефаном Цанковым. Я должен сказать о ней несколько слов.
Как только немецкие войска вступили на Украину, Болгарский Священный Синод решил оказать находящимся в оккупированной местности украинским православным церквам свою помощь богослужебными принадлежностями, богослужебными книгами и деньгами. В том же заседании митрополиты пожертвовали от своих епархий на это дело 1 миллион 800 тысяч левов. Для оказания на собранные деньги помощи и для совершения богослужений в оставшихся без священников украинских приходах Синод определил послать десять русских священников, а меня поставить во главе этой миссии.
Мне такое поручение совсем не улыбалось. Я предвидел большие трудности и опасности этой миссии: во-первых, мое служение на Украине будет связано с постоянными передвижениями, для моего возраста в разоренном крае весьма затруднительными и опасными: во-вторых, и это гораздо опаснее, немцы потребуют, чтобы я занимался не только удовлетворением духовных нужд несчастного населения, но и пропагандой в их пользу, на что я ни в каком случае не мог согласиться. Однако отказаться от предложенной мне Синодом миссии я не счел возможным, имея в виду крайне тяжелое положение православного населения в оккупированных местностях: материально оно обездоливалось немцами, духовно на него наседали целые орды разных миссионеров-пропагандистов — католиков, униатов, протестантов, сектантов, которым покровительствовали немцы. Наш отряд из десяти священников был слишком незначителен для борьбы с этой огромной ратью врагов Православной Церкви и России, но чем героичнее, тем почетнее борьба, и пользу несчастным мы могли принести.
Приняв решение, Священный Синод обратился к германскому командованию с просьбой разрешить отряду православных священников отбыть в оккупированную местность для обслуживания оставшихся без священников православных людей. Прошло две недели, а ответа от командования не было. Потом стало известно, что немцы отказывают Синоду. В конце августа 1941г. протопресвитер Цанков пригласил меня на ужин. Пред ужином он под большим секретом осведомил меня о своих попытках выяснить причину германского отказа пропустить священников на Украину и повлиять на фюрера, чтобы дано было разрешение.
С этой целью о. Цанковым были написаны письма его хорошим знакомым: главному протестантскому епископу в Германии, начальнику берлинской милиции и крупному деятелю эку-
600
менического движения — все трое были близкими к фюреру лицами. В переписке с о. Цанковым они всегда были идеально аккуратны, всякий раз без замедления отвечали на его письма. Но теперь ни один из них не удостоил о. Цанкова ответом. Не получив ответа, о. Цанков попросил митрополита Врачанского Паисия, уезжавшего в Берлин, побывать у первых двух адресатов и выпытать у них о причине отказа. Только что вернувшийся митрополит Паисий принес неутешительные вести: прямого ответа от епископа и начальника милиции он не получил, но из беседы с ними он вынес впечатление, что немцам нежелательно национальное возрождение России, которому будут содействовать посылаемые священники. После этого мне стало совершенно ясно, что немцы идут порабощать Россию. «А наши в это время формируют корпус, собираются помочь им одолеть нашу Родину...» — эта мысль ужаснула меня. Я искал оправдания нашему военному командованию: может быть, они так увлечены борьбой с большевиками, что ради нее их не смущают предстоящие страдания Родины: а может быть, они еще не уразумели истинных замыслов немцев и продолжают думать, что немцы идут спасать Россию? Я решил осведомить генерала Абрамова о своей беседе с о. Цанковым.
На следующее утро, кажется, 1 сентября, я отправился к генералу Абрамову, начальнику Русского воинского отдела в Болгарии, в его канцелярию на ул. Оборище. Открыв калитку, я был поражен увиденным: огромный двор был переполнен народом — съехавшимися со всех концов Болгарии бывшими офицерами и солдатами — для записи в Русский корпус. Не одна сотня людей разных возрастов толпилась там. На мое заявление адъютанту Абрамова, что мне нужно видеть генерала, он ответил, что едва ли генерал сможет принять, так как очень занят. «А вы все же доложите ему», — еказал я. Абрамов тотчас меня принял. Я подробно рассказал ему о своей беседе с о. Цанковым, освещающей истинные намерения немцев, едва ли приемлемые для русских патриотов. Весьма словоохотливый и ко мне внимательный, генерал Абрамов выслушал меня, не проронив ни одного слова. Для меня стало ясно, что для него вопрос о Русском корпусе, о помощи немцам бесповоротно решен, что никакие резоны не могут переубедить его. Вышел я от генерала Абрамова удрученным: обидно мне было за него, пустившегося в недостойную авантюру, жаль мне было этих несчастных, доверившихся ему людей, одни из которых хотели убежать от ужасной жизни на тяжких работах на рудниках, фабриках, заводах и в других подобных местах, вторые обманывали себя надеждой скоро увидеть Родину, родных и зажить на родной земле новой жизнью.
Началась отправка завербованных в Русский корпус. Для каждой партии отъезжавших служился напутственный молебен
601
в русской церкви, настоятель которой протоиерей Николай Владимирский с объявлением немцами войны России сделался отчаянным германофилом и после каждой воскресной литургии служил в посольской церкви молебен о даровании победы фюреру. Епископ Серафим не принимал участия в таких молениях. По-видимому, он не сочувствовал им. но запретить не решался.
Вскоре после моей беседы с генералом Абрамовым ко мне зашел генерал Федор Эмилиевич Бредов, в Гражданской войне командовавший Корниловским полком. «Мой полк идет воевать против большевиков. Наше общее желание, чтобы вы как протопресвитер Российской армии и флота отслужили нам напутственный молебен, благословив таким образом нас на ратный подвиг», — обратился он ко мне. «К сожалению, не могу я исполнить вашей просьбы. Советская армия теперь защищает Русскую землю от порабощения ее немцами, а вы собираетесь помогать немцам. Не могу я благословлять вас на такое дело. Идите в посольскую церковь, там благословляют», — ответил я. Очевидно, мой ответ разнесся по Софии, и уже никто больше не обращался ко мне за благословением на борьбу с Советами.
Чрез некоторое время небольшая группа беженцев, выдававших себя за великих патриотов, затеяла торжественное служение молебна о даровании победы фюреру и его союзникам. Заправилы явились ко мне с требованием, чтобы я как бывший военный протопресвитер возглавил служение этого молебна в посольской церкви. Я не дал им никакого ответа. Меня утешило то, что не только русская гимназия и Общество русских соколов, но и генерал Абрамов отказались от участия в затеваемом торжестве. Но вскоре все они, испугавшись возможной со стороны немцев мести, переменили свое решение. Оставался я один, еще не давший согласия. Между тем мне было известно, что немцы недоброжелательно относятся к моей особе. Как подчиненный Софийскому митрополиту Стефану я отправился к нему. Сначала он решительно воспротивился служению мною молебна. Но когда я объяснил ему, что в случае моего отказа меня могут ожидать большие неприятности и что, возглавляя служение, я буду молится не о победе немцев, а о спасении России, какую мысль подчеркну и в своем слове пред молебном, он согласился. «Смотрите же, служите и говорите так. чтобы не было унижено русское имя», — закончил он беседу со мной.
На следующий день, в воскресенье, служился молебен в посольской церкви. Церковь не могла вместить собравшихся. Явились представители германской армии и германских союзников. «Вы какой же молебен собираетесь служить?», — спросил я протоиерея Н. Владимирского. «Молебен о даровании победы германцам и их союзникам», — ответил он. «Такого молебна я не стану служить. Будем молиться о спасении России», — реши-
602
тельно сказал я. О. Владимирский попробовал упираться, но в конце концов сдался. О победе немцев мы не упоминали при служении молебна, молились о спасении страждущей нашей Родины. Все же о. Владимирский внушил своему дьякону-болгарину возгласить многолетие победоносным германцам и их союзникам. Дьякон запутался и многолетие вышло неважным. Пред молебном были произнесены речи мною и Владимирским. Я ярко подчеркнул мысль, что если немцы идут не с крестом миротворца, а с мечом завоевателя, с целью захватить русские земли и поработить часть русского народа, то пусть не ожидают они успеха: русские смогли отразить и Карла XII Шведского, и гениального Наполеона, сумеют отразить и новых врагов, если они посягнут на достояние святого Владимира. Русские, кроме устроителей молебна, были в восторге от моей речи, переписывали, перечитывали, распространяли ее. Генерал Русев, бывший министр внутренних дел, встретив меня, приветствовал такими словами: «От всей души поздравляю вас: вы говорили, как должен был говорить верный сын великой России». Немцы были возмущены моей речью. Многие русские опасались, что немцы не простят мне этой речи. Зато о. Владимирский угодил немцам: в восхвалениях немцев, в пожеланиях им побед и одоления он превзошел всякую меру. Противно было слушать его недостойную речь.
Вступив в Болгарию, немцы начали распоряжаться как у себя дома. Фактически не царь Борис со своим правительством после того управляли Болгарией, а германский посланник в Болгарии с германскими генералами. В одном только не преуспели они: царь Борис не согласился исполнить требование фюрера — вступить в войну с Россией. За это он заплатил своею жизнью: мне не раз пришлось слышать от высших болгарских кругов, самых информированных, что он был отравлен немцами.
К величайшему позору для русского имени, во время господства немцев в Болгарии немало наших русских беженцев изощрялись в способах услужить, понравиться немцам. Находились и русские шпионы на службе у немцев. Самые рьяные прислужники немецкие с приходом русских сумели влезть в душу русских властей и теперь пользуются их вниманием и соединенными с таким вниманием благами...
После водворения немцев в Болгарии последняя оказалась союзнически связанным с ними государством, хоть и неполным, так как она не предпринимала военных действий против России, ставшей самым опасным врагом для Германии, но Северо-Американские Штаты, Англия и Франция стали смотреть на нее как на своего врага. Начались американо-английские бомбардировки Болгарии и в первую очередь Софии.
В те три войны — Русско-японскую, Великую и Гражданскую, — в которых я участвовал, тыловых бомбардировок не
603
производилось, и я к первым американо-английским бомбардировкам относился свысока: мало ль, что бросают бомбы, это же не значит, что они в меня попадут. Когда тревожно начинала гудеть сирена, я ложился в постель и засыпал сном праведника. Проснувшись же, я посмеивался над теми, которые, заслышав звук сирены, спешили укрыться в подвалах и разных специальных убежищах. Но 10 января 1944 г. я изменил свое отношение к вражеским бомбардировкам.
В этот злополучный день в обеденный час сестра моя ушла в гимназический женский интернат за обедом — мы оттуда брали обеды и ужины, а я занялся приготовлением стола к обеду. Вдруг загудела сирена. Я затревожился, опасаясь, чтобы сестра моя в пути не поверглась опасности, и был чрезвычайно рад, когда она благополучно вернулась домой. Мы уселись обедать. В это время раздались взрывы бомб в городе, становившиеся все более слышными и к нам приближавшимися. Сестра налила мне тарелку борща. Едва я успел проглотить две-три ложки, как по другую сторону нашей улицы раздались два сильнейших взрыва, во всех наших окнах зазвенели стекла, не осталось ни одного целого стекла, раскрылись и потрескались двери, буфетик обратился в щепы. Меня свалило воздухом со стула, сестра подняла меня. Это была первая грозная бомбардировка с множеством жертв. Между прочим, погиб мой сослуживец священник Леонид Леонченко, бывший русский офицер, уроженец Ставропольской губернии, честнейший человек и добрый священнослужитель. Пред самой бомбардировкой он работал в церковной канцелярии на ул. Графа Игнатьева. Когда загудела сирена, он счел помещавшуюся в третьем этаже дома канцелярию небезопасным местом и спустился в подвал, но канцелярия уцелела, а о. Леонченко в подвале бомбою был разорван на части. Удивительно, что в тот самый час другою бомбою была разрушена его квартира на ул. Любен Каравелов и под развалинами погибли его единственный сын и тетка его покойной жены. Вышло: не знаешь, где найдешь и где потеряешь.
После бомбардировки, повторившейся и ночью на 11 января, мы остались без квартиры. Этой участи подверглось и множество других софийских граждан, 11-го толпы пешеходов, перегруженных багажом, бросились из Софии. И мы с сестрой, захватив самое необходимое и ценное и оставив на произвол судьбы квартиру без окон, с незапирающимися, подпертыми палками дверями, отправились пешком в Овчую Купель, отстоявшую километров 8 от нашей квартиры: там жил наш хороший знакомый — Виктор Федорович Ангор-Процевненко, которого я венчал и у которого крестил всех пятерых детей: мы были уверены, что он не откажет нам в приюте в своей великолепной двухэтажной вилле. Стоял мороз, путь по шоссе был неровен, и я, пройдя полпути, под грузом
604
лежавшего на моих плечах багажа совершенно обессилел. Положение стало критическим: бросить мой груз нельзя было, а сил у меня не было дальше нести его. Но совершилось истинное чудо, которого мы не могли ждать: к нам подбежал сосед Ангора, молодой здоровеннейший человек в солдатской форме, и, схватив мой багаж, взвалил его на свои плечи. Оставшись без нагрузки, я смог пойти дальше. В доме Ангора мы были встречены с полным радушием и поселились там: огромное помещение в вилле позволило Ангорам сделать это, нисколько не стесняя свою семью.
Местность, где находится вилла Ангора, дачная, с редкими домами и домиками, окруженными садиками. Я был уверен, что при бомбардировках Софии этой местности не может угрожать никакая опасность: охотиться неприятелю на такие домики — то же, что стрелять из пушки по воробьям, но и тут мы не освободились от отвратительных звуков сирены, после 10 января начавшей и меня нервировать, чему в значительной степени содействовало настроение жильцов виллы. А их собралось в тот же день очень много — добрые наши хозяева не отказывали никому. В тот же день были приняты: Мерзляков с женой, бывшей учительницей Софийской русской гимназии, тещей и дочерью, генерал Лескинен с женой и сестрой, генерал граф Н.Н. Игнатьев с женой, П.А. Божерянов с женой, двумя сыновьями, тестем и тещей. В течение двух дней жили полковник Беляев с женой, зятем и дочкой. Когда они ушли, поместился служащий в конторе Ангора Нейкирх. Оказалось, жильцов в доме вместе с хозяевами (муж, жена, пятеро детей, теща и служащий) 27 человек. Но не проходило ни одного дня, чтобы не оказывался еще какой-либо ночлежник. Большое помещение стало переполненным. Особенно тяжелым оказалось положение хозяек, и только необыкновенное миролюбие и деликатность хозяев, строгая дисциплина, введенная в доме, предупреждали возможность, казалось бы, неминуемых конфликтов между ними.
При тревогах все жильцы уходили в подвальное помещение, которое ни в коем случае не могло защитить нас от бомбы, но утопающий хватается и за соломинку. Некоторые из наших дам, засев в подвале, проявляли большую нервность. Самым же нервным, если не сказать удивительно трусливым, оказался наш Нейкирх. Уже зрелых лет мужчина, отличный математик, самый лучший в Софии шахматист, со всех турниров выходящий победителем, он при первом звуке сирены становился совсем невменяемым и бежал из дому куда глаза глядят. Я в первый раз в жизни видел мужчину, способного поддаваться такой панике.
Моя уверенность, что наш дом находится в безопасной зоне, оправдалась: вблизи нас не упала ни одна бомба и только в полуверсте от нашего дома, у самой трамвайной линии, был разрушен один домик. Однако население нашего дома, прозванного
605
нами Ноевым ковчегом, не обошлось без жертв: 30 марта 1944 г. был убит Мерзляков. Бомба попала в дом. где в г. Софии помещался винный склад, где он работал, и все находившиеся в то время в складе погибли. В этот же день во время нашего сидения в подвале генерал Г.И. Лескинен почувствовал себя худо и тотчас скончался.
Наше пребывание на вынужденной даче в семье исключительно добрых, расположенных к нам людей было бы совсем приятным: чистый воздух, паровое отопление в доме, электрическая кухонная печка, освобождавшие мою сестру от многих трудов и хлопот, если бы нам не нужно было ежедневно навещать город, куда меня влекла служба, а сестру — заботы об оставленной на произвол судьбы квартире и живших в ней животных. Путешествия в город не доставляли никакого удовольствия: трамвайные вагоны всегда бывали переполнены, трамвай останавливался на окраине города, и нам приходилось пешком добираться до своей квартиры, проходя по изрытым бомбами улицам, между разрушенными и полуразрушенными домами. Войдя в город, надо было каждую минуту ожидать тревожных звуков сирены и тогда укрываться в убежище. А городские убежища так переполнялись людьми, что я однажды чуть не задохнулся, сидя в подвале Министерства внутренних дел. Единственным утешением при наших поездках в город было отношение к нам оставленных нами наших милых кошечек: с какою радостью они каждый раз встречали нас. с каким трогательным вниманием они провожали нас до следующего квартала и с какой грустью они расставались с нами! Я часто тогда думал: немногие люди умеют так ценить делаемое им добро.
Наша квартира оставалась без окон и с подпертыми палками дверьми с 11 января до конца октября, всякий желающий без труда мог забраться в нее и похищать, что ему понравится. Но вернувшись в нее, мы нашли в целости решительно все. Не знаю, чему приписать это: честности ли софийских граждан или бдительности софийской милиции.
Возвращусь к нашему Воинскому союзу, возглавлявшемуся в Болгарии генералом Ф.Ф. Абрамовым. Деятельность Воинского союза проявлялась у нас в трех направлениях. Во-первых, в сплочении нашего оказавшегося в беженском положении офицерства в одну семью. Это была весьма полезная, нужная и благородная задача.
Для людей со слабой волей, способных увлекаться дурным товариществом. поддаваться дурным влечениям или влияниям, необходимо, чтобы их сдерживала или сильная власть, или голос общества, к которому они принадлежат. Для примкнувших к Воинскому союзу его правление являлось и властью, и голосом общества. их сдерживавшими. Кроме того, оно посредством разных организаций, общих празднеств, докладов, лекций объединяло
606
членов союза, будило в них научно-военные интересы, а нуждающимся нередко оказывало и материальную помощь. Нельзя было не приветствовать такой работы правления Воинского союза, и я чем мог помогай! ему в такой благородной его деятельности.
Но я был решительным противником другой деятельности правления союза, выражавшейся в его непрошеных заботах о воспитании беженских детей. Работа эта происходила как будто без участия самого генерала Абрамова. Ее вели «подручные», возглавлявшиеся генералом М.М. Зенкевичем. Разные отделы ее носили разные названиия: общества разведчиков, кутеповцев, петровцев. В программах их были некоторые разности, но все они стремились развивать в юношах воинский дух, упражнять их в воинских занятиях, готовить к борьбе с большевиками. Самым деятельным и для меня самым отвратительным было Общество разведчиков, направлявшееся тупым и упрямым полковником Румянцевым, заведовавшим мужским интернатом Софийской русской гимназии. Я был убежденным сторонником такой воспитательной системы, что и начальствующие, и учителя, и все прочие, приставленные к учебно-воспитательному делу, должны воспитывать в юношах горячую любовь к своей Родине, веру в ее великие силы и готовить не каких-то вояк, а культурных, знающих и усердных работников, могущих стать добрыми деятелями на родной земле, если им придется оказаться на ней. А полковник Румянцев все свое внимание как воспитателя обратил на военную выучку помещавшихся в интернате юношей, разными военными упражнениями и маршировками отвлекая их от школьных занятий. Ребятам нравились увлечения их воспитателя, им приятнее было маршировать с заменявшими ружья палками, рисовать пушки, ружья, коней и прочее, чем заниматься уроками математики, языков, географии и подобных предметов. Но меня жестоко удручало, когда я видел во время объяснений учителя на уроке, что ученики занимались одними глупостями: один рисовал пушки, другой — лошадей, третий — окопы, блиндажи и тому подобное. Директор и учителя возмущались преступной работой Румянцева, но не решались открыто и резко выражать свое возмущение. А я при всяком случае, не стесняясь в выражениях, порицал и руководителя, и руководимых. Генерал Абрамов был осведомлен о моем отношении к работе его подручных, ведшейся, несомненно, с его ведома и под его благословением, но, чтобы не вступать в конфликт со мною, он делал вид, что не принимает участия в работе своих подручных и не замечает моего к ним отношения.
Всячески покровительствуемая возглавителями Воинского союза игра наших юношей «в солдатики» привела к тому, что когда стал формироваться русский корпус, почти все они бросились записываться в него, не только ученики старших классов
607
гимназии, но и младших. Администрация интерната в лице полковника Румянцева и его помощников не останавливала, а поощряла их. Считая это полным безумием, тяжким преступлением, коверкающим всю последующую жизнь несчастных юношей, я всячески противодействовал, стараясь убедить записывающихся, что Родина ждет от них последующей разумной деятельности на поле мирного труда, а не теперешней их борьбы с нею. Но очень многих гимназистов увлекала перспектива освободиться от уроков и иных школьных занятий и, облекшись в военный мундир, пожинать лавры на бранном поле. Мои самые настойчивые увещания оказывались бесплодными: много наших учеников ушло в корпус, некоторые из них погибли; другие бросились в Россию помогать немцам, все уцелевшие остались недоучками. Генерал Абрамов и его подручные Румянцев. Фосс и другие успели ускользнуть от советских войск и теперь благоденствуют в Америке: генерал Зенкевич погиб; другие, например начальник штаба генерала Абрамова полковник П.К. Ясевич, генерал Н.Э. Бредов томятся в советских концлагерях, третьи пристроились к Советам.
Если к упомянутым юношеским организациям мое отношение было совершенно отрицательным, в особенности к разведчикам. которым вменялось в долг «разведывать», то есть шпионить за всеми лицами, неприятными их руководителям, не исключая гимназического начальства и учителей, то я всецело сочувствовал русским соколам и скаутам. Общество «Русский сокол» было для взрослых, но много внимания уделяло и детям, стараясь оказывать им и духовную, и материальную помощь: зимою организовывало для них занятия и развлечения, подкармливало их завтраками, снабжало одеждой, а летом устраивало для них лагеря. Не вдаваясь в политику, оба эти общества заботились о том, чтобы научить детей помнить и любить Россию.
XLI. Митрополит, а потом экзарх Стефан I. Мои отношения с ним
В течение всей своей 78-летней жизни я не встречал человека, у которого, как у митрополита Стефана, столь ярко, очень бьюще конкурировали бы великие достоинства и противоположные им великие недостатки.
Митрополит Стефан, несомненно, весьма одаренный человек. Но в нем надо различать митрополита Стефана, говорящего, рассуждающего, и митрополита Стефана, действующего. Первый митрополит Стефан всегда великолепен: красноречив, сообразителен, находчив, убедителен; второй митрополит Стефан нередко терпел неудачи.
608
Митрополит Стефан Божиею милостью оратор. Некоторые его экспромты удивительны по яркости мысли, красоте стиля, по вдохновению, по впечатлению, производимому на слушателей. Он мог бы стать одним из знаменитейших ораторов-проповедников Православной Церкви, если бы не переставал усердно восполнять свой умственный багаж и даже в ненужных случаях и без меры не расходовал своего дара красноречия.
Он мог быть отличным администратором, ибо обладал нужными для того качествами: сильным и острым умом, добрым сердцем, желанием делать добро, радеть об интересах Православной Церкви. Но у него не было умения разбираться в людях, выбирать себе добрых помощников и не было воли приводить в исполнение свои добрые желания. Кроме того, вследствие отсутствия сильной воли у него не было твердого слова: завтра он мог преспокойно отказаться от того, что с пеной у рта защищал сегодня. Этот недостаток был причиною того, что редко кто верил его обещаниям, заверениям и решался полагаться на него.
Нельзя отрицать большой любви его к Православной Церкви. Но знающий его жизнь должен сказать, что в Православной Церкви он любил более всего обрядность, ее показную сторону, в особенности ее торжественные моменты с его участием. Жизнь же его далеко не всегда проходила в согласии с уставами и требованиями нашей Церкви...
Митрополит Стефан занимал высшую должность экзарха в Болгарской Православной Церкви и уже совсем близок был к Патриаршеству. О своей любви и преданности Православной Церкви он заявлял при всяком случае, но политика, дипломатия интересовали его не менее, чем Церковь с ее нуждами и запросами. Он не переставал порываться играть роль в международных сношениях, поддерживать связи с иностранными дипломатами, влиять на направление болгарской политики. Он не высказывал мне, что ему хотелось бы возглавить болгарское правительство, но, зная его неудержимое стремление к власти и славе, его постоянную неудовлетворенность настоящим большим и болезненное стремление обрести еще большее, я решаюсь утверждать, что такое желание его не покидало. Он, вероятно, не подозревал, что я с большим интересом наблюдал его игру в погоне за почестями горнего звания. Сделавшись Софийским митрополитом, заняв таким образом исключительно высокое положение в Болгарской Церкви, он сразу же начал прокладывать себе путь к экзаршеству. Я уверен, что именно под его воздействием Собором Болгарской Церкви было сделано дополнение к Экзархийскому уставу, что экзархом должен быть Софийский митрополит. Но старшие митрополита Стефана болгарские митрополиты не хотели допустить, чтобы младший митрополит стал их начальником, и постановление Собора оставалось неосуществленным до начала 1945 г. В начале Ве-
609
ликой войны, в пору владычества немцев, был поднят вопрос об избрании экзарха. Противником этого выступил митрополит Стефан, со всей силой своего красноречия доказывавший несвоевременность при бывшей тогда всеобщей неурядице разрешения такого сложного вопроса, как выбор экзарха. Мне была ясна причина его протеста: в пору владычества немцев он как их открытый противник ни в каком случае не был бы допущен до экзаршеской кафедры. С приходом в Болгарию советских войск неурядица ни в стране, ни в Церкви Болгарской не уменьшилась, но она совершенно исчезла в положении митрополита Стефана: как решительный противник немцев с опасностью не только для своей карьеры, но и для своей жизни смело выступавший против них, он окружил свое имя славой: с советским высшим командованием сумел войти в самые дружеские отношения и, наконец, сумел поладить с тогдашним новым болгарским правительством. Теперь при выборе экзарха все шансы оказывались на его стороне. Учитывая все это. он теперь начал доказывать, что Болгарская Церковь не должна дальше оставаться без экзарха. Его мечта осуществилась: 21 января 1945 г. он был избран экзархом. Почти тотчас же он начал прокладывать себе путь к патриаршеству. Завязавшаяся большая дружба с Московским Патриархом Алексием обеспечивала ему достижение и этой мечты: при содействии Патриарха Алексия Вселенский Патриарх уже соглашался на восстановление Болгарской Патриархии, а Патриарх Алексий обещал прибыть в Софию для интронизации митрополита Стефана как Болгарского Патриарха. Событие это должно было осуществиться в конце 1948-го или в первой половине 1949 г.
Меня не раз занимал вопрос: достигши патриаршей кафедры, успокоился бы митрополит Стефан или продолжал бы искать новых почестей, новой славы? Убежден, что и патриарший сан не удовлетворил бы его, и. став Патриархом, он начал бы искать новых отличий. Атак как в Церкви награждать Патриарха, носящего высший священный сан. нечем, то он неминуемо устремил бы свои взоры на область государственного управления и там искал бы новой славы. Жажда отличий ненасытна. В этом я тысячу раз убеждался, наблюдая жизнь.
Митрополит Стефан умел быть очаровательно любезным, терпеливым, снисходительным в обращении с людьми, но он же бывал невыносимо груб, и не только с простыми людьми, но и с митрополитами. Кажется, я был единственным человеком, почти за 30 лет частого общения с ним не услышавшим от него ни одного резкого слова, не видевшим ни одного косого взгляда.
Сын бедного родопского многосемейного священника, жившего болгарскою патриархальною жизнью, митрополит Стефан не мог в родительском доме привыкнуть к роскоши. Он полюбил ее в России, когда, будучи студентом Киевской духовной акаде-
610
мии, бывал принят в киевских русских аристократических домах. Там он стал барином, усвоив все барские привычки. В Болгарии жизнь его так складывалась, что он имел возможность удовлетворять их, особенно ставши митрополитом; кроме достаточного митрополичьего жалованья он пользовался еще разными поступлениями от церквей и в особенности от монастырей, снабжавших его разными необходимыми для стола продуктами. И митрополит Стефан жил барином. Его спальня с широкой, пышной кроватью, всегда благоухавшая тонкими духами, напоминала более будуар светской львицы, чем келью отрекшегося от мира инока. Слуги раздевали и одевали его. Званые обеды и ужины следовали у него один за другим: митрополит Стефан любил бывать в гостях у богатых людей и сам любил принимать гостей, любил, чтобы гости выходили из-за стола его сытыми и веселыми. Угостить же он умел: блюда у него всегда бывали вкусными, вина отменными: за столом он бывал внимательнейшим, добродушным, интересным собеседником и хозяином, не оставлявшим без своего внимания ни одного гостя. Иногда приходилось удивляться его искусству держать себя, в разговоре с каждым гостем находить нужную тему и о каждом позаботиться, чтобы он остался удовлетворенным, сытым и благодушным. Но бывало и иначе, когда ужины с ним для непривычного к болгарским вкусам и развлечениям человека оказывались весьма тягостными. Это бывало на ужинах у близких знакомых и родственников митрополита Стефана, когда, ублаживши свою плоть яствами и хорошим вином возвеселивши душу свою, он затягивал болгарскую песню, к нему присоединялись другие, и пение затем продолжалось в течение двух и более часов. Кроме того, сидение за столом в продолжение четырех-пяти часов было утомительным, а русскому человеку представлялось неслыханным и невиданным, чтобы митрополит выступал запевалой в светском хоре.
Митрополит Стефан очень любил торжественность богослужений. Сделавшись экзархом, он не совершал богослужений иначе, как в сослужении не менее трех архиереев, четырех архимандритов и множества священников. Богослужебная торжественность имеет глубокий смысл: она переносит мысль богомольца к величию Небесного Отца, к торжеству Небесной Церкви, не знающей ни печалей, ни воздыханий и живущей бесконечно вечно блаженною жизнью: она утешает, ободряет, укрепляет сердца пришедших в храм облегчить свои удрученные невзгодами сердца. Но богослужебная торжественность не достигается одной внешней обстановкой: количеством совершающих богослужение и их саном, блестящими драгоценными одеждами, пышностью всей обстановки. Чтобы она потрясала человеческие сердца, ей непременно должны сопутствовать
611
высокое настроение, молитвенность, искренняя вдохновенность совершителей и прежде всего предстоятеля. Актер тогда талантливо исполняет свою роль, когда он так сливается с изображаемым им героем, что как бы перестает быть самим собой. Совершитель богослужения тем более не должен выдвигать свою личность, играя своим голосом, манерничая, стремясь понравиться богомольцам. Он должен служить, отрешившись от всего земного и личного, отдаваясь молитве о прощении собственных и людских прегрешений и благодатном укреплении предстоящих и молящихся. Митрополит Стефан обладал многими данными для доброго совершителя богослужения — сильным и приятным голосом, безукоризненным слухом, величественной фигурой, усердием и любовью к церковным службам. Но в его манере совершать богослужения, в его движениях, голосе, поклонах даже в непринятые моменты, даже в его каждении не было той эстетичности, той красоты, какие отличали лучших наших совершителей богослужений. На многих его богослужения производили неприятное впечатление искусственности, деланности. И в некотором отношении эти люди, может быть, были правы.
Любовь митрополита Стефана к России не подлежит никакому сомнению. Он считал Россию своей второй родиной, духовно родившей его: о своей любви к России он заявлял при всяком удобном случае: его поведение во время Великой войны, когда он за свое русофильство был выслан из Болгарии, и во время Второй великой войны при оккупации немцами Болгарии доказывало, что он был готов и страдать за свою любовь к России. Когда в Болгарии появились русские беженцы, Стефан, тогда в сане архимандрита бывший протосинкеллом Священного Синода, сразу вступил в роль их покровителя и, надо правду сказать, немало сделал для облегчения их участи. Но и тут сказывалось его неуменье разбираться в людях: наибольшим его благоволением пользовались и из такого благоволения извлекали для себя выгоды разные проходимцы, умевшие подойти к нему и нужными льстивыми словами ублажить его. Преступнейшему священнику С. митрополит Стефан до последнего времени продолжал покровительствовать и прощать все его новые пакости — этот о. С. бесстыдной лестью угодил ему. В течение продолжительного времени близким к митрополиту Стефану лицом был некто Юрченко, определенно преступный тип. Митрополит Стефан только тогда разобрался в нем, когда тот, заняв у него 35 тысяч левов (по тому времени очень большие деньги), скрылся из Софии. Все приезжавшие в Софию русские архиереи оказывались у митрополита Стефана умнейшими, талантливейшими, интереснейшими. Таким оказался у него и дальневосточный архиепископ, ныне митрополит Нестор, во время Великой войны служивший под моим началом, более хитрый и
612
ловкий, чем архиерейски настроенный и талантливый человек. Только с безусловно умным, хоть в хитрости и ловкости не уступавшим Нестору, Североамериканским митрополитом Платоном (Рождественским) митрополит Стефан не смог сойтись, потому что воспоминания о прошлом помешали этому: когда митрополит Стефан был студентом Киевской духовной академии, Платон был инспектором этой академии и чем-то насолил Стефану.
У митрополита Стефана было множество родственников; братья и сестры, племянники и племянницы, внуки. Митрополит Стефан относился к ним с трогательною любовью и заботливостью. Черта похвальная: «Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного», — сказал апостол (Тим. 5, 8). Все родственники и родственнички, дядюшки и дедушки митрополита Стефана считали себя вправе ожидать великих милостей от своего сановного брата, а он не находил в себе сил стоять против просьбы: одних он устраивал на места в своем управлении, так что там, по Грибоедову, «чужие были редки, а больше — женины и свояченины детки», других одарял разными материальными благами. Вследствие этого у митрополита Стефана всегда недоставало денег, и ему приходилось изыскивать средства.
Таков был митрополит Стефан. В его могучем организме все время бушевали положительные и отрицательные силы, недостатки как будто спешили опередить его достоинства, которыми пользовались как средствами для достижения своих целей.
Как я уже сказал, задержался я в Болгарии благодаря Стефану. Наши отношения оставались сердечными и после того, как он стал митрополитом. Но особенному нашему сближению способствовало одно обстоятельство.
Митрополит Стефан не удовлетворялся славой оратора, почестями и благами, выпадавшими на долю Софийского митрополита, возможностью играть некую роль в международных отношениях и в государственном управлении, ему хотелось еще добиться и литературной славы. Но для литературных занятий ему недоставало ни времени, ни больших знаний, ни специальных литературных дарований. Мой бывший инспектор, а потом ректор в академии, скончавшийся в сане Патриарха Московского, Сергий был прекрасным писателем и никуда не годным оратором; митрополит Стефан прекрасно говорил и гораздо хуже писал. К писанью он привлек нескольких помощников, болгар и русских. Те на предложенные им темы писали, а он, иногда даже не потрудившись прочитать написанное, подписывал и отдавал в газеты и журналы для напечатания. Редактор «Церковного Вестника», бывший в то время и секретарем Священного Синода. Христо Попов рассказывал мне, что ему не раз приходилось убеждать митрополита Стефана взять обратно «свою» статью, так
613
как она и богословски, и стилистически не отвечала своему назначению. Кому придется знакомиться с литературными творениями митрополита Стефана, с его статьями и брошюрами, тот будет удивлен разнообразием стиля, языка, эрудиции, образа мышления, понятными для тех, кто знает, что писаны они разными авторами разного уровня. Иногда митрополит Стефан поручал и мне написать статью, за которую я не получал никакого вознаграждения. Я не могу думать, чтобы митрополит Стефан на таких статьях, хоть ими и пестрели духовные газеты и журналы, смог бы нажить добрую славу даже и в том случае, если бы способ фабрикации их сохранялся в тайне. Но ведь «на чужой роток не накинешь платок». Скоро вся София знала, как пишутся статьи митрополита Стефана.
Митрополит же Стефан, не удовлетворяясь мелкими статьями, решил перейти на более крупные работы. Первая такая работа была поручена Константину Георгиевичу Моховому, который хорошо владел пером там, где можно было фантазировать. Но в богословии он был несведущ и для серьезной богословской работы негоден. Вместо того чтобы самым серьезным образом отнестись к порученной ему работе, он нашел изданную в Сербии одним русским эмигрантом брошюрку и целиком перевел ее, выдавши перевод за творение митрополита Стефана. Профессор богословского факультета в Софии архимандрит Евфимий, заклятый враг митрополита Стефана, разоблачил авторов. Появилась резкая, крайне оскорбительная для митрополита Стефана брошюра «Высокопреосвященный плагиат», нашедшая, конечно, множество читателей. Но этим дело не кончилось. Скоро прибыл в Софию автор сербской брошюры, произведший на меня отвратительное впечатление, и начал вопить по всей Софии, что митрополит Стефан обокрал его, за что ответит перед судом. Потом он был принят митрополитом Стефаном, и дело улеглось не иначе как за значительную мзду.
Обжегшись на Моховом, митрополит Стефан привлек меня к составлению более крупных трудов. Так, в 1935 г. появилась за подписью одного митрополита Стефана книжка (116 стр.) «Сжщина на пастирското служение» («Сущность пастырского служения»). В благодарность я получил 5 тысяч левов и экземпляр книги в кожаном переплете с лестной надписью. А в препроводительном письме митрополит Стефан писал: «Примите эти два мои скромные отправления: «Сжщина на пастирското служение», где Вы увидите себя самого»... Архимандрит Евфимий спрашивал меня: «Это вы написали изданную митрополитом Стефаном книгу?» «Вас это не касается». — ответил я ему. После того как книга эта произвела большое впечатление, митрополит Стефан попросил меня продолжить ее разъяснением практической стороны пастырства, чтобы затем издать вторую книгу о пас-
614
тырстве. Я исполнил поручение и затем был очень удивлен, что моя рукопись появилась не в виде книги, а в виде ряда статей о пастырстве, за подписью митрополита Стефана помещенных в журнале «Духовная культура». Митрополит Стефан заявил мне, что весь гонорар он отдал переводчику, синодальному чиновнику Борису Стоименову. Я остался ни с чем...
В последующие годы были изданы, уже за подписью митрополита Стефана и моею, написанные мною книги: в 1943 г. «Православный катехизис» (192 стр.), в 1945 г. «Евангелието в живота» («Евангелие в жизни», 165 стр.) и в 1947 г. «Социалният проблем в светлината на Евангелието» (204 стр.). Все эти книги издавались Общим союзом православных христианских братств Болгарии, который посильно и вознаграждал меня за авторский труд. Участие митрополита Стефана в написании этих книг состояло в том, что мы с ним в Кладнишком монастыре прочитывали написанное мной, причем он в редких случаях просил меня развить ту или иную мысль. Затея же всех этих трудов принадлежала всецело митрополиту Стефану.
От некоторых болгарских митрополитов мне приходилось получать укоры, что я отдал свои труды митрополиту Стефану, а он выдает их за свои. Я отвечал им. что издавать свои труды на личные средства я не имею возможности и потому предпочитаю, чтобы они увидели свет и послужили Церкви, вышедши за подписью митрополита Стефана, чем плесневели в моем письменном столе. Все выпущенные нами книги имели большой успех в обществе.
Митрополит Стефан затевал какой-то новый труд, но разразившаяся над ним катастрофа пресекла нашу совместную литературную работу. По вступлении советских войск в Болгарию (9 сентября 1944 г.) у меня началась нового рода работа: митрополит Стефан быстро завязал приятельские отношения с советским военным командованием — с генералами Бирюзовым, Черепановым и другими: пошли званые обеды и ужины. Митрополит Стефан закармливал генералов у себя и у своих богатых друзей, генералы неизменно приглашали митрополита Стефана на свои военные торжества, на которых он всегда выступал с речами: потом завязалась у него оживленная переписка с заместителем Московского Патриарха, вскоре ставшим Патриархом Алексием, причем был поднят вопрос о схизме. Наконец, начали обмениваться визитами: в Болгарию приезжал в апреле 1945 г. Псковский архиепископ Григорий со свитой, а в мае 1946 г. — сам Патриарх Алексий, также со свитой: в июле 1945 г. следовал ответный визит митрополита Стефана с двумя архиереями, архимандритом и председателем Священнического союза и вторая поездка его же на торжества по поводу 500-летия автокефалии Российской Церкви в июле 1948 г. Для митрополита Стефана по-
615
требовался сотрудник, который помогал бы ему в составлении речей и воззваний на русском языке, не вполне удававшихся митрополиту Стефану, и в ведении переписки с Московским Патриархом, русскими архиереями и представителями русского командования. Для этого дела митрополит Стефан пригласил меня. После этого все письма к указанным выше лицам, как и к Вселенскому Патриарху, по вопросу о снятии схизмы, все обращения к русскому народу и российскому воинству, все встречные и приветственные речи митрополита Стефана составлялись мною. Митрополит Стефан намечал лишь некоторые главные мысли. Некоторые из речей произвели большое впечатление, в особенности речь на московском торжестве по случаю 500-летия автокефалии Русской Церкви. На произнесении этой речи, потом напечатанной в №8 «Журнала Московской Патриархии» (стр. 13-18). Патриарх Алексий сказал митрополиту Стефану, что после его речи все должны смолкнуть и что речь заслуживает ученой степени магистра богословия.
Митрополит Стефан очень ценил мою работу и приглашением меня на обеды и ужины старался проявить особое внимание ко мне. Я так и понимал каждое его приглашение, обыкновенно предшествовавшее просьбе исполнить новую работу. В вознаграждение же за мои литературные труды митрополит Стефан выхлопотал мне ежемесячное пособие 5 тысяч, которое я получал до конца 1948 г. При теперешнем обесценении лева сумма незначительная: мои сослуживцы по церкви имеют доход от треб до 25 тысяч в месяц. Сознавая недостаточность моего вознаграждения, митрополит Стефан ежегодно присылал мне к празднику один год 15 тысяч, другой — 20 тысяч и третий — 30 тысяч левов.
Политика митрополита Стефана в отношении Москвы не осталась бесплодной. Сочувственное вмешательство Патриарха Алексия привело к тому, что весьма деликатный, больной вопрос о схизме разрешился легко, быстро и безболезненно. В 1948 г. Патриарх Алексий прислал митрополиту Стефану 30 миллионов левов на восстановление разрушенных бомбардировкой софийских церковных зданий; при содействии того же Патриарха должно было совершится восстановление патриаршества в Болгарии, что. по мнению здешних церковников, возвеличило бы, украсило и усилило Болгарскую Православную Церковь. Переписка по всем этим вопросам, подготовлявшая разрешение их, велась митрополитом Стефаном при моем большом участии.
Предвкушая величие ожидавшего его патриаршего сана, митрополит Стефан по получении от Московского Патриарха 30 миллионов начал подготовлять соответствующую величию патриаршего положения обстановку. При этом ярко проявилась его натура.
616
До бомбардировки у митрополита Стефана была роскошная квартира в митрополии, совершенно достаточная для его величия. Для отдыха вне Софии им были устроены домик из четырех комнат в Кладнишком монастыре, в 28 километрах от Софии, и роскошный дворец в Драголевском монастыре. в 12 километрах от Софии. Драголевский дворец стоил митрополии огромных денег, проживал в нем митрополит Стефан не более 2-3 недель в год. сообщение с монастырем весьма неудобное, до с. Драголевцы очень неаккуратно ходят автобусы, от с. Драголевцы до дворца около 3 километров, путь в гору, по трудной каменистой дороге: митрополит Стефан сознавался мне, что большей глупости, как постройка Драголевского дворца, он не совершал в своей жизни. Получивши же патриаршие миллионы, он начал расширять этот дворец, решив истратить на расширение и на покупку богатой обстановки около 15 миллионов. Не удовлетворился он и городскими митрополичьими покоями и в митрополии надстроил для себя 3-й обширный этаж, а бывшую митрополичью квартиру отдал канцелярии. Теперь он живет в почетной ссылке, в одной комнате, когда раньше не вмещали его дворцы — все ему казалось тесно. Не знаю, как он переживает резкую перемену своего положения, являвшуюся строгим экзаменом для его веры и христианственности. Апостол Павел писал, что любящим Бога все содействует ко благу (Рим. 8, 20). Может быть, разразившаяся над митрополитом Стефаном катастрофа и последующие переживания многому научат его и многое исправят в нем. Тогда в предсмертный час ему придется благодарить Бога за ниспосланное испытание.
XLII. Вступление советских войск в Болгарию. Приезд архиепископа Григория и Патриарха Алексия
Революция лишила меня всего нажитого долгим, упорным, честным трудом, включая и службу, и выслуженную пенсию, которая должна была обеспечить меня в старости. Но у меня не осталось ни скорби о потерянном, ни враждебных чувств к обездолившим меня. Произошла стихийная катастрофа, при которой я оказался одним из множества пострадавших. Воля Божия: «Господь дал. Господь и взял: да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21), — рассуждал я. И новой власти я подчинился бы, если бы она отказалась от некоторых своих казавшихся мне разрушительными идей. Родина, как и при царском управлении, оставалась для меня милой, незабываемой. Ее прекрасные, мягкосердечные. любвеобильные люди, ее поля, леса, реки и озера, ее исключительное хлебосольство и сострадательность, ее оригинальный быт — все в ней влекло меня. На крыльях полетел бы я к
617
ней, если бы позволено было мне и не ожидал меня там концлагерь или что-либо другое подобное...
Мой академический профессор, а в Софии сослуживец и друг Н.Н. Глубоковский незадолго до своей смерти (в 1937 г.) обратился ко мне: «Я чувствую, что скоро, раньше вас умру. Возьмите этот мешочек. В нем вывезенная мною земелька из нашего академического сада и с могил наших знаменитых профессоров, похороненных на кладбище Александро-Невской лавры. Когда я умру, частью этой земельки посыпьте меня, а другую часть оставьте для себя». Я исполнил завещание своего друга: одной частью посыпал его бездыханное тело, а другую часть храню как великую драгоценность.
Всякого прибывавшего из России я в Софии встречал как близкого, родного человека и старался сделать все возможное для его устройства. Меня интересовала каждая мелочь современной русской жизни; помогая прибывшему, я чувствовал себя как бы продолжающим служить своему родному народу.
В 1942 или 1943 г. митрополит Стефан, приглашая меня поехать в Кладнишкий монастырь, чтобы там на лоне природы провести несколько дней, спросил меня: «Вас не смутит, что вы там у меня встретите служащего в советском посольстве?» «Напротив, — ответил я, — буду очень рад познакомиться с советским дипломатом». Когда мы прибыли в монастырь, дипломат Дмитрий Яковлев, служивший советником в советском посольстве в Софии, уже был там. Митрополит Стефан представил меня ему. Мы встретились как соотечественники и даже расцеловались. Д.Г. Яковлев оказался интересным человеком — толковым, начитанным, любезным.
Он прибыл в монастырь инкогнито, скрываясь от зоркого глаза немцев, которые строго следили за каждым членом советского посольства в Софии. Оставив свой автомобиль километрах в пяти от монастыря, он пешком по горам и пропастям земным пробрался к монастырю. От живущих в монастыре скрывалось, кто гость митрополита. С Яковлевым днем я имел возможность разговаривать только за завтраками, обедами и ужинами. Остальное время он проводил наедине с митрополитом Стефаном, или в кабинете, или на прогулках. И там у них шли оживленные разговоры, о содержании которых я не счел нужным осведомляться у митрополита Стефана.
Ночевал Яковлев в одной со мною комнате. Тут я имел возможность сколько угодно беседовать с ним. Обыкновенно наши беседы бывали безобидными, дружескими. Но однажды Яковлев упрекнул меня: «А все же вы очень виновны пред Родиной. Вы шли против нее, не захотели служить ей». «Я много служил прежней Родине. Вы. может быть, не склонны уважать эту службу. Но я скажу вам: если бы не было прежней России, не было бы и насто-
618
ящей. И теперь здесь, в изгнании, я продолжаю работать для Родины, делая все в моем положении возможное, чтобы русские не забывали своей родной земли, а болгары продолжали любить ее. Вы сказали, что я виновен пред Родиной. Давайте сочтемся; кто кому виновен? Что я взял у Родины? Решительно ничего. А советская власть взяла у меня все: нажитое мною честным и упорным трудом имущество, право на работу, как и на выслуженную пенсию; безграмотный, составленный из подонков общества советский витебский комитет хотел взять и мою жизнь, что и вынудило меня бежать с Родины оборванцем, с чужим паспортом». «Но вы ведь служили в Добровольческой армии, воевали против нас», — возразил Яковлев. «Да, воевал против вас, — ответил я, — но не против Родины. Воевал я против того безумия, которое проявлялось тогда советской властью. Вы же тогда хотели уничтожить все ценное, духовное, чем жили человеческие души, на чем строилась человеческая жизнь, без чего не может существовать ни семья, ни общество, ни государство. Мы воевали против того, от чего потом вы сами отказались: вы же теперь не гоните религию, укрепляете семью, преследуете хулиганство. Значит, мы были виновны в том. что ранее вас поняли ошибки ваши и хотели остановить их. Не меньше вас, Дмитрий Георгиевич, мы любим свою Родину и готовы жертвенно служить ей». «Оставим этот разговор! Надо честно сознаться, что и мы виноваты пред вами, и вы пред нами», — сказал Яковлев. Я примирился с таким резюме. Но Яковлев потом еще раз повторит свои упреки.
Яковлев еще несколько раз появлялся в монастыре, всегда инкогнито. Иногда проводил там по 2-3 дня, днем беседуя с митрополитом Стефаном, после ужина — со мною. Потом Яковлев стал бывать у меня. Мы как будто сроднились. Но потом я убедился, что советский дипломат не может стать родным. Бывая у митрополита Стефана, беседуя с ним и со мной, Яковлев преследовал свои дипломатические цели. Вскоре он получил другое назначение и уехал из Софии.
После вступления в Софию советских войск у митрополита Стефана, как я сказал, начались оживленные сношения с Московской Патриархией. Сначала шла переписка, потом визиты. 6 апреля 1945 г. прибыл в Софию патриарший посол Псковский архиепископ Григорий в сопровождении состоящего при Патриархе архимандрита Иоанна, вскоре ставшего наместником Троицко-Сергиевой лавры протоиерея Константина Мещерского и доцента богословского института в Москве А.И. Георгиевского.
Архиепископ Григорий всего 3-й год епископствовал, но уже намечался на Ленинградскую митрополичью кафедру, которую и получил вскоре. Его прошлое было таково. С 1911 г. ректор Олонецкой духовной семинарии, после революции — ректор Ленинградского богословского института, затем настоятель ленин-
619
градского кафедрального собора, ближайший помощник тогдашнего Ленинградского митрополита, нынешнего Патриарха Алексия. Небольшого роста худощавый старичок (ему в 1945 г. шел 76-й год), очень живой и подвижный, он, как все русские архиереи, сразу очаровал митрополита Стефана. Но на меня он не произвел большого впечатления. Когда я сравнивал его со старыми русским митрополитами Антонием Петербургским, Иоанникием и Флавианом Киевскими, с архиепископом Димитрием Херсонским и другими, сравнение оказывалось не в его пользу. Мне он показался сереньким, провинциальным и не совсем искренним. Я старался оправдать все эти недочеты тем, что до революции служил он в северной провинции, после революции и в столице интеллигентность исчезла, советская жизнь научила его скрытности. Но совершение им богослужения никак не мог я оправдать. Служил он очень нервно, все время делал диаконам резкие и неудачные замечания и, пожалуй, немножко манерничал. Не только на меня, но и на многих других все это производило очень тяжелое впечатление. Показалось мне затем, что он склонен был угодничать пред власть имущими. Однажды пред обедом в гостиной митрополита сидело нас трое: архиепископ Григорий, Яковлев и я. Яковлев, забыв о нашем разговоре в Кладнишком монастыре, начал свою песню, что я изменил своей Родине и так далее. Архиепископ Григорий с жаром поддержал его: «Да, да. Вы, убежавши из России, изменили своей Родине». «Вашему составленному из подонков общества комитету мало было захваченного всего моего имущества, он хотел еще лишить меня и жизни. Поэтому я и убежал», — ответил я.
Архиепископ Григорий со своей свитой, кроме Софии, посетил много мест в Болгарии и везде был принят восторженно.
Пребывание архиепископа Григория в Софии, мои беседы с ним и членами его свиты, мои наблюдения над ними оставили во мне не совсем отрадное воспоминание. Мне чувствовалось, что некая грань разделяет их и нас, что мы для них не вполне свои, что что-то недоговоренное остается между нами и ими. Почти за тридцать лет раздельной жизни при совершенно разных условиях и разной обстановке мы отвыкли от них. а они — от нас, мы остались со старыми взглядами, убеждениями, стремлениями, у них воспиталось многое новое, образовались новые взгляды. Мы всей душой устремлялись к ним. с неподдельною радостью встречали их, а они с подозрительной осторожностью относились к нам. Особенно тяжелое впечатление произвело на меня то, что они сами с осторожной недоверчивостью относились друг к другу, опасаясь один другого, как я заметил. Это был большой удар для моей безграничной любви к своей Родине.
Когда распространилась весть, что в скором времени советские войска придут в Софию, некоторые из моих знакомых ос-
620
торожно спрашивали меня, не следует ли мне позаботиться о своей безопасности, а другие откровеннее предупреждали: смотрите, как бы большевики не расправились с вами! И тем и другим я отвечал, что мне хочется лишь взглянуть на победоносные советские войска, а дальше будь что будет! Если для моей Родины нужно, чтобы меня расстреляли или повесили, пусть расстреливают, вешают. Я нисколько не страшусь этого. И я, узнавши, что по Княжевскому шоссе проходят советские войска, часами выстаивал на этом шоссе, приветствовал проходивших, заговаривал с пешеходами, приглашал к себе, пришедших угощал чем мог. Среди посещавших меня находились удивительно симпатичные люди, привязывавшиеся ко мне, убеждавшие меня поскорее пробраться в Россию, где чувствуется большой недостаток в образованных священниках. В беседе с ними я узнавал прежних русских людей с открытыми душами и доверчивыми сердцами. Одно смущало и огорчало меня — это их злоупотребление спиртными напитками. Война с ее жесточайшими переживаниями приучила их к этому. Впрочем, и не бывшие на войне советские люди пьют гораздо более, чем пили в прежнее время. Я не пытался объяснить причину этого.
Очень приятное впечатление производили на меня советские женщины. Они не утратили русской сердечности, отзывчивости, готовности последним поделиться. И вера в Бога у них лучше сохранилась, чем у мужчин. В моральном отношении они выше наших беженок.
С 20 мая по 3 июня 1946 г. гостем Болгарской Церкви был Московский и всея Руси Патриарх Алексий. И архиепископ Григорий не мог пожаловаться на прием его в Болгарии, а для достойного приема Патриарха экзарх и Синод не пожалели ни хлопот, ни средств. Встречен был Патриарх на аэродроме всеми митрополитами и софийскими священниками, как и представителями советской власти. Для пребывания его был отведен отличный особняк, а часть его свиты была помещена в лучшей софийской гостинице. Отдельный повар был назначен для Патриарха. Патриарх мог ежедневно приглашать к своему столу, кого ему хотелось. Званые обеды, кроме того, следовали один за другим. При посещении Патриархом софийских церквей толпы народа встречали его, настоятели подносили ему подарки. Несмотря на серьезную болезнь, мучившую экзарха, последний везде сопровождал Патриарха, даже и в поездке в Рыльский монастырь на юбилейные торжества по случаю 1000-летия со дня кончины преподобного Иоанна Рыльского. Такое усердие экзарха едва не стоило ему жизни: по отъезде Патриарха он свалился в постель, врачи теряли надежду на его выздоровление. И только огромные дозы пенициллина спасли его.
621
Патриарха Алексия я не знал в России. Очень дружественные отношения у меня были с архиепископом, а потом митрополитом Новгородским Арсением, викарием которого с 1913 г. состоял Алексий. Алексий весьма чтил Арсения и как своего бывшего академического ректора, и как Новгородского правящего архиерея. Не сомневаюсь, что он многое доброе слышал обо мне от Арсения. Встретил он меня очень приветливо. Трижды я по его приглашению ужинал у него, причем всякий раз, хотя ужинавших бывало не менее 10 человек, он беседовал только со мной. Вообще при каждой встрече он старался оказывать мне особое внимание. Потом он пригласил меня на профессорскую кафедру в Московскую духовную академию.
Меня очень интересовал вопрос: в каких руках находится теперь многострадальная Российская Церковь? И я внимательно следил за каждым словом, за каждым движением Патриарха. Природный аристократизм чувствовался у него во всем. Видно было, что это не попович, не мужицкий или мелкочиновничий сын, а аристократ, сохранивший аристократические манеры обращения е людьми, умение вести аполитичные разговоры, вовремя быть красноречивым и молчаливым, когда надо — вызывать гостя на разговор и когда надо — прерывать беседу. В беседах и речах своих Патриарх был крайне осторожен: ни одного лишнего слова, к которому можно было бы придраться. Все его речи, с которыми пришлось ему выступать, были умны и серьезны. Но в них было более недоговоренного, чем сказанного. И духовенство, и миряне ждали услышать от него гораздо больше, чем сказал он. После всех бесед с ним и после его речей завеса, закрывающая от нас происходящее в Российской Православной Церкви и в Советском Союзе, оставалась опущенной. Кажется, и в интимных беседах с глазу на глаз Патриарх не был многоречивым. О многом экзарх мог догадываться, но не слышать из уст своего высокого собеседника. Я понимал Патриарха: более 30 лет он провел в стране, где за всякое праздное слово люди дают строгий ответ на суде (Мф. 12, 36). А ни одно слово Патриарха не оставалось втайне от тех. кому надо было знать.
И в беседе со мной Патриарх был чрезвычайно осторожен. Он с интересом слушал мои воспоминательные рассказы о старых церковных деятелях, о порядках старого времени и избегал касаться настоящего времени и злободневных вопросов. Иным, очевидно, теперь нельзя быть Всероссийскому Патриарху. Он, как и другие церковные деятели, должен держаться пословицы: «Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами». В пирогах у них нет недостатка: верующие засыпают их деньгами и правительство, кажется, щедро субсидирует их, но за всякое праздное слово карают их немилосердно.
622
Меня, между прочим, удивила одна мелочь. И митрополит Григорий, и другие русские гости — священники уверяли, что в дореволюционное время московское духовенство материально было обеспечено гораздо хуже, чем настоящее, пользующееся колоссальными доходами. А между тем эти российские гости одеты были по сравнению с прошлым до невероятности скудно. Экзарх заметил это и прежде всего снабдил их нижним бельем и материей для подрясников и ряс, принятыми ими с нескрываемым удовольствием.
Другая особенность не ускользнула от меня. Гости не доверяли друг другу и даже опасались один другого. Один из них предупредил меня: «Вы не откровенничайте с этим отцом! Будьте осторожнее!» А у нас, эмигрантов, осталась прежняя сноровка: что на уме, то и на языке.
Из разговоров с митрополитом Григорием и другими гостами я узнал много нерадостного. В Петербурге я оставил более 40 своих военных и морских священников, но ни одного из них не осталось. Об иерархии митрополит Григорий выразился: «У нас, собственно, три настоящих архиерея». Значит, епископат у них с бору да с сосенки. Прежние архиереи перемерли, новых достойных неоткуда взять — набирают отовсюду. Из речей Патриарха, печатаемых в каждом номере «Журнала Московской Патриархии» проповедей прославленного Московского Златоуста митрополита Крутицкого Николая очевидно, что в России церковная проповедь сильно сужена, ограничена строго благочестивыми рамками, а для антирелигиозной пропаганды там предоставлена полная свобода. Из всего слышанного и виденного я вынес впечатление, что далеко еще Российской Церкви до беспечального и светлого жития.
25-27 мая Патриарх провел в Рыльском монастыре, где совершилось празднование 1000-летие со дня кончины преподобного Иоанна Рыльского. Из почтения к преподобному и к Патриарху на торжестве присутствовали старший регент профессор Венелин Ганев, министр-председатель Кимон Георгиев, Георгий Димитров, представители советского командования и разные иные официальные лица. Посещение Всероссийским Патриархом Болгарии и его участие в Рыльских торжествах было большим церковно-историческим событием, не имевшим прецедента в истории русско-болгарских церковных отношений — ни один Всероссийский Патриарх не посещал Болгарии. Для Болгарской Церкви и для Болгарской державы приезд Патриарха Алексия был знаком большого внимания и благоволения Российской Патриархии к Болгарской Церкви, подтвержденное и иного рода вниманием к ней: в 1948 г. Святейший Московский Патриарх прислал Болгарскому экзарху Стефану 30 миллионов левов на восстановление разрушенных бомбардировкой софийских церквей и церковных зданий. Правда, эти
623
деньги присланы в беспроцентный заем. Но... возвращать-то его. будут, как говорилось у нас. «на том свете горящими угольками»: при настоящем и сомнительном будущем нет надежды, что Болгарская Церковь сможет вернуть этот долг. Да и Патриарх давал эти миллионы без мысли обратно получить их. И посещением Патриарха Алексия и его присылкой 30 миллионов Болгария была обязана всецело экзарху Стефану, сумевшему завязать самые дружеские отношения с Патриархом Алексием и расположить его к болгарскому народу и к Болгарской Церкви. Раньше, в 1945 г., его расположение выразилось в том, что он помог быстрому и безболезненному разрешению семидесятилетнего вопроса о болгарской схизме.
Теперь двухнедельное пребывание Патриарха в Болгарии было несомненным знаком его особенного расположения к этой стране. 3 июня Патриарх покинул Болгарию, богато одаренный всевозможными приношениями. Синод, церкви, правительство и даже частные лица своими подношениями старались выразить внимание и любовь к Патриарху. Лица патриаршей свиты тоже не были забыты. Патриарший аэроплан отлетел с Болгарского аэродрома, перегруженный подарками.
Трогательно было отношение экзарха Стефана к Патриарху. Серьезнейшая, опасная болезнь мучила его. Он едва держался на ногах. Но все же он везде сопровождал Патриарха — ив Рыльском монастыре, и в следовавшей затем поездке в Пловдив и Банковский монастырь. Мне это совершенно понятно: если он каждому приезжему русскому архиерею отдавал всю душу, то как же иначе он мог отнестись к Всероссийскому Патриарху?
XLIII. Катастрофа
21 января 1945 г., по избрании митрополита Стефана экзархом Болгарской Церкви, я в храме Святой Софии, где происходило избрание, в алтаре первым приветствовал его. «Не поздравляю вас, Владыко, — сказал я, — усердно молю, чтобы Господь помог вам с честью, мужественно понести то тяжкое бремя, которое только что возложили на вас». Тогда уже и для подслеповатого видно было, что Церкви предстоит переживать трудное время. Не могу с уверенностью сказать, сознавал ли тогда митрополит Стефан всю трудность предстоящего ему служения. Мне кажется, что полученные им белый клобук, две панагии, первенство в Церкви так льстили его самолюбию, что мысль о трудностях не приходила ему на ум.
Скоро экзаршества ему стало мало. Когда-то Болгарская Церковь возглавлялась патриархом. Сербская и Румынская имеют
624
патриархов, почему же и Болгарской Церкви не украсить своего предстоятеля саном патриарха? Экзарх Стефан повел письменные переговоры с Московским Патриархом по этому вопросу. Патриарх очень благосклонно отнесся к восстановлению болгарского патриаршества и обещал лично прибыть в Софию для интронизации избранного. Экзарх Стефан в Софии подготовил почву: и правительство, и Синод признали благовременным восстановление болгарского патриаршества. Теперь экзарха Стефана начал занимать вопрос: какое же место среди балканских патриархов займет Патриарх Болгарский? Жажда новых отличий не давала покоя экзарху Стефану. Но в то время, как в Москве в июле 1948 г. экзарх Стефан с Патриархом Алексием намечали план торжеств, которыми должно было ознаменоваться восстановление болгарского патриаршества, противники еще большего возвышения экзарха Стефана действовали в Софии в обратном направлении. Стефан потом узнал, что во время его пребывания на московских торжествах один из сановных членов его свиты внимательно следил за всеми действиями и разговорами Стефана и немедленно сообщал о них софийским властям. Для экзарха оказалось крупною неприятною неожиданностью, когда он в Москве получил правительственную телеграмму, что правительство признает несвоевременным восстановление патриаршества в Болгарской Церкви. Вопрос о патриаршестве, таким образом, был отложен на неопределенное время. Отношения между экзархом Стефаном и Синодом еще более ухудшились, когда он узнал, что в отрицательном разрешении патриаршего вопроса принимал участие и Синод. Решительное столкновение экзарха и последовавшая за ним катастрофа произошли по ничтожному поводу.
Каким-то докладом сумел угодить экзарху состоящий в Ангоре представителем Болгарской Церкви архимандрит Г. — тот самый Г., который в разговоре со мной собирался сразу стать российским митрополитом, человек с большим самомнением, не соответствующим его личным духовным качествам. На заседании Синода 6 сентября 1948 г. экзарх предложил увеличить жалованье архимандрита Г. Другие члены Синода начали возражать против предложения. Сильнее всех возражал Врачанский митрополит Паисий. Скоро спор перешел в резкую перебранку между экзархом и Паисием, закончившуюся заявлением экзарха, что он не желает больше председательствовать в таком Синоде и отказывается от экзаршеской кафедры. Экзарх покинул заседание.
У экзарха установились самые отвратительные отношения е директором исповеданий И., но теперь последний представился, как рассказывал мне очень сведущий в синодальных делах протопресвитер С. Цанков, сочувствующим Стефану и посоветовал ему свое устное заявление об отказе от экзаршества подкрепить
625
письменно, очевидно, заверив его, что ни Синод, ни правительство не решатся принять его отставку. Стефан послушался совета. Вскоре он спохватился и потребовал, чтобы ему вернули заявление для снятия копии. Но в Синоде не пожелали расстаться с этим документом и вместо заявления прислали копию. Директор же исповеданий посоветовал Синоду как можно скорее удовлетворить просьбу экзарха. 8 сентября Синод вынес решение об освобождении экзарха Стефана согласно его просьбе и от экзаршеской, и от Софийской митрополичьей кафедр.
Упорно утверждают, что в таком решении принял большое участие профессор канонического права протопресвитер С. Данков. разъяснивший Синоду, что согласно Экзархийскому уставу и дополнению к нему отказ от экзаршей кафедры влечет за собой и освобождение от Софийской митрополичьей кафедры. Я не могу согласиться с таким толкованием: это относилось бы к экзарху, который одновременно был бы избран и на экзаршую, и на Софийскую митрополичью кафедры, а не к митрополиту Стефану, который должен был оставаться Софийским митрополитом до самой своей смерти.
Решение было объявлено Стефану по поручению Синода двумя митрополитами. Стефан резко ответил им, что он не признает синодального решения и будет обжаловать его пред Вселенским и Московским Патриархами.
12 сентября был храмовый праздник собора Александра Невского. Стефан известил причт собора, что он совершит праздничную литургию. Назревал новый неприятнейший конфликт между Стефаном и Синодом. Но благоразумие взяло верх: утром в самый день праздника Стефан сообщил, что он не будет служить литургию.
Литургию совершал викарный епископ Парфений. К «Херувимской песни» собрался весь Большой Синод. Отсутствовал только престарелый митрополит Видинский Неофит, пребывавший в своей епархии. Во время пения «Херувимской» митрополиты были приглашены прибывшим директором исповеданий в помещавшуюся тут же, за алтарем, соборную канцелярию на совещание. Только Сливенский митрополит Никодим, несмотря на двукратное приглашение, отказался от участия в нем. Совещание продолжалось до конца литургии. Так отпразднован был Синодом храмовый праздник Всеболгарского Собора.
Экзарх Стефан продолжил надеяться, что правительство и особенно Московский Патриарх примут его сторону. Но правительство затвердило постановление Синода от 8 сентября и на все последующие протесты уволенного экзарха отвечало молчанием. А Патриарх Алексий после долгого молчания сообщил, что он не находит возможным вмешиваться во внутренние дела Болгарской Церкви.
626
Финал этого печального дела был таков. Правительство не без участия Синода определило место пребывания бывшего экзарха в селе Баня Карловска, предоставив в его распоряжение небольшой домик и назначив ему содержание 60 тысяч левов в месяц. Экзарх собирался не подчиниться требованию правительства об оставлении им Софии, но ему был подан автомобиль с двумя милиционерами, которые заставили его отбыть в с. Баню.
Как говорят, бывший экзарх помещается теперь в одной небольшой комнатке отведенного для него домика. В других двух живут два его прислужника. Автомобиля у него нет. Посетителей, думаю, не бывает. До приходского храма от теперешнего экзаршего домика не менее километра пути. Я представляю весь трагизм человека, до 70-летнего возраста жившего приемами, обедами и ужинами, торжественными службами и разными церемониями и во всем этом находившего душевное удовлетворение, смысл и цель жизни. Совсем недавно его не вмещали дворцы, теперь он должен довольствоваться одной комнаткой. Тогда его не удовлетворяли сотни тысяч левов (на одну полуторамесячную поездку в Чехию он истратил 8 миллионов левов), теперь он должен учитывать каждый лев, чтобы не остаться без денег: роскошный автомобиль отнят у него, и для передвижений остались у него только собственные ноги: обильных приношений всевозможными яствами и питиями, которыми усердно снабжали его преподобные монастырские отцы, не стало, и Москва, вероятно, не станет теперь так, как прежде, ублажать его разными алкогольными и безалкогольными напитками и разными деликатесами. Раньше без нескольких архиереев и сонма священников он не совершал богослужений, теперь он без разрешения Пловдивского митрополита, своего бывшего подчиненного, не может совершить ни одной службы. Для бывшего экзарха настоящее его положение является величайшим испытанием, напоминающим одиночное заключение, оторвавшим его от суеты мирской, услаждавшей его прежнюю жизнь.
Доходящие до Софии слухи о жизни и настроении бывшего экзарха разноречивы. Одни говорят, что он бодр духом и крепок телом и на свое заточение смотрит как на временный отдых от предстоящей ему работы, твердо веруя, что не за горами его возвращение к экзаршеской работе. Другие утверждают, что он сильно похудел. Постепенное похудение послужило бы ему на пользу, так как он был чрезвычайно тучен, что, вероятно, благоприятствовало его болезненности. Но быстрое похудение свидетельствует о тяжких его переживаниях и не может быть благодетельным для его здоровья. Для меня несомненно, что бывший экзарх тяжко душевно страдает и, как утопающий хватается за соломинку, утешает себя разными воображаемыми миражами, продолжая уповать то на Москву, то на Георгия Димитрова, тепе-
627
решнего возглавителя болгарской власти, то на возможную перемену мировой политики, при которой непременно вспомнят о нем и восстановят его правду.
4 января этого. 1949 года принесло новое большое огорчение бывшему экзарху. На выборах новых членов малого (из 4 членов) Синода избранными оказались бывшие его протосинкеллы. а потом викарии, теперешние его враги: Варненский митрополит Иосиф, Пловдивский митрополит Кирилл и Ловечский митрополит Филарет. Как старший между ними Врачанский митрополит Паисий, которого Стефан считает главным своим врагом, был провозглашен наместником-председателем Синода и управляющим Софийской митрополичьей епархией. Значит, Паисий занял место Стефана. Для последнего это, несомненно, явилось огромным огорчением, новым выпадом Синода против него.
Вернется ли бывший экзарх к власти, как он продолжает упорно надеяться? Не верится мне, что он может вернуться. И его года (70 лет), и его расстроенное и надорванное здоровье не в пользу того, чтобы мог он опять вступать в кипучую работу. Обстановка решительно против его возвращения к роли возглавляющего Болгарскую Церковь: в Синоде среди митрополитов он не имеет ни одного сторонника: правительство не склонно протежировать ему: Московская Патриархия, на которую он возлагал главную свою надежду, не смеет вмешиваться во внутренние дела Болгарской Церкви. Пока все против него, а не за него.
Если бы я был на месте бывшего экзарха Стефана, я добивался бы не возвращения к экзаршеской власти, налагающей ныне на носителя ее множество тягчайших забот, огорчений, треволнений и постоянную великую ответственность, а разрешения поселиться в родном Родопском крае, с которым связаны приятнейшие воспоминания его детства и юности, в селе Широка Лыка, в просторном родительском доме на берегу быстротечной речки, среди своих сестер, зятьев и многочисленных племянников и внуков. Там он, еще будучи митрополитом, не раз по месяцу наслаждался отдыхом и теперь нашел бы покой для своей истерзанной болезнью и переживаниями последнего времени души. Но не таков бывший экзарх Стефан, чтобы родные Родопские края с их сказочными красотами, которыми он так любил восторгаться, удовлетворили бы его. «А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой». Ему нужна не спокойная, удаленная от мирской суеты, благоприятная для отдыха и спасения души Широка Лыка, а широкая арена, на которой он блистал бы своим красноречием в блеске своего первосвятительства и непременно вел борьбу. Широка Лыка теперь могла не радовать, а удручать его: там в дни своего митрополитства он появлялся в ореоле своего величия, приезжал туда в роскошном автомобиле, сорил там деньгами, жил, не отказывая себе ни в чем: протодиа-
628
кон Яков Никишин и шофер прислуживали ему, особый повар готовил ему блюда и так далее. А теперь он должен был бы прибыть в родное село, где родные и знакомые раньше наблюдали его в славе, приниженным, отставным, ограниченным в средствах. Широка Лыка теперь не для бывшего экзарха Стефана. Такое настроение опального еще более отягощает его положение.
Настроение бывшего экзарха Стефана отражается в его письмах. Теперь он чрезвычайно дорожит всяким проявляемым к нему вниманием и отвечает с особой лаской, чего не было раньше. На мое поздравление его с Рождественскими праздниками и днем ангела он ответил мне следующим письмом — привожу его в русском переводе.
«Экзарх Болгарский. Баня, Карловско. 21.1.1949 г.
Ваше Всеблагоговейнство,
глубокочтимый и зело возлюбленный,
отец Протопресвитер,
милейший Георгий Иванович,
Христос посреде нас!
От всей души свидетельствую Вам благодарность за поздравления и благопожелания по случаю Р. Хр. и дня Небесного моего Ангела.
От Святейшего из Москвы получил братское поздравление с наитеплыми благопожеланиями. Я ответил ему чрез Высокопреосвященного Серафима и к именинному его дню надеюсь обстоятельнее уведомить его.
Посылаю Неониле Ивановне и Вам, дорогой и любимый отец Протопресвитер, наизадушевный привет и благопожелания, соединенные с неизменною любовью, преданностью и отеческим благословением.
Смиренный во Христе молитвенник и искренний Ваш друг
+ Экз. Стефан
P. S. Посылаю Вам 8 и 9 №№ Патриаршего Журнала. На забывайте в своих молитвах не забывающего Вас. Э. С.»
Жаль мне этого весьма одаренного, доброго и горячо любящего мою Родину человека. Он мог бы сделать гораздо больше для Церкви Православной, для своей Родины, если бы честолюбие со славолюбием не сбивали его с прямого, подобающего его святительству пути, если бы жизнь своей животной стороной не увлекала его. В своем последнем приветствии я писал ему: «Молитвенно желаю Вам, чтобы над Вами сбылись слова Великого Апостола: «Любящим Бога все содействует ко благу» (Рим. 8, 28), чтобы в постигших Вас испытаниях возвысилась и умудрилась душа Ваша». Дай Бог, чтобы все его теперешние переживания послужили ему на пользу144.
Только что узнал, что бывший экзарх Стефан, хоть и продолжает мечтать о возвращении к власти, но свыкся со своим опаль-
629
ным положением и принялся за писание мемуаров. В его настоящем положении это лучшее из занятий. Он многое видел, многое знает, был участником многих достопримечательных и крупных событий, и для истории его мемуары могут быть весьма полезны. Надо лишь, чтобы в своих мемуарах он занялся не столько своей собственной персоной, не возвеличением или самооправданием себя, а действительной исторической правдой, как она проявлялась в болгарской жизни и в тех сферах, которые он мог наблюдать. Дай Бог ему успеха в этом его начинании!
6.11.1949 г.
Неделя о Закхее.
XLIV. Из опыта и наблюдений: деятели без плана и системы, без идеи и любви к своему делу. Необходимость особенно строгого подбора начальствующих лиц
«Еще иного рода искушение бывает тогда, когда молодой пастырь начертывает себе внешнюю, строго определенную программу действий и мечтает об осуществлении ее. Такая программа, может быть, полезная для политического деятеля, не должна иметь места в деятельности пастырской. Различные внешние предприятия — общества трезвости, попечительства, постройка храмов и школ — предприятия добрые, но они не должны быть главными, всепоглощающими предметами его забот, как это часто случается, когда подобные предприятия заставляют забывать главный предмет своего (то есть пастырского. — Г.Ш.) служения, а главный предмет — это богослужение и спасение, делают его порядочным дельцом, но в то же время лишают его благоговения и внимательного сострадания и любви к ближним», — так наставлял с академическо-профессорской кафедры студентов Московской духовной академии, будущих семинарских учителей, пастырей и архипастырей, ректор этой академии Антоний Храповицкий, впоследствии ставший митрополитом145. На практике митрополит Антоний показал полную несостоятельность возвещавшейся им теории: во всех епархиях, которыми ему потом пришлось управлять, — в Уфимской, Волынской, Харьковской, Киевской — во время его управления царили такая неразбериха, такой хаос, каких не мог создать самый незадачливый архиерей. Когда в начале 1919 г. митрополиту Антонию было поручено управление Кубанскою епархиею вместо совершенно неспособного к административной работе епископа Иоанна (Левицкого), кубанцы обрадовались, что на их кафедру назначен такой знаменитый святитель: по странной случайности, Антоний Храповицкий долгое время не переставал считаться самым
630
лучшим представителем тогдашней российской иерархии и на Московском Соборе (1917 г.) был избран первым кандидатом в Московские и всея Руси Патриархи. Начав управлять Кубанской епархией без плана и системы, митрополит Антоний в самом скором времени сумел заставить кубанцев с удивлением повторять: «Да Антоний же как администратор не лучше, а гораздо хуже Иоанна». В беженстве митрополит Антоний натворил немало несуразностей, приведших к печальному разделению Русской Зарубежной Церкви.
План и система необходимы во всякой деятельности, в том числе и в пастырской. К обязанностям пастырского служения относится попечение не только о духовных, но и о материальных нуждах пасомых. В этом убеждают нас и здравый смысл, и Евангельское учение, и наставления Отцов и Учителей Церкви, и церковная практика, начиная с апостольского века, кончая нашими днями146.
Во всяком деле работа без продуманного плана и намеченной цели уподобляется путешествию без маршрута и определенного пункта. Пастырская работа, касающаяся забот о материальных нуждах пасомых, не может составлять исключения. И дело начальника — помогать своим подчиненным находить правильный курс, намечать обещающий успех план работы, а не внушать им, что они не должны намечать себе никаких планов, никаких задач в деятельности этого рода.
На начальнике лежит другой, пожалуй, еще более важный долг: 1) определить и запомнить способности и склонности каждого из своих подчиненных и 2) каждого определить к соответствующей его способностям и склонностям работе.
По моим проверенным многолетним опытом моей жизни и службы наблюдениям, люди совершенно бездарные, неспособные ни к какой работе являются чрезвычайно редким исключением. Общее же правило состоит в том, что каждый человек к какой-либо работе способен и даже в отвечающей его склонностям деятельности может быть талантлив. Надо лишь, чтобы человек попал на свою дорогу. Это в особенности часто обнаруживалось в беженстве, где чаще, чем в дореволюционной России, россиянам приходилось выбирать себе занятия, отвечающие их вкусам и склонностям. В г. Софии стали своего рода знаменитостями как лучшие мастера своего дела раньше бывшие никому не известными, ничем не выделявшиеся, не блиставшие ни умственным развитием, ни нажитой выучкой: один, увлекшийся пожарным делом и ставший начальником столичной пожарной команды, другой, занявшийся сапожным делом, третий — кожевенным, четвертый — маслодельным и так далее. В беседах на общие темы они были на редкость неинтересными. ограниченными людьми. Но их можно было заслу-
631
шиваться, когда они начинали говорить по вопросам, касавшимся их специальностей. В жизни нередко случалось и случается по Крылову — когда пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник, когда достойные быть сапожниками, печниками, кожевниками восседают на профессорских кафедрах, занимают ответственные административные и даже министерские посты, торгаши попадают на духовную службу и иногда добираются до архиерейских кафедр, настоящие же их таланты остаются незамеченными, непримененными, неиспользованными. И причиной этому бывает то, что начальствующие лица не сумели заметить, понять, оценить их и затем поставить на отвечающие их дарованиям места.
Отсюда следует вывод: если в жизни вообще необходим разумный, внимательный подбор работников, то тем более необходим выбор разумных, искусных начальников. Лучше сто ослов, предводительствуемых львом, чем сто львов, предводительствуемых ослом, как говорит древняя пословица. Екатерина II стала великою, потому что она умела замечать таланты и выдвигать их. Могилевский губернатор Д.Г. Явленский в 1916 г. говорил мне: «Из всех министров внутренних дел, при которых мне пришлось служить, самым талантливым был граф Толстой. Он мог казаться бездельником: бывало, ему докладывают важное дело, а он в это время рисует женские головки. Но как ловко он управлял своим министерством, как умело подбирал он себе помощников, следил за их работой, руководил ими!» Начальствование — особый дар, для которого мало ума и знаний, а нужны еще и зоркий глаз, и сильная воля, и огромный интерес к делу. Чрезвычайно умные и весьма образованные люди сплошь и рядом оказываются никуда не годными начальниками, приносящими делу больше вреда, чем пользы.
В нашем дореволюционном Духовном ведомстве начальственный вопрос стоял из рук вон плохо. Не только все архиерейские должности, но и большинство ректорских и смотрительских в семинариях и духовных училищах были заняты монахами. Всякий окончивший курс академии и принявший монашество в ближайшем будущем становился начальником: сначала смотрителем училища или инспектором семинарии, потом ректором семинарии или академии, а потом архиереем. А того скрыть нельзя, что между окончившими курс академии и принявшими иноческий чин немало встречалось тупиц и совершенно неспособных к начальствованию людей, что, однако, по большей части не мешало им двигаться по иерархической лестнице. Получались горе-начальники, умевшие умерщвлять, а не оживлять дело.
Рядом с этим большим злом в нашем ведомстве была ставшая своего рода традицией несменяемость до самой смерти митропо-
632
литов и заслуженных архиепископов: что бы ни служилось с таким владыкой, как ни одряхлел бы он, все равно продолжал «управлять» своей епархией, обыкновенно ответственной и многолюдной. Митрополиты Леонтий Московский, Феогност Киевский, Палладий Санкт-Петербургский продолжали занимать свои кафедры и после того, как они стали психически ненормальными; митрополит Московский Макарий (Невский, † 1926 г.) продолжал управлять Московской епархией и после того, как он впал в детство и всем было известно, что его занимает не управление епархией, а пение мальчиками его митрополичьего хора алтайских песен: архиепископ Ставропольский, совершенно одряхлевший 80-летний Агафодор, в последние годы своего пребывания на обширной и весьма ответственной епархии (к ней, кроме Ставропольской губернии, принадлежала вся Кубанская область) был неспособен решительно ни к какому делу: туго понимал самые простые вещи, все путал и даже иногда не узнавал своих викариев, с одним из которых он служил около десяти лет. Полная неспособность архиепископа Агафодора к управлению епархией была очевидна. Но когда поднимался вопрос об увольнении его на покой, всегда в Синоде раздавался протест: как же можно сместить с кафедры такого заслуженного архиепископа! Придворный протопресвитер И.Л. Янышев, бывший в возрасте за 80 лет, продолжал управлять придворным духовенством и после того, как совершенно ослеп, а военно-морской протопресвитер А.А. Желобовский — и после того, как он, одряхлевши, превратился в беспомощного, еле передвигавшего ноги старика и ведомством за него управляли чиновники его канцелярии. Можно было бы указать много и других примеров. Выходило, что места и ведомства существуют для их возглавителей, а не возглавители для этих мест и ведомств. Нечто подобное наблюдалось и в военном, и в других ведомствах. Только там чаще не большие прежние заслуги, а знатность рода, родственные связи с сильными мира, влиятельные знакомства давали возможность и малоспособным людям занимать ответственнейшие места и при обнаружившейся полной неспособности оставаться на них, повышаясь в чинах и званиях.
Эта несменяемость заслуженнейших, занимавших обыкновенно ответственнейшие кафедры архиереев являлась большим злом для Российской Церкви. Вместо одряхлевшего, беспомощного, впавшего в детство архиерея епархией управляло какое-либо неответственное лицо, сумевшее завладеть умом и волей физически и духовно расслабленного владыки. Это мог быть ловкий протоиерей, секретарь консистории или личный секретарь архиерея. Случалось, что вместо владыки управляла епархией какая-либо пронырливая женщина, как это было в Софии в 1920-х годах, когда владычествовала ловкая и нахаль-
633
ная десятипудовая баба В., ставшая известной всей Софии. А в обширнейшей, обнимавшей огромную Кубанскую область Кубанской епархии в самые бурные годы Гражданской войны вместо беспомощного епископа Иоанна (Левицкого) владычествовал его келейник, полуграмотный мужик Ефим, до поступления на службу к владыке работавший на заводе «Кубаноль» около г. Екатеринодара. Так и говорили тогда кубанцы: «Архиереем у нас состоит Иоанн Кубанский, а епархией нашей управляет Ефим Кубанольский». Под управлением таких неответственных, иногда невежественных, часто корыстных особ в епархиях, фактически остававшихся без владычнего управления, легко разрастались всякого рода неправды и беззакония, и епархиальная жизнь разваливалась, водворялся хаос. Наблюдавший дореволюционную жизнь Российской Православной Церкви должен отметить, что там всегда несколько епархий находилось в таком положении.
Особо приходится сказать о двух старейших и знаменитейших епархиях — Киевской и Московской. Их владыки, обыкновенно престарелые митрополиты, по полгода — в течение зимних сессий Святейшего Синода — проводили в Санкт-Петербурге, и их епархии оставались без их непосредственного управления, которое не могло быть возмещено наличием у каждого из этих владык нескольких викариев, не располагавших ни полнотою власти, ни совершенной свободой действования.
Кроме этого частного, вредившего жизни Церкви недуга был еще другой — общий, распространявшийся на всех почти архиереев Российской Православной Церкви, а чрез них и на всю церковную жизнь, и не поддававшийся врачеванию. Это был ложный взгляд архиереев на СЕ1МИХ себя, на свой долг, на свое назначение.
Какой-то злой дух впустил нашему епископату пагубную мысль сосредотачивать главное свое внимание на своем иерархическом положении, а не на тех многосложных и многотрудных обязанностях в отношении своей паствы, которые с этим званием соединяются.
Наши архиереи приравнивали свой сан к генеральскому чину, а свое положение в губернии, по большей части в территориальных границах совпадавшей с епархией, к губернаторскому. И быт свой они налаживали применительно к генеральскому или губернаторскому: жили во дворцах, ездили только в каретах, имели штаты прислуги и обязательно своих поваров. И в отношении большинства архиереев к людям и даже к своим сотрудникам, к священникам постоянно проглядывало нечто генеральское, губернаторское: до самого последнего времени продолжали встречаться и такие архиереи, которые требовали, чтобы являющиеся к ним священники не только целовали их благословляю-
634
щую руку, но и делали земные пред ними поклоны. У некоторых архиереев прорывалось откровенное признание, что священники — это низший класс, «попишки». Это тем более было странным, что огромное большинство архиереев были детьми священников, диаконов, псаломщиков, а как богословы они должны были понимать, что их сан, их долг обязывают их к отечески любовному, душевно-попечительному отношению ко всем своим пасомым и прежде всего к своим соработникам на ниве Христовой — священнослужителям.
Пышность архиерейской обстановки, начальственно-высокомерное отношение большинства архиереев к подчиненным им священнослужителям, безучастное отношение к их жизни, их переживаниям и даже к исполнению ими своих обязанностей мешали установлению нужной связи между архиереем и его соработниками-священнослужителями. Обыкновенно последние сторонились своего архиерея, избегали встреч с ним, а архиерей не пытался ближе, сердечнее, внимательнее подойти к своему духовенству, помочь ему, наставить и направить его. Фактически российские епархии в огромном большинстве случаев не управлялись архиереями, ибо управлять епархией не значило в кафедральных соборах и кое-когда в других церквах совершать торжественные, во всем величии, со всеми атрибутами архиерейского сана богослужения, показываться своей пастве, писать резолюции на разных бумагах, назначать, перемещать, увольнять священнослужителей. Управлять — значит всегда стоять на страже жизни, интересов, нужд, особенностей управляемой области: постоянно наблюдать, исправлять и направлять работу своих сотрудников, содействовать им, облегчать им исполнение ими своих обязанностей. Второе несравненно труднее первого. К сожалению, большинство наших прежних архиереев управляли по первому, а не по второму способу. Духовенство чаще видело в лице своего архиерея величественного владыку, а не милостивейшего архипастыря, соработника, сотрудника, печальника о его нуждах, опытного руководителя в его работе: чаще видело карающую руку грозного начальника, чем милосердную, поддерживающую руку любвеобильного отца. В результате получалось следующее: жизнь епархии протекала без единой направляющей руки: архиерей упивался величием своего сана, пышностью окружающей его обстановки, утопал в обилии поступавших к нему бумаг и не знал жизни своей паствы и своего духовенства, не оказывал своей архипастырской помощи им. Мне приходилось наблюдать интереснейшие случаи. В моей родной Полоцкой епархии, имевшей немного более 300 приходов, архиерей за время своего шестилетнего пребывания в этой епархии только «кое-что слышал», как он выразился, о чрезвычайно талантливом, вдохновенном и усердном пастыре, служившем украшением не только этой
635
епархии, но и всей Русской Православной Церкви, — об о. М.Б. и не удосужился побывать в его селе, подивится его поразительной пастырской работе. Священник этой же епархии о. Александр Черпесский сознавался мне, что за 35 лет своего священства он ни разу не видел архиерея: ни один из шести святительствовавших в этой епархии архиереев не заглянул в его село Глазомичи Велижского уезда, так как оно отстояло от большой дороги в 4 верстах, а ведшая к нему проселочная дорожка была неудобна для громоздкой, тяжеловесной архиерейской кареты. Как будто эту карету нельзя было архиерею оставить в с. Кресты, откуда начинался четырехверстный проселочный путь в Глазомичи, и на тележке, на которой тогда ездили все обыкновенные смертные, добраться до села Глазомичи. «А я, — сознавался мне о. Черпесский, — ни разу не возымел желания предстать пред светлые архиерейские очи. Чем дальше от них, тем спокойнее. Пользы от встречи с архиереем не получишь, а на неприятность можешь нарваться».
Такое отношение владык к делу, к своим соработникам извращало идею архипастырского служения и, будучи весьма распространенным, являлось великим несчастием для Церкви. На всех поприщах человеческого служения для успеха в работе начальник должен знать своих подчиненных, их способности, их отношение к своим обязанностям, должен руководить ими, исправлять и направлять их. Какой же толк мог быть в архиерейской работе, если архиерей не знал своих соработников и не хотел узнать их? Разве это не было удивительным, что из шести архиереев, в течение тридцатипятилетнего пастырского служения о. Черпесского занимавших Полоцкую архиерейскую кафедру, ни один не поинтересовался взглянуть на этого пастыря и на его не столь уж захолустное село? Но еще более удивительным было, что Серафим (Мещеряков) в течение 6-7-летнего служения на той же кафедре не заинтересовался взглянуть на безусловно лучшего священника своей епархии и не был даже осведомлен об его удивительной деятельности. Однажды я со всей откровенностью высказал свой взгляд на такое положение дела.
В 1916 г. во время пребывания Ставки Верховного главнокомандующего в г. Могилеве мы с Могилевским архиепископом Константином в течение двух дней гостили у епископа Полоцкого и Витебского Кириона (Садзагелова). В высших церковных кругах о нем были невысокого мнения: его считали грузинским сепаратистом, коварным и опасным человеком. А мне он нравился: это был очень образованный, широкого взгляда, простой в обращении, гостеприимный и обходительный человек. Принял он нас с широким кавказским радушием. Вот этим-то двум архиереям за гостеприимным столом хозяина я и высказал свой откровенный взгляд на полное извращение большинством наших
636
архиереев своего архипастырского служения. «Дорогие владыки! Вы уж не прогневайтесь на меня за то, что я вам скажу. Но от другого вы этого не услышите: вам же говорят только приятное, ублажающее вас. Вы обманываете себя, думая, что вы управляете своими епархиями. Разве так надо управлять, как управляют большинство наших архиереев? Архиерейское служение не может ограничиваться тем, что архиерей кладет свои резолюции на сотнях поступающих к нему бумаг, в величии своего сана совершает богослужения, не менее величественно принимает просителей и изредка в карете, окруженный духовными и светскими чинами, появляется пред трепещущими от архиерейского нашествия бедными сельскими батюшками, для которых появление владыки со свитой уподобляется варварскому нашествию, и сгоняемыми часто полицией, отрывающей их от сельских работ, пасомыми». «Чего же вы хотите от архиерея?» — спросил архиепископ Константин. «Не я, дорогой владыка, хочу, а дело. Ваше назначение того требует, чтобы наши архиереи были не только владыками, но и отцами, знающими своих пасомых и действительно пекущимися о них», — ответил я. «Как же, по-вашему, надо нам управлять?» — удивился архиепископ Константин. «Прежде всего надо, — сказал я, — чтобы вы забывали о своем величии и помнили, что вы должны быть отцами и относиться и к священнослужителям, и к мирянам как к своим родным детям, и чтобы вы давали им чувствовать ваше отцовское отношение. Надо затем, чтобы вы старались узнать и знали всех ваших подчиненных. прежде всего пастырей ваших епархий. При теперешней манере архиерейского управления, когда архиерей видит только являющихся к нему или при редких посещениях им приходов, он не может узнать своих соработников. Вот и получаются такого рода курьезы, что один из ваших предшественников, владыка Кирион, за шесть лет служения в теперешней вашей епархии не удосужился увидеть талантливейшего, замечательного священника своей епархии отца М. и даже лишь кое-что слышал о нем. Если бы я был архиереем, я так управлял бы епархией. В вашей, владыка Кирион, епархии 11 уездов и не более 30 благочиний. Я в течение одного года познакомился бы решительно со всеми священниками. Только я не ожидал бы, что они придут ко мне, а сам пошел бы к ним. Вот как я сделал бы это. Я начал бы с Витебского Как с ближайшего к вам уезда. Я пригласил бы духовенство 1-го Витебского благочиннического округа собраться такого-то числа у благочинного — Храповичского священника. Не думайте, что такие собрания были бы разорительны для тех, у кого священники будут собираться. Наши священники — очень гостеприимный народ и всегда готовы принять приятных гостей, а гости, со своей стороны, в случае нужды не отказались бы помочь принимающему. Таким образом, вы в назначенный день
637
пожаловали бы в село Храповичи и там вместе с собравшимися провели бы два-три дня в простой дружеской беседе, стараясь узнать их нужды и скорби, познакомиться с их работой, с их отношением к своим обязанностям и пасомым, с их недочетами и их достижениями. При недочетах наставили бы их, при достижениях сами поучились бы. ведь учиться надо всегда и от всех, от кого только можно чему-либо доброму научиться. Между беседами е пастырями хорошо полюбоваться окружающей природой: вместе с вашими собеседниками побродить по лесу за грибами, побывать на озере и призаняться рыбной ловлей — для владыки это не может быть унизительным, апостолы же ловили рыбу, послушать пение птичек. Все это было бы для вас после вашей городской уединенной жизни и приятно, и полезно. Затем непременно вы заглянули бы в деревенские лачуги, чтобы увидеть, как же живут тамошние пасомые, и там осчастливили бы их своей задушевной отеческой беседой. Вот это было бы действительной архиерейской ревизией, полезной и для архиерея, и для посещенных им. Из Храповичией вы переправились бы во 2-е благочиние — к благочинному в село Зароново. только не в архиерейской карете, а на обыкновенной колясочке, тогда Храповичский благочинный с радостью доставил бы вас туда. Там вы застали бы уже собравшихся священников 2-го благочиния и с ними, как и в Храповичах, провели бы два-три дня. Зароновский приход богатый, благочинный — человек гостеприимный, и он рад был бы встретить и угостить собравшихся. Таким образом, в течение одного лета я обозрел бы всю свою епархию и увидел бы всех до одного священников, всех узнал бы и получил бы полное представление о духовной жизни своей епархии. Кроме того, на хлебосольство священников, которым они окружили бы появлявшегося среди них архиерея, я ответил бы своим хлебосольством: каждого из приезжавших ко мне как к архиерею священников я приглашал бы к своему столу, к обеду или ужину. Архиерейский дом со своим хозяйством не разорился бы. А между тем это упрочивало бы связь между архиереем и священнослужителями, архиерею давало бы возможность еще ближе ознакомится со своими соработниками на ниве Христовой, а их возвышало бы в глазах светского общества».
Разобщенность между архиереями и их сотрудниками-пастырями крайне неблагоприятно отражалась на пастырской работе последних. Никакая духовная школа, ни одна семинария и ни одна академия не давала кандидату священства всех тех знаний, всего того опыта, какие требуются при прохождении пастырского служения. Полученные в духовных школах знания должны дополняться мудрыми наставлениями старших и прежде всего архипастырскими наставлениями и указаниями. У нас же было обычным, что новопосвященные предоставля-
638
лись самим себе: сами должны были учиться дальнейшей пастырской мудрости, сами должны были отыскивать верные пути пастырского служения. Одни действительно пытались найти лучшие пути, что далеко не всем удавалось: другие, чтобы не утруждать себя беспокойными поисками, предпочитали удовлетворяться традицией, унаследованной от отцов и дедов, ограничивая свое служение совершением богослужений, исполнением треб и редкими поучениями по тетрадке или по «Троицкому листку», не опережая своих предшественников в пастырском искусстве, но уступая им в религиозности и пастырском настроении: третьи обращали свое пастырство в доходное занятие и старались извлечь из него возможно большую материальную выгоду.
Вспоминаю первые годы своего пастырского служения в сельских церквах Полоцкой епархии. Если бы кто-нибудь опытный и вдохновенный тогда наставлял меня: подогревал бы мой еще не установившийся пастырский дух, направлял бы меня на правильный путь, подмечал бы и исправлял мои ошибки, все мое последующее пастырствование было бы в значительной степени иным, чем оно было при отсутствии такого пестуна. А так мне самому приходилось воспитывать и исправлять себя, самому выбирать пути и способы пастырской работы, подмечать свои ошибки и отыскивать способы исправления их. Семинария, снабдившая меня многими знаниями, не дала мне той пастырской подготовки, которая проявляется в горении духа и в умении пастыря быть всем для всех. Рукоположивший меня архиерей, посвящая и затем отправляя меня на приход, не обмолвился ни одним наставительным словом. Благочинные, мои сельские духовные начальники, окружали меня большим вниманием, любовью, гостеприимством, но в пастырском делании они всецело предоставляли меня самому себе. Старшие собратья, соседи-священники, также не считали нужным делиться со мной своим пастырским опытом, да и унаследованные ими методы пастырской работы были недостаточны, чтобы научить меня и дать нужное направление моей пастырской деятельности. Так и брел я одиноким по широкому и тернистому пастырскому пути, не без промахов совершая его. И не со мной одним это случалось.
В 1930 г. я издал свою книгу «Православное пастырство». Эта книга не только в богословских кругах, но и в светском обществе обратила на себя значительное внимание ясностью изложения и своей новизной. Новым же в ней было то, что прежние пасторологические труды отличались отвлеченностью, а я не только научно осветил основы, задачи и дух православного пастырского служения, но и воспользовался выводами и наблюдениями, сделанными мною за время моей продолжительной пастырской службы. Один из экземпляров этой книги попал в руки моего
639
земляка заслуженного протоиерея о. Филиппа Лузгина, до революции в течение многих лет бывшего настоятелем Лепельского уездного собора, 20 января 1931 г. праздновавшего 50-летний юбилей своего священнослужения. Прочитав мою книгу, он писал мне 31 декабря 1930 г.: «Как жаль, что ничего подобного мне не пришлось прочитать в дни молодости. А теперь, на закате дней жизни, приходится только скорбеть, что 50 лет трудился в мнимом благочестии, хоть и за это слава Богу!»
Да, наш пастырский состав был бы совсем иным и по-иному бы он работал на святейшем своем поприще, если бы наши семинарии давали своим питомцам более возвышенную, одухотворенную подготовку, если бы архипастыри вдохновляли и отечески воспитывали пастырей, благочинные и старшие собратья-пастыри помогали бы младшим. А так воспитывались пастыри без пестунов, работали без руководителей: сами избирали себе пути, сами, как приходилось, и брели по этим путям. И надо сознаться, что истинных, идейных, самоотверженных, не обольщающихся благами этого мира пастырей было не так уж много. Но надо удивляться и тому, что все же встречались у нас пастыри, достойнейшим образом носившие это имя, готовые полагать души свои за овец своих. Их не так-то уж было много, но все же они встречались и являлись живыми примерами того, какими должны быть православные пастыри.
Коли же говорить о недостатках, чаще всего наблюдавшихся в воспитывавшихся без должного руководства пастырях, то, не вдаваясь в мелочи, надо упомянуть о двух, в которых, по моему разумению, виновны были не столько сами пастыри, сколько их руководители.
Первый недостаток. Пастырское дело должно быть служением — возвышенным и самоотверженным. У нас же оно чаще всего было занятием, службой, отправлением известных, не отделимых от пастырства, но не составляющих его сущности и не охватывающих его обязанностей: священник совершал богослужения в положенные дни, исправлял требы — крестил, венчал, хоронил, служил молебны и панихиды, изредка говорил за богослужениями проповеди, но входить в жизнь своих пасомых, узнавать и облегчать их нужды, быть всем для всех не старался или старался очень мало. Жизнь пастыря не сливалась с жизнью его прихожан, а у сельского — резко различалась: пастырь жил более или менее интеллигентною жизнью, прихожане жили жизнью мужицкой, страдавшей многими недочетами и нуждами. Долг пастыря был поднять своих прихожан, приобщить их к культурной жизни, воспитать, облагородить их жизнь. Очень немногие пастыри задавались такой задачей.
Что пастыри проявляли больше рвения к внешней стороне пастырства, чем к самому пастырству, это понятно: легче быть
640
чиновником пастырского дела, требоисправителем, чем истинным пастырем; требоисправления дают доход и могут не требовать большого духовного напряжения, а истинное пастырствование невозможно без горения духа, без подвижнического служения ближнему, без самопожертвования. Но то было удивительно, что духовное начальство обращало главное внимание на внешнюю сторону пастырства, на исполнение священниками разных канцелярских обязанностей и как будто игнорировало в их служении истинную духовною сторону пастырства. Это обнаруживалось со всей очевидностью. Когда при архиерейских и благочиннических ревизиях внимательнейше просматривалась церковная отчетность — метрические, приходно-расходные и другие книги, а пастырская деятельность пастыря обходилась молчанием; когда награды давались не добрым пастырям, а аккуратным канцеляристам, тщательно ведшим церковную отчетность и аккуратно представлявшим денежные и иные отчеты; когда лучшими благочинными считались не добрые воспитатели добрых пастырей, какими они должны были быть, а опять же ловкие, исполнительные канцеляристы; когда на высшие в епархии духовные должности членов консисторий также назначались не вдохновенные, идейные пастыри, а пастыри-чиновники, умевшие одолевать консисторское делопроизводство и не обращавшие внимания на развитие в епархии доброго пастырствования, и тому подобное — разве все это не свидетельствовало о том, что епархиальное начальство забывало о своем главном назначении — воспитывать добрых пастырей, направлять пастырей на доброе пастырствование и награждать пастырей прежде всего за доброе пастырствование? Но... так легче было стоять у кормила власти, легче было канцелярствовать, чем учить самоотверженному, вдохновенному, идейному пастырствованию, а для этого самим быть добрыми идейными пастырями.
Тут можно было бы представить множество примеров, что самые преданные своему пастырскому делу, вдохновенные и самоотверженные в своем служении пастыри в течение многих лет своего иногда удивительного служения оставались в тени, затирались, нередко считались новаторами, мечтателями и даже, что случалось, впадали в немилость начальства, а отрицательные, но ловкие, угодливые и низкопоклонные типы пользовались благоволением и доверием не только благочинных, но и владык с их консисториями, щедро награждались, проводились в благочинные и члены консисторий и так далее. Тут важно было не столько то, что достойные оставались без заслуженных ими начальнического внимания и наград, сколько другое — что лучшие, вдохновенные, идейные пастыри как бы отстранялись от руководства духовенством епархии.
641
Что касается братской помощи со стороны старших, которая явилась бы совершенно естественной и неизбежной, то по несчастно сложившейся традиции она недостаточно проявлялась. При братских встречах, которые не были редкими, наши пастыри гораздо реже занимались пастырскими вопросами, чем беседами на злободневные темы, угощением и развлечениями иногда совсем не пастырского духа. Специальных же пастырских собраний с чтением рефератов на пастырские темы и обсуждением их ни в уездных городах, ни тем более в селах не бывало. Начинающим пастырям, таким образом, самим надо было доучиваться. Под чьим же руководством? Благочинные, как я уже заметил, не любили заниматься обучением неопытных священников. Я по крайней мере среди епархиальных благочинных не встретил ни одного, который как следует понимал бы свою должность и вытекающие из нее обязанности и для своих подчиненных был добрым советником, руководителем, не только начальником, но и другом. Среди старцев-священников немало было благочестивых, богобоязненных, добродушных пастырей, интересных собеседников. людей весьма почтенных. Но у них был своеобразный взгляд на пастырство и на пастырские обязанности. Их деды и отцы, от которых они унаследовали навыки и приемы пастырствования, жили в то время, когда пасомые веровали бесхитростно и крепко и удовлетворялись сколько-нибудь приличным совершением богослужений и отправлением треб да более или менее сердечным отношением к ним пастыря. Так старцы-пастыри и смотрели: дело пастыря — аккуратно совершать богослужения и требы, внимательно вести церковную документацию и представлять разные отчеты... А проповеди, беседы — это выдумки молодежи, совсем ненужные для дела. При случае дать пасомому нужный совет, иногда пожурить его — это иное дело. А проповеди за богослужениями — они совершенно излишни, ибо само богослужение чрезвычайно поучительно. К его поучительности что может священник прибавить? И так рассуждали не только сельские старцы-священники, но и весьма образованные, стоявшие на высокой свешнице Православной Церкви пастыри. На Московском Соборе, кажется летом 1918 г., магистр богословия, бывший ректор Тамбовской семинарии, а затем занимавший высокий пост председателя училищного совета при Святейшем Синоде митрофорный протоиерей Павел Иванович Соколов при рассмотрении Собором вопроса о церковной проповеди с жаром доказывал, что проповедь за богослужениями совершенно излишня. так как богослужение само по себе очень поучительно и самые красноречивые поучения пастырей ничего не могут прибавить к нему. Если так рассуждал ученый, высокопоставленный столичный протоиерей, то чего же можно было ожидать от простецов — сельских пастырей-старцев? От лучших из них на-
642
чинающий иерей мог поучится благочестию, благоговейному отношению к храму и совершаемым богослужениям. Но быть руководителями молодых пастырей в обязательном для них совершенствовании своего пастырского служения применительно к переживаемому времени и условиям жизни эти старцы, за редкими исключениями, не могли.
Таким образом, наши пастыри подвизались без служебной школы, без необходимых руководителей. Более пламенные натуры доучивались самоучками: сами старались глубже осознать задачи пастырства, понять современные нужды пасомых и средства удовлетворения их. А более инертные успокаивались, и иные засыпали: ведь легче же ограничивать свое пастырствование совершением богослужений и треб, чем все время гореть духом. радоваться с радующимися и плакать с плачущими; легче не проповедовать, чем проповедовать. Для этих последних теория о. Павла Ивановича Соколова, в 1919 г. ставшего архиепископом Астраханским, должна была казаться весьма привлекательной и утешительной.
В следующей главе я скажу, какими, по моему разумению, должны быть современные архипастыри и пастыри.
XLV. Мои мечты: архипастыри и пастыри, их личные и служебные отношения
Это издавна установилось, что быт наших архиереев обставлялся с большой роскошью: архиерей жил во дворце, имел значительный штат прислуги, одевался богато, питаться мог обильно и роскошно, выезжал не иначе как в карете. Такая обстановка считалась обязательной для архиерея в виду высоты его архиерейского сана и для возбуждения в пасомых большего к нему уважения и преклонения. Это стало своего рода догмой архиерейского бытия, отступление от которой считалось непростительным грехом. Даже Санкт-Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), высокообразованный, ко всем внимательный и в обращении со всеми чрезвычайно деликатный, сделал внушительный выговор епископу Сергию, ректору Санкт-Петербургской духовной академии († 15 мая 1944 г. в сане Патриарха Московского), когда тот выехал в город на извозчике, а не в карете. «Вы уж, владыка, больше этого не делайте, — сказал митрополит. — Не забывайте, что вы — архиерей». Тем более не допускалось пешее хождение архиерея по городу. Архиерей мог пешком прогуливаться только в архиерейском саду. Замкнутая сидячая жизнь чрезвычайно вредно отзывалась на здоровье не выходивших из своих дворцов и карет владык; многие из них тучнели не от переедания, а от сидячей жизни. Таври-
643
ческий архиепископ Николай (Зиоров, † 1916 г.), перед назначением на Симферопольскую кафедру служивший в Америке, вместо прогулок пешком стал кататься на велосипеде в своем архиерейском саду. Какой-то «ревнитель благочестия», соблазнившись такою вольностью владыки, сфотографировал его, когда он восседал на велосипеде, и фотографию переслал в Синод. Синод рассмотрел дело о катающемся на велосипеде архиепископе и запретил ему заниматься этим делом.
Была особая категория людей, которым эта обособленность, замкнутость, эта напыщенность архиерейского быта очень нравилась. По их мнению, все это придавало особое величие носителю архиерейского сана, личность его облекала особая таинственность: им казалось, что архиерея — носителя высшего духовного сана — нельзя и представить в иной, обыденной обстановке. Некоторым из носителей архиерейского сана очень нравилась такая идеология, да и приятно им было облекаться в тонкие, пышные одежды, питаться изысканными блюдами, иметь дома, полные вина, елея и всякой благостыни, не иметь недостатка в услужении других. А для убогих, какие, к сожалению, встречались среди носителей архиерейского сана, архиерейская обстановка служила хорошей ширмой, скрывавшей их убожество.
Было бы противоположною крайностью утверждать, что архиерей как монах должен довольствоваться минимумом жизненных удобств и во всем ограничивать себя. Служебное положение российского архиерея обязывало его к известному аристократизму: ежедневно принимая множество просителей и посетителей, иногда бывая вынужденным собирать у себя духовенство и именитых граждан, архиерей не мог наподобие теперешних беженцев довольствоваться одной или самое большее двумя комнатами: кроме спальни ему необходимы были и кабинет, и приемная, и просторная столовая, и запасная комната на случай, если бы кому-нибудь пришлось заночевать у него: занятый всевозможными делами, архиерей не мог обходиться без прислуги и так далее. Но авторитет архиерея нисколько не пострадал бы, если бы владыка показывался своей пастве не только на богослужениях во всем нарядном величии своего сана и на улицах благословляющим из окна своей кареты. Авторитет архиерея чрезвычайно выиграл бы. если бы владыка реже посещал дворцы знатных и богатых, чем лачуги утружденных и обремененных, и там узнавал бы скорби и нужды своих пасомых. Равным образом только возвысился бы в глазах духовенства авторитет владыки, если бы оно видело в нем не начальника, не владыку, а архипастыря, чаще милующего, чем карающего, нежного отца, готового всех обнять своею отеческою любовью, одних наставить и исправить, других вдохновить, опечаленных утешить, памятующего о своем долге быть всем для всех. Теперь я представлю, каким должен
644
был бы быть российский архиерей в своей жизни, в своих отношениях к пастырям и пастве, какие желательны для настоящего православного люда пастыри-священники.
Кому-нибудь может показаться слишком смелым такое мое решение: мы давно оторвались от своей Родины, мы недостаточно знакомы с современным русским бытом, с условиями пастырской работы, с требованиями, предъявляемыми ныне тамошними пасомыми к своему пастырю. Не окажется ли наша попытка решением задачи с одними неизвестными? Что мы не представляем полной картины положения современного пастыря в Советской России — это верно. Но все же кое-какие сведения о состоянии тамошней Православной Церкви и ее пастырей разными путями доходят до нас, и по ним мы можем судить, какие требования предъявляются там к пастырю. Но независимо от требований. предъявляемых к нему в то или другое время, пастырь всегда должен быть тем, чем он должен быть по изображению Пастыреначальника нашего Иисуса Христа и святых апостолов, в своих наставлениях начертавших образ доброго пастыря для всех веков и времен и затем собственным примером подтвердивших свои наставления.
Образ доброго пастыря в особенности ярко выступает в трехлетием беззаветном пастыреначальническом служении Иисуса Христа людям, запечатленном мученическою смертью на кресте и в Его наставлениях: о добром пастыре (Ин. 10, 1-18), при отправлении апостолов на проповедь (Мф. 10, 5-42) и в Его прощальной беседе (Ин. 14-17). По словам и делам Спасителя добрый пастырь должен веровать в Бога и любить Его. своих пасомых любить до готовности во всякий момент положить за них душу свою, не смущаться препятствиями и опасностями, но всегда и во всем уповать на милость и помощь Божию, быть бескорыстным при исполнении обязанностей своего служения.
По учению апостола Павла, пастырь должен быть «непорочным, одной жены мужем, трезвым, целомудренным, благочинным (честным), страннолюбивым, учительным, не пьяницей, не бийцей (не сварливым), не корыстолюбивым, но тихим, миролюбивым, не сребролюбивым, хорошо управляющим домом своим, детей содержащим в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1 Тим 3, 2-7).
В приложении к современному пастырю в Советской России это означает, что он в своей жизни должен являть добрый пример веры и нравственности, в отправлении богослужений — примерную благоговейность, а в отношениях к своим прихожа-
645
нам — попечительную отеческо-дружескую заботливость не только об их духовных, но и о материальных нуждах, дабы и неверующие убеждались, что он — верный служитель Христа, исполнитель Его вечных заветов, насадитель добра, а не зла в нашем грешном мире.
В старое время далеко не всегда отношения между священнослужителями бывали мирными и дружелюбными, и это очень смущало верующих мирян, а неверующим давало основания обвинять и осуждать пастырей, проповедующих мир и любовь и не умеющих между собою жить в мире. В настоящее время, когда отношение к духовенству стало более критическим, когда увеличилось число врагов Церкви, мир. любовь, согласие, взаимопомощь должны отличать взаимоотношения священнослужителей. дабы своими несогласиями не подавать врагам веры и Церкви лишнего повода для порицания и служителей Христовых, и всего дела Христова.
И в особенности должны измениться отношения начальствующих духовных лиц к подчиненным им священнослужителям. Такими духовными начальниками являются прежде всего архиереи и благочинные, а потом члены консисторий, ныне епархиальных советов и другие. В самом наименовании первых двух законодатель выразил мысль: какими, чем должны быть в Христовой Церкви эти должностные лица. Архиерей — преосвященный, то есть преисполненный благодати Божией, изобилующий верою, надеждою, любовью, кротостью и смирением («Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Благочинные— чинящие благо, содействующие упрочению благочиния во всем. Значит, по мысли законодателя, первые должны сиять красотою всех христианских добродетелей и ими согревать души всех своих пасомых и прежде всего своих сотрудников на ниве Христовой, священнослужителей. Для последних они должны быть не владыка - ми и начальниками, а благостными отцами, верными друзьями, опытными и надежными руководителями, во всем содействующими им в совершении своего великого служения. Благочинные должны быть для архиерея его добрыми сотрудниками в направлении пастырской работы священнослужителей, в исправлении недочетов как в служебной деятельности, так и в частной жизни подчиненных им пастырей; для последних благочинные должны быть менее всего начальниками, а только старшими братьями, добрыми советниками, наставляющими неопытных, вразумляющими спотыкающихся, поддерживающими падающих, применяющими строгость лишь после испробования всех предупредительных мер.
К прискорбию, приходится сказать, что в прежнее время служебное поведение и архиереев, и благочинных, за сравнительно немногими исключениями, не могло радовать наблюдавших цер-
646
ковную жизнь. Архиереи чаще проявляли свое владычествование, забывая, что Пастыреначальник и основоположник нашего пастырского служения Иисус Христос не начальствование, а служение считал целью Своего пришествия на землю (Мф. 20, 28), самоотверженно служил людям и для спасения их претерпел крестную смерть. Благочинные чаще бывали не добрыми братьями в иерейской семье, а архиерейско-консисторскими полицейско-фискальными чиновниками, в виде отчислений от церковных сумм собиравшими епархиальную дань, осведомлявшими архиерея и консисторию о всех священно- и церковнослужительских прегрешениях и весьма часто забывавшими о своем главном долге — помогать младшим своим собратьям в исполнении ими обязанностей своего служения, направлять их на путь доброй пастырской службы и доброй жизни. Много на своем веку видел я благочинных, видел между ними многих отличных канцеляристов, строгих ревизоров церковной письменности и отчетности. видел и усердных доносчиков начальству о стоящих и не стоящих высокого внимания ошибках подчиненных им священно-церковнослужителей. Встречались мне и такие благочинные, у которых мзда неправедная покрывала все согрешения. а без этой мзды и самые правые оказывались виновными, и самые деятельные и достойные отодвигались на задний план. Но благочинных, вполне оправдывавших свое название, благочинных, которые были добрыми руководителями подчиненных им духовных лиц в их пастырском служении, мудрыми советниками, попечительными братьями, верными товарищами, мне встречать как будто не приходилось или почти не приходилось.
Достаточно было понаблюдать благочинническую ревизию, чтобы составить ясное представление об отношении благочинного к своему долгу. Приехавший благочинный шел в церковь, где в первую очередь осматривал святой антиминс, в подобающей ли чистоте содержится он, и Святые Дары и беглым взглядом окидывал всю церковь. Вернувшись в дом священника, он просматривал церковную письменность: метрические и приходно-расходные книги, иногда церковную летопись, если она велась: потом заходил в школу, где прослушивал урок Закона Божия. Этим ревизия и ограничивалась. А затем шло подобающее угощение о. благочинного, качество и количество которого оказывали значительное влияние на такое или иное расположение о. благочинного к данному причту.
Пожалуй, еще хуже обстояло дело с нашими владыками. Дистанция огромного размера отделяла священника от архиерея. Архиерей — магнат, высокий чин, в ранге чинов приравнивавшийся к генералу, в губернии — к губернатору, а священник по сравнению с ним — пролетарий. Архиерей жил во дворце, именовавшемся архиерейским домом, его обслуживали несколько человек: лив-
647
рейный швейцар, келейник, повар, кучер, дворник и другие, — священнику иногда приходилось довольствоваться сельской лачугой и не всегда иметь даже одну прислугу. Архиерей был обеспечен сверх меры: Киевский митрополит, например, решительно при всем готовом получал более 100 тысяч рублей в год, а годовой бюджет сельского священника епархий северной и средней России колебался между 350-500 рублями, что заставляло бедных пастырей, когда приходилось в семинариях и духовных училищах воспитывать детей, терпеть острую нужду вплоть до голода. Главное, однако, заключалось не в этом материальном и общественном контрасте, отличавшем архиерея от священника, а в той зависимости последнего от первого и в том отношении, которое наблюдалось у большинства архиереев к подчиненным им пастырям. Архиерейское отношение к священникам выразилось в случайной обмолвке Волынского архиепископа Антония (Храповицкого), в 1918 г. ставшего митрополитом Киевским, в дореволюционное время считавшегося самым видным представителем нашего архиерейского сословия. На одном из заседаний Святейшего Синода, при обсуждении вопроса, касавшегося белого духовенства, благородный и честный Санкт-Петербургской митрополит Антоний (Вадковский) заметил: «Нам следовало бы узнать мнение белого духовенства по этому вопросу, известному им более, чем нам». Архиепископ Антоний с жаром возразил: «Еще бы, будем мы спрашивать этих попишек». «Владыка! Вы забываете, что эти попишки — наши отцы», — ответил ему митрополит Антоний. Вслед за архиепископом Антонием и многие другие архиереи, в особенности из многочисленных его учеников по академиям и подражателей его блудословию, именовали священников попишками, выражая этим свое высокомерное отношение к ним.
Мне всегда казалось, что каждый священник должен был испытывать некоторое унижение после посещения им архиерея. Прежде чем предстать пред светлые архиерейские очи, ему необходимо было приобрести благоволение архиерейских швейцара и келейника, каждый из которых мог ответить: «Владыка сегодня не принимают». А с некоторыми владыками случалось, что они хронически не принимали. В 1915 г. рассказывал мне священник Гродненской епархии X.: «Приход мой очень бедный, семья большая, надо воспитывать детей и обучать в школах. Бедствую. В епархии немало добрых приходов, которые обеспечили бы меня. Но не могу попасть к архиерею. Раз пять приезжал в Гродно, просиживал там по два-три дня, заходил в разные часы — в 9, 10. 11, 4, 5 — и всегда получал ответ: «Владыка еще почивают. Владыка занят делами» — и тому подобное. Так и не добился. Правда, тогдашний Гродненский архиепископ, добрый и неглупый человек, был большим приятелем Бахуса, который, как всем известно, лишает людей возможно-
638
сти быть хозяевами своего времени. Но не считались с временем своих священников не один только Гродненский, но и многие другие архиереи.
Но вот священник приглашен в архиерейскую приемную. Владыка выходит к нему в рясе и клобуке, с панагией на груди и с четками на руках. Священник делает низкий поклон, владыка благословляет его и благосклонно протягивает для лобызания благословившую руку. Иные, более милостивые владыки подставляли для лобызания и левую свою щеку. Но случались и такие, которые требовали себе от священников, не исключая и убеленных сединами старцев, земного поклонения. «Не мне они кланяются, а моему высокому сану», — объясняли они. Принимая священника, архиерей старался поскорее отделаться от него, мало интересуясь его службой и его паствой, и своей важностью более запугивал, чем окрылял и вдохновлял своего собеседника. Неудивительно. что священники избегали показываться на глаза архиерею, а духовная близость между ними и их архипастырем не могла развиваться. Зато какую популярность приобретали, какою любовью подчиненных им пастырей пользовались владыки кроткие, доступные, приветливые и сердечные. Благороднейший Санкт-Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), умерший в 1944 г. в сане Патриарха Сергий (Страгородский), архиепископ Димитрий Херсонский (Ковальницкий) и другие у всего духовенства оставили по себе память истинных архипастырей, благостных и мудрых, в каждом священнике уважавших пастыря и человека и старавшихся всех согреть своею архипастырскою любовью и сердечностью.
В особенности бросалось в глаза высокомерное отношение архиерея к священнику, когда третируемый священник оказывался старше, или умнее, или образованнее, или заслуженнее третирующего архиерея. А такие случаи бывали нередко.
В бытность свою ректором Самарской духовной семинарии архимандрит Серафим (Мещеряков) очень близко сошелся с семьей священника, а потом протоиерея Алексея Матюшенского, кандидата богословия Казанской духовной академии, человека очень дельного и работоспособного. Заняв в 1902 г. Полоцко-Витебскую архиерейскую кафедру, епископ Серафим поспешил назначить о. Матюшенского на должность настоятеля Витебского кафедрального собора. Тесная дружба между епископом Серафимом и о. Матюшенским продолжалась: ежедневно они угощались друг у друга: по пятницам вместе мылись в архиерейской бане. В июле 1911 г. Серафим в сане архиепископа был переведен в Иркутск. Огорченный этим переводом, о. Матюшенский был утешен тем, что преемником архиепископа Серафима по Витебской кафедре стал епископ Никодим, товарищ о. Матюшенского по академическому курсу, и решил стать к своему новому архипас-
649
тырю в такие же отношения, какие были у него с епископом Серафимом. Надо заметить, что между епископом Никодимом и протоиереем Матюшенским была значительная разница. Епископ Никодим — из вдовых сельских священников, любил хозяйственную сторону жизни, а к науке не чувствовал тяготения и, по всей вероятности, не отличался большими успехами в академии. О. Матюшенский преуспевал в академических науках, владел пером, был начитанным человеком, неплохим богословом. Встретились товарищи дружелюбно. О. Матюшенский решил, что новый владыка будет относиться к нему не хуже, чем прежний. Наступил банный день — пятница. В установленный час о. Матюшенский прибыл в архиерейский дом. чтобы идти с архиереем в баню. «Скажи владыке, что я пришел», — обратился он к келейнику. «Его преосвященство спрашивает, что вам нужно», — сообщил келейник о. Матюшенскому после доклада епископу Никодиму. «Скажи владыке, что я пришел мыться в бане», — сказал о. Матюшенский. Келейник вторично пошел к владыке. Ответ владыки не порадовал кафедрального протоиерея. «Его преосвященство велел сказать, что это баня архиерейская, а не протоиерейская», — огорошил вернувшийся келейник не ожидавшего подобного ответа о. Матюшенского.
Если рассказанный случай скорее забавен, чем печален, то следующий случай совсем отвратителен. Одним из моих товарищей-однокурсников в академии был иеродиакон Алексий Баженов, сын настоятеля севастопольского собора, смиренного и благочестивого митрофорного протоиерея Баженова. Алексий Баженов принадлежал к числу самых слабых по успехам студентов, потому что науками и делом он не занимался, а целые дни и вечера проводил в спорах с навещавшими его студентами, любителями подобных споров. В течение последнего академического года я жил с ним в одном помещении и всегда мог наблюдать его. Хотя смирение должно быть первейшею монашескою добродетелью, но у иеродиакона Алексия этой добродетели и в зародыше не было. Кажется, он только себя да нескольких других монахов считал настоящими людьми, ко всем прочим он относился как к низшего рода созданиям.
Отсутствие у Алексия Баженова особенных достоинств не помешало ему быстро двигаться по службе: окончив курс академии в 1902 г., он в 1911 г. стал ректором Черниговской духовной семинарии, а в ноябре 1913 г. — епископом, викарием Херсонской епархии. Вскоре после хиротонии он отправился в Севастополь, чтобы и отца-старца навестить, и себя родному городу показать. В воскресенье Алексий служил в соборе. Ему сослужило несколько священников, в числе их и старец отец. Алексию не понравилось, как отец его подошел к престолу, чтобы из рук сына принять Святые Таины, и Алексий грубо крикнул на старца:
650
«Столько лет служишь ты священником и не смог научиться, как надо подходить к Святым Тайнам!» У отца навернулись слезы, но он ни единым словом не возразил бестактному сыну.
Можно было бы рассказать множество других анекдотических случаев архиерейской грубости, бессердечной бестактности, оскорбительной для подчиненных надменности, но повествование обо всем этом не входит в настоящую мою задачу. Для подчиненного духовенства труднее всего было то, что у каждого архиерея свой нрав, свои привычки, свои капризы, свои манеры проявлять свое превосходство над подчиненными им.
Высокомерие унижает, оскорбляет того, к кому относятся высокомерно. В особенности оно бывает обидным, когда высокомерным оказывается человек, вознесенный случайно, а не по своим особым достоинствам и качествам. Большинство же наших архиереев заняли свое положение только потому, что они постриглись в монахи, хоть от этого и не стали настоящими монахами и не украсились никакими высокими качествами. Между тем архиереи облекались такою властью, что они. можно сказать. были властны и в жизни, и в смерти своих священно- и церковнослужителей, могли благодетельствовать им и разорять их, одним предоставляя лучшие места, других низводя на худшие, одних награждая, других карая, и так далее. Уже это, ставя священника в полную зависимость от архиерея, не могло располагать первого ко второму. Если же архиерей, кроме того, проявлял еще высокомерие, то он окончательно отталкивал своих подчиненных от себя.
И неудивительно, что между архиереями и подчиненным им духовенством не было должных отношений, отеческой любви и архипастырской попечительности — со стороны архиерея, искренней преданности и глубокой почтительности к своему архипастырю — со стороны духовенства. Большинства архиереев духовенство сторонилось, избегая встреч с ними, и только в самых неотложных случаях, в случаях большой нужды показывалось к ним. Я уже упоминал о священнике А. Черпесском, в течение 35 лет после своего посвящения ни разу не видевшем своего архиерея, хоть и совсем недалеко он жил от кафедрального города.
Протопресвитер военного и морского духовенства в ранге чинов был приравнен к архиепископу, а в служебных действиях он был более самостоятелен и независим, чем каждый архиерей: все архиереи находились в полной зависимости от Святейшего Синода, а протопресвитер, не завися ни от какого архиерея, не вполне зависел и от Синода, так как в случае несогласия с требованием или решением Синода он мог апеллировать к государю императору, с которым он часто встречался и которому при встречах имел возможность делать доклады о своих делах. У меня было два случая несогласия с Святейшим Синодом, в которых
651
мне пришлось обращаться за помощью к царю. Оба случая имели место во время первой общеевропейской войны, когда я находился при государе в Ставке Верховного главнокомандующего и в то же время состоял присутствующим членом Святейшего Синода.
Первый случай касался богослужения в походных на поле брани военных и в судовых на военных кораблях церквах. О пространном, а тем более об уставном богослужении в тех и других не могло быть и речи по целому ряду причин. Отсутствие же узаконенного сокращенного чина богослужения заставляло священников сокращать службу по своему усмотрению, иногда крайне неудачно, если не сказать нелепо, что не могло не смущать молящихся. Присутствуя при посещении воинских частей в церквах, я был поражен разнообразием совершавшихся богослужений, в особенности в тех частях, где были мобилизованные священники. А таких священников во время Великой войны в Ведомстве военного и морского протопресвитера было огромное большинство: в мирное время в этом ведомстве служило 730 священников, на войне же их было более 4 тысяч. Чтобы положить конец такому смущавшему верующих и безобразившему богослужение непорядку, я составил сокращенный чин богослужения, всенощного бдения и литургии применительно к употреблявшемуся в придворных и домовых петербургских церквах. А чтобы не вызвать обвинения в самочинстве, на первом же заседании Святейшего Синода (где я тогда был присутствующим членом) обратился к первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Владимиру с просьбою доложить Синоду составленный мною чин. Митрополит Владимир решительно отказался исполнить мою просьбу. Серьезных оснований к отказу митрополит не приводил, а лишь твердил: «Что скажут старообрядцы, если они узнают, что мы сокращаем богослужебные чины?» Не преуспев в Синоде, я, прибыв в Ставку, доложил государю о необходимости ввести однообразный богослужебный чин в военных церквах на поле брани и на военных кораблях. Государь внимательно выслушал мой доклад и поручил мне представить ему при докладной записке выработанный мною чин. На следующий день я получил обратно свой чин с надписью государя: «Одобряю. Николай». Копия докладной записки и чина с надписью государя тотчас была отправлена мною в Синод для сведения. Этим и кончилось дело. По составленному мною чину начали служить во всех походных и морских корабельных церквах.
Второй случай касался воссоединения во время Великой войны галицийских униатов, производившегося с благословения Святейшего Синода Волынским архиепископом Евлогием. Воссоединительно-униатское дело я хорошо изучил при написании своей магистерской диссертации о воссоединении белорусских униатов в
652
1833-1839 гг., и при первых же воссоединительных шагах архиепископа Евлогия, как уже отмечено мной выше, я убедился, что он повторяет все ошибки, допущенные белорусскими воссоединителями 80 лет тому назад, и что его «апостольские» труды будут в случае отступления наших войск оплачены расстрелами тысяч воссоединенных, которых австрийское правительство обвинит в измене, и позором для Российской Православной Церкви. Со мною были согласны Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, Галицийский генерал-губернатор и другие военачальники. Но поддерживаемый всесильным тогда архиепископом Антонием (Храповицким), В.К. Саблером (обер-прокурором Святейшего Синода), Святейшим Синодом и, кажется, императрицей Александрой Феодоровной, Евлогий продолжал свои воссоединения. С отступлением в мае 1915 г. наших войск из Галиции началась жестокая расправа австрийцев с воссоединившимися. Тогда утверждали, что до 40 тысяч воссоединенных было расстреляно или повешено, а еще большее число бежало в Россию, причинив много хлопот нашим властям. Когда летом 1916г. наши войска вновь продвинулись в Галицию, государь предложил мне заместить архиепископа Евлогия в Галиции. Хотя из моих докладов государь и знал мой взгляд на галицийское воссоединение, я испросил разрешения представить ему докладную записку, в которой я, изложив свой взгляд на катастрофически закончившееся Евлогиевское воссоединение, просил государя разрешить мне действовать по изложенной в записке системе. Между прочим, я просил. чтобы от меня не требовали до окончания войны никаких массовых воссоединений и чтобы Святейший Синод не навязывал мне своей программы. Записка вернулась ко мне с надписью государя: «Одобряю. Николай». Копию и этой записки я препроводил в Святейший Синод. Последний молча проглотил горькую пилюлю, ни единым словом не выразив мне своей обиды или неудовольствия. Но как первый мой поступок, так и этот второй в связи с независимостью, с которой я держал себя в Синоде, не могли расположить ко мне архиереев. До революции они вынуждены были сдерживать свои ко мне чувства, в эмиграции они не раз проявляли их.
Положение протопресвитера военного и морского духовенства и в мирное время было исключительным. Недаром многие архиереи домогались занять место протопресвитера. Во время же Великой войны, когда государь занял место Верховного главнокомандующего, оно стало еще исключительнее. Даже митрополиты представлялись царю не более одного-двух раз в год, а протопресвитер ежедневно виделся с ним, ежедневно завтракал и обедал за царским столом и, когда требовалось, мог иметь специальные доклады государю. И протопресвитерское место занимало лицо в иерейском сане. Трудно было архиереям примириться
653
с этим, а занимающему такое положение не возгордиться и не подпасть под осуждение с дьяволом (1 Тим. 3, 6).
Но, слава Богу, я избежал этого отвратительного греха. Смирение никогда не покидало меня. При встрече не только с каждым священником, мне уже подчиненном или искавшим попасть в мое ведомство, но и с дьяконом, и с псаломщиком меня осеняла прежде всего мысль: а может быть, он выше, чище, достойнее меня: благодаря целому ряду случайностей я вознесен и возвеличен, а его не баловало так служебное счастье: не будь у меня такой идеальной, самоотверженной матери, какою была моя покойная мать, я, может быть, с благословения своего двоюродного деда протоиерея Иасона Лукашевича, был бы сапожником, а не протопресвитером военного и морского духовенства. Соответствующим было и мое обращение с духовенством. Я употреблял все усилия, чтобы встречающиеся со мной священники, диаконы, псаломщики не чувствовали моего служебного превосходства. Если это не всегда удавалось, то не по моей вине. Строгий и беспощадный, когда приходилось встречаться со служебной ленью, распущенностью и в особенности с нечестностью, я никогда не карал невольных ошибок, промахов, преступлений, совершенных по неведению. И со всеми так обращался, чтобы они видели во мне не начальника, а собрата, друга, желающего помогать им в несении нелегкого бремени пастырского служения.
Думаю, что военное и морское духовенство поняло и оценило мое к нему отношение. Когда началась революция, забурлило во всех епархиях. Множество архиереев по приговору епархиальных съездов духовенства лишились своих кафедр. В июле 1918 г. в Ставке Верховного главнокомандующего в г. Могилеве в течение, кажется, 10 дней блестяще прошел съезд военного и морского духовенства, составленный из выборных представителей духовенства тылового и фронтового. Съезд сам поставил вопрос о протопресвитере и решительно, без всякого с моей стороны влияния избрал меня пожизненным протопресвитером военного и морского духовенства, о чем уведомил Святейший Синод и председателя Совета Министров. Это было большой для меня моральной наградой.
Оглядываясь назад, я сожалею об одном упущении в своем отношении к духовенству. Материальные ресурсы протопресвитера вполне позволяли ему проявлять широкое гостеприимство в отношении представлявшихся ему военных и морских священников. Приглашение приезжего провинциального священника к протопресвитерскому столу для приглашенного было бы очень лестным, а пригласившему давало бы возможность о многом осведомиться у приглашенного. И оно служило бы прекрасным средством для сближения начальника с его подчиненными. Кро-
654
ме того, это было бы ответом на гостеприимство священников при обозрениях протопресвитером воинских частей.
Должен отметить еще одну деталь в моем протопресвитерствовании. Мои предшественники не любили покидать Санкт-Петербург для обозревания расположенных в разных местах воинских частей и для ревизии провинциального духовенства. Рассказывали, что протопресвитер А.А. Желобовский († в мае 1910 г.) предпринял было поездку на Дальний Восток, но. переехав Урал, из вагона не выходил, никаких воинских частей не видел, священники представлялись ему в вагоне, и дальше Омска он не продвинулся. Протопресвитеру Е.П. Аквилонову († 30 марта 1911г.) тяжкая болезнь — саркома — не позволяла пускаться в ревизионные поездки. Между тем такие поездки были крайне необходимы. Посещая воинские части, встречаясь на местах с военными начальниками и духовенством, проверяя работу последнего, протопресвитер легче, чем сидя в своем кабинете или канцелярии, и правильнее мог оценить настроение и духовные нужды местных войск, соответствие или несоответствие священников своему назначению и сгладить недочеты там, где они замечались.
Ни в каком отношении не страдая авторским самолюбием и никогда не полагаясь только на свои знания и опыт, я во время своих ревизионных поездок с особенной внимательностью присматривался к деятельности лучших идейных, вдохновенных священников, стараясь в их практике и пастырских достижениях подметить что-либо новое, ценное, чтобы затем с этим ценным ознакомить все военное и морское духовенство. Таким путем я постепенно расширял собственный опыт и совершенствовал работу всего ведомства.
Будучи обязан присутствовать на всех высочайших парадах, я для своих поездок избирал те промежутки времени, когда государь со своей семьей находился в Крыму или в Спале. За три года до начала Великой войны я успел совершить множество поездок. Между прочим, я объехал Кавказ, Туркестан, Западную и Восточную Сибирь, посетил множество военных стоянок в Западной и Центральной России, во время поездок встретился почти со всеми подчиненными мне священниками. Я побывал на всех почти кораблях Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, что для моряков было совершенной диковинкой, так как раньше ни разу ни на одно военно-морское судно протопресвитерская нога не ступала. Посещения кораблей дали мне возможность ближе познакомиться с морскими начальниками и с условиями духовно-морской службы.
Правительство весьма сочувственно относилось к моим поездкам. Кроме того что я по своей должности имел право всегда пользоваться для поездок по железной дороге литерой первого класса, министр путей сообщения предоставил мне отдельное
655
купе первого класса, а Военное министерство ассигновало кредит в 5 тысяч рублей в год, которым я и сопровождавшие меня пользовались при поездках на большие расстояния. Для поездок по Сибири, Туркестану и Кавказу мне давался отдельный вагон.
Ревизионные мои поездки были достаточно утомительны, ибо они сопровождались постоянными богослужениями, произнесением проповедей и речей, беседами с военными начальниками и священниками, большим напряжением внимания. Но я с удовольствием вспоминаю о них, так как всегда замечал, что мои посещения не отягощали, а ободряли войска. В особенности это было заметно на окраинах, где раньше никогда не показывался протопресвитер. В особенности же радостно я был встречаем сибирскими войсками, духовенство которых во время Русско-японской войны подчинялось мне как главному священнику 1-й Маньчжурской армии. В некоторых местах, таких как Никольск Уссурийский и остров Русский близ Владивостока, мне оказывалось больше почестей, чем командующему войсками округа. Но не в этом было дело. Меня утешали эти поездки тем. что я во время них узнавал действительные духовные нужды посещенных мною войск, узнавал их духовных пастырей и в задушевной беседе мог делиться с ними своими взглядами и требованиями, а также расширять свой административный опыт, наблюдая работу лучших священников. Мои поездки, кроме всего этого, несомненно, способствовали сближению военных и морских священников с военно-морским начальством, а представителей последнего побуждали внимательнее относиться к содействию священникам в их пастырской деятельности.
По мере того как духовенство встречалось со мной и ближе знакомилось, между мною и ним устанавливались дружеские, сердечные отношения, которые облегчали мне управление ведомством, а их вдохновляли на ревностную работу.
С петербургским военно-морским духовенством, важничавшим и недостаточно служившим нуждам своих войск, у меня не наладилось до самого последнего времени желанных, вполне сердечных отношений. Может быть, я и сам был в этом отчасти повинен, когда на их холодность отвечал тоже холодностью и не переставал требовать от них более живого отношения к своему прямому долгу. Провинциальное духовенство восполняло этот болезненно переживавшийся мною недостаток: в его среде я чувствовал себя как в родной семье. И в этом отношении мои поездки давали мне большое удовлетворение.
Отмечу еще одну черту в своем управлении Ведомством военного и морского духовенства. Я никогда не забывал диктуемой многовековым опытом истины, что самый талантливый, усердный, трудолюбивый начальник не сможет с успехом вести пору-
656
ченное ему дело, если не будет иметь он добрых, надежных, способных помощников. Унаследованное мною от моих предшественников ведомство не блистало талантами. Протопресвитер А.А. Желобовский не заботился о привлечении в ведомство талантливых людей. У меня создалось впечатление, что он скорее чуждался талантов, чем тянулся к ним: талантливые люди бывают часто беспокойны, несговорчивы, а его главным желанием было «чтобы все было спокойно». Протопресвитерствовавший всего десять с небольшим месяцев Е.П. Аквилонов был занят своей смертельной болезнью, а не отыскиванием талантливых помощников. Протопресвитеру естественно было рассчитывать прежде всего на помощь многочисленного санкт-петербургского столичного духовенства (в Петербурге и его окрестностях имелось около 50 военных и морских священников). Но оно-то по своему усердию к службе, работоспособности и даже, пожалуй, по талантам стояло ниже провинциального, среди которого было немало усердных, добросовестных тружеников, с любовью служивших христолюбивому воинству. Я твердо решил обновить состав духовенства, усилить его, чтобы иметь во всех отраслях управления верных и сильных помощников. Когда я замечал на стороне талантливого священника или расположенного к принятию священства человека, я употреблял все усилия, чтобы втянуть его в свое ведомство. И мне удавалось это. Очень скоро в Петербурге у меня образовалась целая плеяда весьма одаренных, вдохновенных и усердных пастырей, ставших блестящими моими помощниками. В первую очередь я тут назову блестяще окончившего в 1910 г. курс Санкт-Петербургской духовной академии А.И. Боярского, блиставшего, кажется, всеми лучшими качествами ума и сердца. Широко образованный, разумный, энергичный, смелый, красноречивый и весьма работоспособный, он сразу стал незаменимым моим помощником. Взятый мною из учителей одной из санкт-петербургских гимназий, филолог по образованию А.И. Введенский сразу проявил себя добрым пастырем, пастырем по призванию, самоотверженным, не знавшим устали в пастырской работе и талантливейшим проповедником. Священник Г.С. Спасский приобрел громкую известность как проникновенный духовник и блестящий проповедник. В течение восьми лет законоучительствовавший в Санкт-Петербургском Смольном институте И.Ф. Егоров, кроме идеального отношения к своим пастырским обязанностям, оказался удивительным организатором бесед с детьми и специальных богослужений для них. Даже протоиерей В.Н. Грифцов, которого я в 1911 г. перевел из Батума в Петербург на должность настоятеля измайловского Троицкого собора, оказался, несмотря на все свои недостатки, драгоценным работником в ведомстве. У о. Грифцова не было и намека на тот лоск, на то изящество в одежде и обращении, которыми отличалось большинство петербургских столичных свя-
657
щенников. Не столицей, а деревней веяло от него. Белокурый, высокого роста, очень плотный, с прогнившими зубами, небрежно одетый, часто в заношенной рясе и подряснике, из-под рукавов и из-за ворота которых выглядывала грязная рубашка, или в экзотического цвета и покроя праздничном шелковом одеянии, он своим наружным видом и манерами часто выводил меня из терпения, и я тогда резко выражал ему свое неудовольствие. Он покорно и спокойно выслушивал мои порицания, которые ни в чем не изменяли положения. Он был типичным рязанцем: у многих рязанцев, как было замечено, небрежное отношение к своему внешнему виду и манерам являлось характерной чертой. Несмотря на такие недостатки о. Грифцова, я очень ценил его за честность, прямолинейность, неподкупность, несомненную преданность мне и большую практичность, которой я не всегда отличался. В провинции я подметил немало священников, сразу оценивших мои благие намерения и откликнувшихся на мой призыв освежить и усилить пастырскую работу в войсках. То и другое окрыляло меня надеждою, что общими усилиями — моими и моих лучших помощников — нам удастся возродить запущенное наше ведомство. После трехлетнего моего пребывания в должности протопресвитера для всех стало очевидным, что ведомство совершенно изменилось к лучшему как в отношении пастырской работы военных и морских священников, так и в отношениях к этим священникам начальства и сослуживцев. Энергичная и доблестная пастырская работа во время Великой войны еще более подняла престиж ведомства. За время войны расширился и мой протопресвитерский кругозор: я почувствовал большой недочет ведомства, что в нем не было собственной специальной военно-морской духовной семинарии, в которой преподавание и воспитание шли бы применительно к особым духовным нуждам армии и флота, и решил во что бы то ни стало открыть свою духовную семинарию: я также решил обзавестись собственной типографией и начать собственное книгоиздательство: собравши значительную сумму, я приобрел участок земли в Тверской губернии, около нашего ведомства свечного завода, и начал постройку инвалидного дома для раненых и увечных воинов и разных мастерских при нем. как и поселка для вышедших в отставку военно-морских священников и других. Материальная возможность осуществления всех этих и других начинаний была у меня совершенно обеспечена. Но в январе 1918 г. ведомство было упразднено, все его имущество и капиталы конфискованы. Все мои планы рушились: скоро и сам я был выброшен за борт российской жизни...
658
Заключение.
Слава Богу за все!
Оглядываясь на прожитую длинную жизнь, вспоминая пережитое — и доброе, и худое, и радостное, и печальное, — я всякий раз повторяю слова великого Златоуста: «Слава Богу за все!» Как не благодарить мне Бога, что Он меня, дьячковского сына, которого могла ожидать участь деревенского сапожника, вознес в старой России на высоту, о какой не могли мечтать ни мои отцы, ни мои деды и прадеды. Благодаря занятому мною положению я смог увидеть все концы России, познакомиться со всеми слоями русского общества, в широком масштабе послужить своей Родине.
Жизнь должна быть постоянным движением вперед, постоянным совершенствованием ее содержания, ее форм. Эту истину я всегда исповедовал и старался осуществить ее. На всех местах, во всех должностях, какие приходилось мне занимать, я не удовлетворялся традицией, шаблоном и даже законом, если он не служил на пользу дела, и всегда стремился внести в работу, в жизнь ведомства нечто новое, лучшее, отвечающее действительным нуждам и запросам. Преследуя эту цель, я нередко нарушал закон, что моим недоброжелателям давало повод укорять меня, а моим друзьям — опасаться, как бы я за это не подвергся строгой ответственности. Теперь я с особым удовлетворением вспоминаю те случаи, когда мне приходилось не считаться с законом, ибо не жизнь для закона, а закон для жизни.
За семь лет управления ведомством мне удалось многое сделать, изменив до неузнаваемости всю его жизнь, начиная от управления ведомством, кончая пастырской работой военных и морских священников. Господь, видимо, благословлял мои начинания и труды. Не обходилось, конечно, дело и без некоторых огорчений, противодействия со стороны противников, подвохов, интриг, затруднявших работу, сопровождавшихся волнениями, бессонными ночами. В скорбные минуты я всегда вспоминал золотые слова великого апостола Павла: «Любящим Бога все содействует ко благу» (Рим, 8, 28), — и ими утешался, уверовав, что в скорбях есть своего рода благо, ибо они заставляют человека подтягиваться, серьезнее относится к своему настроению, к своим намерениям и действиям, в известном роде обновляться духом. Слова апостола Павла не раз ободряли меня и в дни моего беженства, когда разного рода неприятности постигали меня. А без них не протекала тут моя жизнь.
Другой на моем месте считал бы великим для себе несчастием, что он после высокого положения в России превратился в рядового священника, да и не в российском, а в болгарском клире. Меня эта деградация не смущала и не смущает: не все ли равно, в каком чине и положении служить, воспевая Господу. Мне часто
659
приходит на ум мысль, что я согласился бы закончить свою службу Господу тем, с чего началась она: должностью псаломщика в каком-либо сельском приходе, непременно русском, если бы нашелся такой приход, где беспечально и безболезненно я мог бы закончить дни свои.
Ограниченность материальных средств по сравнению с теми, какими я располагал в России, также нимало не смущала меня. Слава Богу, барские привычки не привились ко мне: я могу беспечально обходиться самым малым и простым. Зарабатывавшиеся же мною в беженстве средства позволяли мне не только удовлетворять неотложные, насущные нужды, но и иногда не отказывать себе в некоторой роскоши. Без копейки я никогда не оставался.
Ощутительнее бывали душевные передряги. Давал о себе знать митрополит Антоний из Карловцев, не могший забыть моих выпадов против него в России; не доставляли мне удовольствия недоразумения с епископом Серафимом в Софии, заставившие меня расстаться с Русскою Церковью в Софии и перейти на службу в болгарский клир: интриги архимандрита Евфимия и профессора Поснова помешали мне стать редовным профессором и заставили пережить немало неприятных минут и многое другое. Откровенно скажу, что очень тяжело было мне привыкнуть к болгарским службам Страстной седмицы, к их восточным напевам и ко многим их порядкам. Но на все это я в конце концов смотрел как на незначительные мелочи по сравнению с теми страданиями, какие переносили мои духовные дети — российские христолюбивые воины на поле брани, и с теми лишениями, невзгодами, страданиями, каким подвергаются они в изгнании. «Было бы неестественно, несправедливо, — рассуждал я, — если бы я только благоденствовал, когда страдают мои духовные чада». Эта мысль всегда ободряла и утешала меня.
В заключение скажу несколько слов об отношении ко мне Стефана, с марта 1922 г. митрополита Софийского, а в январе 1945 г. ставшего и экзархом Болгарским.
Когда в 1920 г. я уезжал из России, я предполагал поселиться в Белграде, где надеялся найти добрый прием у хорошо знавшего меня по Петербургу и с большой симпатией относившегося ко мне сербского короля Александра. Сербский посланник в Константинополе укрепил меня в этой мысли, заверив, что у короля Александра я буду принят как дорогой гость.
На пути в Сербию я остановился в Софии, чтобы познакомиться с состоянием тут беженского церковного дела. Моя встреча со Стефаном, тогда в сане архимандрита занимавшим должность протосинкелла Священного Синода, изменила мой маршрут: он встретил меня как родного, хотя мы с ним виделись впервые, и убедил меня остаться в Болгарии, где в то время Свя-
660
щенным Синодом решено было открыть Высшее богословское училище. По его настоянию Священный Синод назначил меня ординарным профессором этого училища по кафедре пастырского богословия с окладом 3 тысячи левов в месяц. Этим окладом я пользовался с июля по декабрь 1920 г., пока мысль об открытии Высшего богословское училища не была оставлена, а вместо него появился богословский факультет.
Отношение митрополита, а потом экзарха Стефана ко мне остается сердечнейшим до настоящего времени. Кажется, я единственный из духовных лиц, который за все 30 лет ни разу не слышал от митрополита Стефана ни одного резкого слова, не видел ни одного обидного жеста, чем не мог похвастаться ни один из его сослуживцев, не только архимандритов, но и митрополитов. Я объясняю это целым рядом причин: его уважением к моему российскому прошлому, его личной симпатией ко мне, его преувеличенным представлением о моих способностях и богословских познаниях, которые он старался использовать, наконец, отсутствием в софийском клире другого лица, которое в письменных для него работах могло бы заменить меня.
Благосклонное отношение митрополита Стефана ко мне выражалось в постоянном ласковом обращении со мной, в приглашениях меня на все торжественные богослужения и званые обеды, в поездки с ним в монастыри, особенно в Кладнишский, где мы проживали по 3-4 дня. Объяснялось оно не только несомненной его симпатией ко мне, но и некоторыми практическими соображениями. Другие более, чем я сам, замечали это, и не один митрополит упрекал меня, что я позволяю митрополиту Стефану пользоваться произведениями моего пера, Может быть, они и были правы. Митрополит Стефан — сложная фигура. В его душе уживаются самые разнообразные качества.
При несомненной его талантливости, выражающейся в чрезвычайно быстрой сообразительности, остроумии, находчивости, большом даре красноречия, его нельзя было признать хорошим администратором. Уже тот факт, что решительно все занимавшие при нем высшие епархиальные должности протосинкеллов и викариев, сделавшись митрополитами, становились его противниками, а некоторые — открытыми, непримиримыми врагами, подтверждает, что митрополит Стефан как администратор не смог заслужить у них уважения. Самая видная в Болгарии его епархия, располагавшая большими, чем другие епархии, возможностями, не проявляла той жизни, какая требовалась от нее. Митрополит Стефан — большой любитель церковности, он даже при сильной болезненности не пропускал богослужений и выстаивал длинные церковные службы, отбивая, когда нужно и когда не нужно, поклоны, вздыхая и воздевая
661
глаза к небу. Но немного надо было иметь наблюдательности, чтобы заметить, что ему сильно недостает истинной духовности, приличествующей лицам высокого духовного чина. Сердце у митрополита Стефана очень доброе — он никому не может отказать в просьбе, часто обещает гораздо больше, чем он может сделать, и весьма часто не исполняет обещанного. Умеющий бывать чрезвычайно внимательным, ласковым, очаровательным, митрополит Стефан бывает иногда резким, грубым, а после излишне выпитого стакана вина, что раньше нередко случалось, — даже несносным.
Отличительной чертой характера митрополита Стефана, если не сказать главным его недостатком, является огромное честолюбие. Казалось бы, оно было удовлетворено, когда епископ Стефан в силе и расцвете лет стал столичным митрополитом, но он сразу же начал мечтать об экзаршей кафедре. До вступления советских войск в Болгарию, когда он был не в фаворе и поэтому не мог надеяться, что его именно проведут в экзархи, он упорно доказывал, что во время войны не время толковать о восстановлении Болгарской экзархии. Когда же советские войска водворились в Болгарии и митрополит Стефан, сдружившись с русскими военачальниками и заместителем Московского Патриарха митрополитом Алексием, вошел в силу, он так ловко повел дело, что экзархия была восстановлена и он почти единогласно (кроме одного голоса) был избран экзархом. Но и экзаршеская кафедра не удовлетворила митрополита Стефана. Он сразу же настойчиво стал добиваться восстановления древней Болгарской Патриархии. И уже почти добился этого: Московский и Вселенский Патриархи дали свое согласие. Московский Патриарх уже собирался в Софию на патриаршую интронизацию. Развившиеся у митрополита Стефана одновременно с его серьезной болезнью нервность, раздражительность и резкость испортили все налаженное, казалось бы, дело. Произошло скандальное заседание Священного Синода 6 сентября 1948 г., на котором после крайне резких пререканий с митрополитами, в особенности с Паисием Врачанским, экзарх Стефан заявил, что он не желает больше председательствовать в таком собрании и отказывается от экзаршей кафедры, и затем демонстративно покинул зал заседания. В тот же день он свой отказ подтвердил Синоду письменно. 8 сентября Синод принял отставку экзарха и заместителем его избрал Русенского митрополита Михаила. Чуть ли не в тот же день правительство согласилось с решением Синода.
Из совершенно достоверного источника я узнал подоплеку описанных событий. Самым заядлым врагом экзарха Стефана в то время был министр исповеданий Илиев, ранее занимавший пост болгарского посла в Стокгольме и удаленный оттуда
662
после какой-то скандальной истории. Почему-то он считал экзарха Стефана виновником своего удаления из Стокгольма. Теперь у него созрел коварный план. Узнав о бурном заседании 6 сентября, он тотчас явился к экзарху, чтобы выразить ему свое сочувствие. Илиев знал натуру Экзарха: последний забыл, что Илиев — его заклятый враг, и, растроганный его сочувствием, принялся оказывать ему знаки особенного экзаршего внимания. Экзарх и Илиев в экзаршем автомобиле пред ужином отправились на загородную прогулку. Прогулка продолжалась около двух часов, во время которых Илиеву удалось убедить экзарха, что он свой отказ Синоду должен подтвердить письменно, поскольку правительство ни в коем случае не согласится с его уходом с экзаршего поста и Синод окажется в неприятнейшем положении. Экзарх после этого письменно заявил Синоду, что он не считает возможным оставаться на экзаршей кафедре.
Письменный отказ экзарха давал возможность Синоду быстро и с меньшим шумом разрешить острый вопрос. Илиев же, убедив экзарха подать заявление об отказе, постарался убедить членов Синода немедленно принять отказ, заверив их, что правительство согласится с их решением.
Подумав, экзарх понял свою ошибку и 7 сентября потребовал, чтобы Синод вернул ему письмо для снятия копии. Синод вместо письма прислал ему копию. 8 сентября Синод освободил митрополита Стефана не только от экзаршей кафедры, но и от кафедры Софийского митрополита, на которой митрополит Стефан считал себя несменяемым. Правительство, кажется, в тот же день по докладу Илиева согласилось с решением Синода. Горчайшая пилюля была подслащена назначением уволенному экзарху ежемесячного пособия в 60 тысяч левов, которое, конечно, во всякий момент может быть прекращено. Но тут же была поднесена экзарху и другая горькая пилюля: ему было определено жительство в с. Бане Карловском в небольшом уединенном домике, в полутора километрах от местной церкви, где он под достаточным надзором пребывает и доныне. Чуть ли не единственным для него утешением служит посещение по воскресным и праздничным дням приходской церкви, где он усердно воспевает на клиросе и часто проповедует, упражняясь, как он сам говорит, в смирении и терпении.
В одном отношении повезло бывшему экзарху. В Софии он страдал от различных болезней. Врачи ежедневно посещали его, чуть ли не каждую неделю собирались консилиумы врачей. В ноябре 1948 г. один из постоянных его врачей уверял меня, что экзарху осталось жить на этом свете не более двух месяцев. Теперь же бывший экзарх живет без услуг врачей и, как рассказывают его сродники, превосходно чувствует себя.
663
По слухам, митрополит Стефан продолжает верить, что ему еще придется возглавлять Болгарскую Церковь. По тем же слухам, Патриарх Алексий, отношения которого с цареградским патриархом стали отвратительными, желает возвращения митрополита Стефана, которого он считает сильным и верным своим единомышленником, на экзаршескую Болгарскую кафедру. Говорят, что болгарское правительство уже посылало к митрополиту Стефану весьма солидную делегацию для каких-то переговоров с ним. Говорят еще, что митрополит Стефан совсем не склонен в данный момент принимать в свои руки кормило правления Болгарской Церковью.
Я уже сказал, что моему сближению е митрополитом Стефаном весьма способствовали мои литературные работы. К сожалению. честолюбие митрополита Стефана не имело границ. Ему мало было того, что он занимал столичную в Болгарии кафедру, что слава о нем как о знаменитом митрополите, великом ораторе гремела, можно сказать, во всей Европе. Ему еще хотелось литературной славы. А так как для литературных занятий у него не хватало ни времени, ни нужных дарований и знаний, то он решил соградить себе памятник литературный чужими руками, поручая разным лицам писать для него статьи, выходившие затем за его подписью. Болгарские духовные журналы пестрели самыми разнообразными статьями митрополита Стефана, различными по стилю, иногда крайне неблагополучными по содержанию, доказывавшими иногда, что митрополит Стефан подписывает статьи, не прочитывая их. Собственно, все эти статьи давали повод к разным поношениям в адрес номинального их автора, ибо все в Софии знали, что перо митрополита Стефана не участвовало в появлении их на Божий свет.
Но митрополит Стефан продолжал думать, что «своими» статьями он воздвигает себе великий памятник. Однако скоро ему захотелось большего, захотелось выступить в литературе с более солидными, чем журнальные статьи, трудами. Как на исполнителе он остановился на большом русофиле и светски образованном человеке, но великом фантазере и мало сведущем в богословии Косте Георгиеве (Моховом), поручив ему написать богословскую книгу. Георгиев не нашел ничего лучшего, как перевел изданную одним русским беженцем в Сербии на русском языке небезынтересную, но грубо скомпилированную брошюру. Стефан подписался под переводом, и скоро появился в продаже новый труд митрополита Стефана, а вслед за ним составленная врагами митрополита Стефана во главе с профессором архимандритом Евфимием брошюра «Высокопреосвященный плагиат», в которой резко и грубо было разъяснено плагиатство автора болгарской брошюры.
664
Но этим дело не ограничилось. Скоро в Софию прибыл автор русской брошюры, очень нахальный и резкий человек. Явившись ко мне, он начат поносить «обворовавшего его» митрополита Стефана, угрожая последнему судом. «Митрополиту Стефану нетрудно будет доказать, что и ваша брошюрка является плагиатом, только заимствованным не у одного, а у нескольких авторов. Выйдет, что вор у вора дубинку украл. Всякий же ваш резкий выпад против митрополита Стефана возмутит всю нашу эмиграцию в Болгарии, для которой он является постоянным и часто единственным заступником», — не стесняясь в выражениях, сказал я нахальному автору пострадавшей брошюры. Ушел он от меня обиженным. На следующий день он обедал у митрополита Стефана. Расстались они друзьями. По всей вероятности, митрополит Стефан откупился левами, что совершенно удовлетворило «обворованного» автора.
Обжегшись на Косте Георгиеве, митрополит Стефан привлек к сотрудничеству меня. На первый раз он попросил меня написать для него пастырское послание к духовенству Софийской епархии о сущности пастырства. Вскоре за подписью митрополита Стефана вышло в печати это послание в виде книжки (113 стр.). За свой труд я был вознагражден митрополитом Стефаном 5 тысячами левов и роскошным, на веленевой бумаге, в кожаном переплете экземпляром послания с трогательною надписью митрополита.
Послание вызвало, с одной стороны, восторженные отзывы. Между прочим, говорилось, что оно должно заменить в семинариях мертвый учебник по пастырскому богословию. Противники же митрополита Стефана, в особенности профессор архимандрит Евфимий, митрополит Михаил и другие, обвиняли его в пользовании чужими трудами, а меня — что я позволяю митрополиту Стефану присваивать себе произведения моего пера. Я отвечал им, что свои архипастырские послания совсем необязательно составляет сам архипастырь.
Вскоре митрополит Стефан обратился ко мне с новой просьбой: составить второе архипастырское послание — о практической стороне пастырства, пообещав вознаградить мой труд. Скоро я представил ему рукопись, по размерам приблизительно равную первой. К моему удивлению, она стала появляться не в виде архипастырского послания к софийскому духовенству, а отдельными статьями в журнальчике «Духовная культура». Митрополичьи статьи в синодальных изданиях оплачивались щедрее, чем статьи обыкновенных авторов. Я надеялся, что митрополит Стефан выделит мне часть своего гонорара, и был очень удивлен, когда он мне сказал, что весь гонорар он отдал переводчику моей рукописи синодальному чиновнику Борису Стоименову. За свой немалый труд я не получил ни одного лева... Никаких претензий
665
по этому поводу я, конечно, не заявлял, а предложил митрополиту Стефану во избежание нареканий и на него, и на меня (на него — что он присваивает себе мои труды, а на меня — что я позволяю ему мои произведения выдавать за свои) впредь выпускать наши книжки за его и моей подписями. Он согласился, После этого одна за другой...*
____________________
*На этом текст обрывается.
Примечания автора
1 Тесло — специальный инструмент вроде топора для выдалбливания корыта.
2 Возможно, я ошибаюсь: Ф.И. Покровского сначала назначили в Псковскую семинарию, а не в Рижскую.
3 Петрушка — игрушка, фигурка человечка, при подергивании нитки неистово двигающая руками и ногами.
4 Тут надо упомянуть еще об одном деле архимандрита Паисия. Рядом с семинарией стоял величественный, просторный, чрезвычайно внутри красивый, с удивительным резонансом Успенский собор. Он был бесприходным и настолько бедным, что не мог иметь хора: на совершавшихся в нем богослужениях пели два неголосистых псаломщика. Архимандрит Паисий распорядился, чтобы от Пасхи до наступления холодов семинаристы ходили к богослужениям в этот собор, отчего дело во всех отношени5гх выигрывало: наш хор величественно звучал в соборе и привлекал массу богомольцев, а семинаристам было приятнее молиться в этом соборе, чем в маленькой, с низким потолком, летом душной церкви. Но при последующих ректорах распоряжение архимандрита Паисия было забыто.
5 Дьякона при семинарской церкви не было. Иногда приглашался дьякон Успенского собора.
6 «Два только таперича у меня удовольствия в жизни осталось: поесть и попить хорошенько, да церковное пение еще люблю», — рассуждает Клопов в произведении Писемского «Люди сороковых годов». Т. 5. С. 586. (Приложение к журналу «Нива» за 1911 г.)
7 См. о нем в моей книге «Православное пастырство». София, 1930. С. 248-255.
8 Курс семинарии кончали не моложе 20 лет: для поступления в духовное училище надо было иметь 10 лет, потом 4 года ученья в духовном училище и 6 лет в семинарии при самом благополучном прохождении курсов.
9 Володя Эрдман был своего рода знаменитостью: в разрядных списках неизменно занимал он последнее место, почти в каждом классе просиживал два года, курс семинарии кончал 28-летним мужем. Разные семинарские богословия ему надоели, и он в последних классах занялся пиротехникой, легче дававшейся ему, чем разные семинарские предметы. Семинаристы всех классов делали ему заказы на фейерверки и бенгаль-
666
ские огни для пасхальной ночи 1890 г. Завтра роспуск на пасхальные каникулы. Отправляясь в семинарию, Володя захватывает мешок с исполненными заказами и предвкушает сладость предстоящего барыша. До семинарии от родительского дома Володи далеко, а на дворе слякоть, валит снег. Пока Володя добирался до семинарии, его заказы сильно промокли. Чтобы подсушить их, Володя, придя в семинарию, положил их в трубу только что вытопленной классной печки. Первый урок прошел благополучно. Второй урок был «нашего генерала» М.И. Лебедева. Только он начал обменять задаваемый урок, как дверца в трубу раскрылась и оттуда с шумом и треском полетели клубы огня и дыма. Класс наполнился удушливым газом. Урок прекратился. На перемене всем классом велено было собраться в круглом зале. Собрались ученики, пришел инспектор со своими помощниками и бывшие в семинарии преподаватели. Явился ректор И.Х. Пичета. Окинув строгим взглядом учеников, он крикнул: «Пиротехник! Иди сюда!» Побледневший Володя вышел на средину зала. Начался разнос: «Не учишься, двойки получаешь, в каждом классе по два года сидишь, а пиротехникой задумал заниматься!» И так далее. Володя стоически выслушивал ректорские обличения. Не огорчила его и тройка по поведению, поставленная ему за пиротехническое искусство. Более всего удручал его понесенный убыток. А он рассчитывал на хороший барыш, и у него уже был готов план, как использовать этот барыш.
10 Михаил Троицкий и по возрасту, и по семинарии на один год моложе меня. Довольно способный. Еленевские и я не любили его.
11 По ведомостям 1891 г., в Хвошнянском приходе числилось 5550 душ обоего пола. В других приходах с гораздо меньшим населением случалось, что некоторые деревни отстояли от своей приходской церкви в 20 верстах. В Хвошнянском приходе было 96 деревень и не было ни одной дальше 9 верст от церкви. Конечно, это очень облегчало возможность одному священнику удовлетворять религиозные нужды столь многолюдного прихода.
12 Другими словами, наружно благочестив, а приглядевшись, чего только у него не увидишь.
13 Мне рассказывали забавный случай из пастырской пр«1ктики протоиерея Григоровича. В то время в Белоруссии можно было наблюдать оригинальное явление, остаток униатских нравов: во все посты, в среды и пятницы крестьяне строго постились, священники же соблюдали только Рождественский и Великий посты, а в остальные постные дни ели что случалось. Крестьяне знали это и считали нормальным. Однажды о. Григорович был приглашен в деревню к освящению нового дома. Шел Петровский пост. Накануне освящения предусмотрительная хозяйка посетила протоиерейскую кухарку, чтоб узнать, чем и как угощать протоиерея. На следующий день состоялось освящение дома. За освящением. как и полагалось, следовал обед. Огромного стола не хватило для собравшихся на торжество. Всем гостям были предложены постные блюда и только протоиерею — жареная курица. «Что ты! Что ты, хозяюшка! Разве не знаешь, что теперь пост!» — запротестовал о. Григорович. «Я же,
667
о. протоиерей, вчера была у вашей кухарки, спрашивала: ест ли о. протоиерей в этот пост скоромное? Она мне ответила; «Давай что хочешь, все ест», —- оправдывалась хозяйка.
14 Село Усмынь отстояло от села Хвошно в 100 километрах, а от села Дубокрай — в 80 километрах по проселочной дороге.
15 В имении Усвяты числилось 65 тысяч десятин земли.
16 В Усмыньском лесу водилось много лосей, как и всякого иного зверья и птиц.
17 Блестяще окончивший в 1898 г. курс Санкт-Петербургской духовной академии, Иван Павлович Щербов был назначен преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии и пользовался затем большим уважением в духовной среде.
18 Мой месячный бюджет (жалованье 9 рублей 44 копейки) с денежными и натурой доходами приближался к 30 рублям. Народный же учитель получал жалованья 12 рублей 50 копеек в месяц и квартиру с прислугой, отоплением и освещением. Суханов еще получал от волости некоторое количество зерна, которое давало ему еще рублей 20 в год. Бывали также приношения от родителей учеников в виде кур. кусков мяса и сала. Но такие приношения были незначительны и не могли существенно улучшить учительский бюджет.
19 В сентябре 1892 г. с ним был забавный случай. Прибывают в училище ученики. Некоторые из родителей приносят учителю гостинцы. Мать одного из новичков принесла кусок говядины: «Ты ж, Игнатьич, приглядывай за моим сыном. Не убег бы, он у меня дюже шустрый». Приняв дарение, Шанько передал училищной кухарке, чтобы та в леднике сохранила его. Прошло минут сорок, как взволнованный, раскрасневшийся Шанько вбежал ко мне: «Скандал! Скандал! Ужасная неприятность!» «Что случилось?» — спросил я. «Да баба эта, что принесла мясо. Не успела она и версты отойти, как мальчишка догнал ее. Вот негодяй! Говорит, что не хочет учиться и что никто не заставит его оставаться в школе. Баба берет его и теперь требует обратно мясо. Ужасно неприятно!» Я расхохотался: «Что же тебе неприятно: что мальчишка уходит или мясо отдавать жаль?» — «Ну их — и мальчишку, и мясо! Случай неприятный!» «Плюнь, Семен Игнатьич, на это! Прикажи кухарке передать бабе мясо. Тут и будет конец делу», — посоветовал я.
20 Усмыньский храм построен помещиком Гернгрюссом, насколько мне помнится, в 1787 г. По внешности и размерам он был копией санкт-петербургского Сергиевского всей артиллерии собора на Литейном проспекте. Построенный на горке, около озера, окруженный рощей, он производил огромное впечатление.
21 Оригинальнейший из священников, которых я встречал в своей жизни. Маленький и худенький, с большой лысиной и кроткой черной косичкой, с большой черной бородой, живой и вертлявый, неугомонный и резкий — таков был о. Лев Лызлов. Пастырским делом он занимался гораздо меньше, чем физикой, и всех уверял, что он добьется того, что изобретет perpetuum mobile. К сказанному надо добавить, что это был неугомонный
668
сутяга, с кем только не судившийся; и с архиереями, и с консисторией, и с благочинным, и с губернаторами, и с прочими. Язык его был очень остер. Рассказывали такой случай. Известный Нам Дмитрий Евменович Лавровский, будучи городокским исправником, приехал в с. Вышедки и пожелал побывать на уроках в тамошнем народном училище. Шел урок о. Льва по Закону Божиему. Прослушав урок. Лавровский обратился к ученикам с речью: «Хорошо, дети, учитесь, хорошо отвечали. Учитесь! Окончите эту школу и можете, теперь дано право, поступить в духовное училище, потом в семинарию. Окончивши же семинарию, можете стать священниками...» Тут о. Лев прервал Лавровского: «Дети! Зачем вам столько — 4 года в духовном училище, 6 лет в семинарии — учиться, чтоб стать священниками? Кончите эту начальную школу, и каждый из вас может стать исправником». Исправник пробкой вылетел из класса, поняв намек на его скудное (3 класса духовного училища) образование.
22 31 мая 1895 г. выпавший сильнейший (размером с яйцо) град уничтожил в приходе все посевы и даже всю траву, перебил массу домашних птиц, повыбил все стекла в домах. Пострадали даже стада овец. Бедрицкие прихожане после этого еще более обеднели.
23 К.А. Трещинская была бездетной вдовой. У А.А. Левиковой была дочь Мария, чудная молоденькая девушка, только что окончившая курс гимназии и жившая при матери, и три сына — Андрей, Антон и Владимир, служившие офицерами: один юристом, другие два артиллеристами.
24 Случаются замечательные совпадения. Помышляя о священстве, я однажды в Усмыни взял книжку-список священнических мест Полоцкой епархии и раскрыл ее наугад: какое место откроется, то и достанется мне. Открылось село Азарково.
25 Споловщиками назывались обрабатывавшие чужую землю за половину урожая.
26 Раньше на месте священнической усадьбы стоял монастырь ксендзов-пиаров. В Азаркове меня уверяли, что эти липы, как и старые фруктовые деревья, были насажены ксендзами.
27 Семен скончался 25 июня 1931 г. в Велиже. где служил в больнице врачом.
28 Санкт-Петербургский митрополичий хор состоял из 105 человек — 45 теноров и басов и 60 мальчиков, монашеский — из 60 монахов с отборными голосами.
29 Попов, Плотников и я оставались друзьями в течение всего академического курса. Но с Талоном у нас не могли никак наладиться отношения. Это был талантливый демагог, но нетерпимый ни в общежитии, ни в обществе человек, эгоист, нахал, беспринципный субъект, способный на какую угодно гадость. Занявшись политикой, он скоро отстал от нас и окончил курс академии на год позже, в 1903 г. Известен конец его авантюр: своими бывшими сообщниками-революционерами он был повешен. М.С. Попов потом служил в Военно-духовном ведомстве и был моим подчиненным; позже он стал живоцерковником и скончался в сане живо-церковского архиепископа. В.В. Плотников по окончании академии зако-
669
ноучительствовал в Санкт-Петербурге в Павловском женском институте, потом принял монашество и после многих испытаний скончался в сане архиепископа.
30 Н.Н. Глубоковский родился 6 декабря 1863 г. Ему тогда, значит, было 35 лет.
31 Серафим Мещеряков, о котором говорилось выше. В 1911 г. он стал Иркутским архиепископом, в 1916 г. был заточен в монастырь за скандальную историю с игуменией Ниной. Потом он перешел в живоцерковство и был живоцерковским митрополитом.
32 Журналы Совета Московской духовной академии за 1889 г. Москва. 1890.
33 Витебский Иоанно-Богословский приход был малолюдным, причем большая часть прихожан — крестьяне соседних с городом деревень. Доходы причта, состоявшего из священника и псаломщика, от требоисправлений были незначительны. Но в городе и его окрестностях имелось 180 десятин церковной земли с двумя кирпичными заводами на ней. Эта земля давала причту до 7 тысяч рублей в год.
34 Священников-студентов в нашей академии тогда было 16 человек. Кроме них еще были священники-вольнослушатели, но они жили на квартирах и служили в других церквах.
35 Стрельна — пригород Петербурга. Там было имение великого князя Дмитрия Константиновича.
36 У великого князя Дмитрия Константиновича в Стрельне была знаменитая конюшня. Его рысаки славились в России. У меня захватывало дух, когда я мчался на великокняжеском рысаке. Путь от вокзала до Манежа рысак наш пробегал за семь минут.
37 Последнее блестящее выступление В.В. Болотова состоялось на первой неделе Великого поста 1900 г. на заседании Академического совета, рассматривавшего представленную профессором А.А. Бронзовым диссертацию на соискание докторской степени. Уже больной В.В. Болотов в трехчасовой речи обрушился на бездарного профессора со всей силой своего блестящего ума. После его речи совет не решился дать Бронзову искомую степень и только после смерти Болотова под сильным давлением протежировавшего Бронзову Н.В. Покровского присудил докторскую степень.
38 Большой заслугой А.И. Бриллиантова стало издание под его руководством лекций В.В. Болотова. Хотя эти лекции являются студенческими записями, но они просматривались В.В. Болотовым, а при издании были проверены А.И. Бриллиантовым.
39 Куоккала — дачная местность по Финляндской железной дороге, в 40 верстах от Петербурга.
40 Не могу умолчать о некоторых академических событиях 1898-1900 учебных годов. Осенью 1898 г. ректор епископ Иоанн постриг в монахи исполнявшего должность доцента академии по кафедре Библейской истории Василия Дмитриевича Быстрова, первым студентом окончившего курс Санкт-Петербургской духовной академии в 1896 г. Постриженному было дано имя Феофан. Постриженик только в третий раз явился к по-
670
стригу, дважды из страха пред величием предстоявшего ему подвига не являлся, что возмутило невозмутимого епископа Иоанна, Тут сказались нерешительный характер и негодность для практической жизни молодого монаха. Но скоро его поставили на очень ответственное место, где требуются и твердость, и решительность.
Осенью 1899 г. ректором епископом Борисом был пострижен в монашество студент 4-го курса Стефан Твердынский, новгородец. Чрезвычайно талантливый, прекрасный товарищ, Твердынский страдал страшным пороком — он был алкоголиком, безобразнейшим в пьяном виде. После одного из запоев он решил принять монашество. Отправился к ректору. «Вам сколько лет?» — спросил ректор. «24 года», — ответил Твердынский. «Молоды еще вы, господин Твердынский, не успели вы еще испытать себя, в силах ли вы понести этот тяжелый подвиг и устоять против искушений, ожидающих вас на пути этого подвига?» — спросил далее осторожный, сам испытавший тяготы монашеской жизни епископ Борис. «А какие особые искушения могут ожидать меня?» — удивился Твердынский. «Разные, господин Твердынский. И прежде всего женщины». «Этого я, Ваше Преосвященство, не боюсь. Какая женщина может обратить внимание на такую рожу, как моя?» — улыбаясь, сказал Твердынский. «Очень ошибаетесь вы, господин Твердынский. Пока вы светский, может быть, на вас женщины и не обращают никакого внимания, а станете монахом, отбою не будет», — возразил благоразумный ректор. Твердынскому, по-видимому, не пришлось побеждать это искушение, так как после пострига он еще сильнее запил и вскоре по окончании академического курса бесславно погиб. Но что монахов упорнейше атакуют женщины, совсем не считаясь с красотой или безобразным их видом, это несомненный факт с какой-то дьявольской основой.
В 1899 г. исполняющий должность доцента академии по кафедре греческого языка Михаил Иванович Орлов (выпускник Санкт-Петербургской академии 1889 г.) защищал магистерскую диссертацию о католическом служебнике. Официальными оппонентами были ординарный профессор В.В. Болотов и экстраординарный профессор А.А. Бронзов. Первым возражал Бронзов. Он начал с того, что диссертация не удовлетворила его своим размером — в ней и 200 страниц нет. А затем придрался к нескольким мелочам. В.В. Болотов, заметно нервничавший во время возражений Бронзова, начал свои речь таким образом: «Многоуважаемый о. Михаил Иванович! Горячо приветствую ваш ученый труд. Ваша диссертация не для невежд, а для настоящих ученых. В сравнительно немногих словах вы сказали многое новое и весьма ценное для науки...» И так далее. Впечатление этих слов было колоссальное. По окончании диспута магистранта горячо приветствовали, а Бронзов вышел из зала оплеванным.
41 Суворовская церковь была построена А.В. Суворовым во время опалы в его имении, селе Кончанском Боровичского уезда Новгородской губернии. в конце XVIII столетия. В 1900 г. чествовался столетний юбилей со дня его кончины. Генерал Сухотин, великий почитатель гения Суворова, перенес эту маленькую, успевшую почти развалиться и в последнее вре-
671
мя запечатанную церковку и поставил ее на Преображенском плацу рядом с воздвигавшимся новым зданием для академии. 6 мая 1900 г. было совершено протопресвитером А.А. Желобовским в сослужении о. Иоанна Кронштадтского освящение перенесенной церкви, и в том же году она была обнесена каменным футляром, образовавшим большую галерею вокруг нее. В самой церкви была суворовская простота: иконостас с изображениями святых, имена которых носили сам Суворов и его семья (Александра Невского, великомученицы Варвары, мучеников Наталии и Аркадия); за правым клиросом — витрина с суворовскими реликвиями: Апостолом, по которому Суворов читал, кадилом, которое он, прислуживая в алтаре, подавал, с подсвечником, который он выносил. В 1903 г. Григорием Милорадовичем была пожертвована большая, богато украшенная, считавшаяся чудотворною Черниговская икона Божией Матери. Она была повешена на левой стене, около клироса.
42 В.П. Крутов заслуживает того, чтоб помянуть его добрым словом. Крестьянин Вологодской губернии, полуграмотный, он 18-летним юношей отправился в Петербург и занялся мелочной торговлей на лотке, но вскоре психически заболел. Врачи признали его болезнь неизлечимой. Кто-то посоветовал его родным обратиться к молитвеннику о. Иоанну Кронштадтскому. Пригласили о. Иоанна. Тот помолился, и больной скоро совсем оправился, снова занялся торговлей, которая пошла у него так успешно, что чрез несколько лет он стал известным в Петербурге оптовиком-рыбником. Естественно, Крутов благоговейно почитал о. Иоанна, своего исцелителя, а о. Иоанн проявлял трогательную любовь к исцеленному. В именинные дни Крутова и его супруги о. Иоанн обязательно обедал у них. Когда у них родился первенец, о. Иоанн выразил желание быть восприемником новорожденного и при совершении мною таинства крещения держал его на руках. По просьбе Крутова о. Иоанн ежегодно в день кончины (5 мая) и ангела Суворова (23 января) совершал в Суворовской церкви литургии. Крутов имел огромные торговые связи с заграницей, особенно с Германией и Турцией, и это с началом Великой войны (1914-1918) сильно подорвало его дело, так как много высланного им товара осталось неоплаченным.
43 Это был блестящий курс. Первенцем его был кавалергард граф Алексей Алексеевич Игнатьев, ныне подвизающийся в Советской России на военно-учебном поприще.
44 Об о. Иоанне Кронштадтском написано много. Между прочим, после революции в Сербии в Белграде в 1938 г. вышла объемистая, но крайне пристрастная книга И.К. Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский», превозносящая о. Иоанна и порочащая достойнейшего из тогдашних архиереев митрополита Антония (Вадковского). А в Болгарии в том же 1938 г. вышла книга иеромонаха Мефодия «Отец Иоан Кронщадтски (1829-1908)» (536 стр.). Мне остается сказать несколько слов о личных встречах с отцом Иоанном. Отец Иоанн не принадлежал к числу святош или ханжей, он всегда был прост и естествен. Ел он мало, но ел все предлагаемое ему. И от хмельного не отказывался. После утомительной для старика службы он в
672
гостях выпивал одну-две рюмки английской горькой водки и рюмку хересу. Почитатели обыкновенно предлагали ему особый любимый им херес, стоивший тогда 8 рублей бутылка, когда лучшее заграничное шампанское стоило 5 рублей. Сидя рядом со мной. о. Иоанн несколько раз наполнял мою рюмку этим дорогим напитком и говорил: «Пей! Тебе еще такого вина не дадут». Молитвенником о. Иоанн был исключительным. Я вынес такое впечатление, что и. сидя за столом, он не переставал молиться. При совершении же литургии, особенно во время пения «Тебе поем», он доходил до экстаза: тогда из его глаз текли слезы, дрожал голос и все движения его становились нервными. Сила молитв его несомненно была очень великой.
45 Окончившие курс академии по первому разряду получали звание магистрантов и освобождались от новых устных испытаний пред защитой ими магистерских диссертаций, чего не удостаивались второразрядные.
46 Советом академии такая денежная награда была присуждена мне. но не помню, в каком размере.
47 В 1908 г. Николаевская академия Генерального штаба была переименована в Императорскую военную академию.
48 Вскоре он был произведен в генералы. К стыду своему, никак не могу вспомнить фамилию этого блестящего офицера Генштаба.
49 Интересный господин был этот Хомяк. Лет 45, старый кадровый офицер, он был неисправимым пьяницей и во хмелю скандалистом. За скандалы трижды его разжаловали в солдаты, и после каждого разжалования он должен был зарабатывать чин подпоручика. Храбрость у него была безумная. пьяная: он не мог усидеть в окопе и лез наружу, командовал, стоя во весь рост. Во всех боях он участвовал и только раз был ранен в указательный палец, который он всегда выставлял, командуя.
50 Кажется, Сулькевича, капитана лейб-гвардии Саперного батальона. Он был ранен смертельно в живот и скончался.
51 Доктор медицины М. был оригиналом в совсем ином по сравнению с Дункелем роде. Он не был ни картежником, ни пьяницей, не глумился над своей медициной, был воспитан, деликатен, но свою медицинскую службу в полку он ограничивал тем, что каждый день в 9 часов утра делал осмотр больных в полковом околотке. Полковой фельдшер выстраивал всех больных на дворе околотка. Прибывший доктор М. начинал опрос, спрашивая каждого: «Ты чем болен?» Я несколько раз присутствовал при этой церемонии. Пред спросом каждого фельдшер докладывал о температуре у больного. а доктор отвечал: «Да». Опишу один из осмотров. Доктор М. спрашивает первого, начав с правого фланга: «У тебя что?» «Голова очинно болит и кости ломит». — отвечает больной. «У меня тоже голова болит и кости ноют». — замечает доктор и направляется к следующему. «У него температура 38.5». — докладывает фельдшер. Но доктор не обращает внимания и спрашивает следующего: «Ты чем болен?» «Бок болит и кашель мучит». — отвечает больной, а фельдшер шепчет: «Температура 38.7. Боюсь, что у него воспаление легких». Но доктор свое: «У меня тоже и бок болит, и кашель». При опросе следующих больных оказывается, что у доктора и живот болит, и под ложечкой колет, и в ушах сильно звенит, и тошнит его, и
673
аппетиту у него нет, и прочее. Но вот подходит доктор к красивому ефрейтору. На вопрос доктора: «У тебя что?» — ефрейтор бойко отвечает: «Сифилис, Ваше Высокоблагородие!» «У меня тоже сифилис». — говорит доктор, но, заметив, что и я, и младшие доктора рассмеялись, поправляется: «Ну. не сифилис, а что-то такое...» После такого осмотра делались подобные же назначения. Младшие врачи возмущались, ругались, иногда резкости ему говорили, но право было на его стороне.
52 Когда рано утром, выйдя из своей палатки, командир начинал шагать взад и вперед по бивуаку, это бывало признаком, что он в дурном настроении. Тогда офицеры предпочитали не встречаться с ним. Но баловень полка — большой, очень прирученный баран — не считался с настроением командира полка и за это поплатился жизнью. Однажды, увидев командира. одиноко странствующего по бивуаку, он начал ходить за ним, а затем, разогнавшись, так толкнул его, что командир едва удержался на ногах. После этого последовал приказ зарезать барана.
53 Однажды полковник Лисовский в своей землянке угощал меня вкусным чаем. Во время чаепития вошел Кондратович. «Не хотите ли, Ваше Превосходительство, чаю?» — обратился к нему Лисовский. «Нет. благодарю». — ответил Кондратович. «Как вам угодно», — небрежно сказал хозяин. Посидев около нас. Кондратович обратился к Лисовскому: «Пожалуй, и я стаканчик выпью». «Я же предлагал вам, но вы не захотели... Сами наливайте, если хотите». — с ноткой раздражения ответил Лисовский. Другой случай. Генерал Кондратович со своим начальником штаба и командирами полков выехали в поле для осмотра позиции. Каждый из командиров имел ординарца, Кондратович же выехал с тремя ординарцами. Выехав в поле, он обратился к Лисовскому: «Пошлите, Николай Яковлевич, своего ординарца узнать...» «Можете, Ваше Превосходительство, своего послать. У вас же их три, а у меня один», — резко ответил Лисовский. Все переглянулись. Кондратович сносил резкости нашего командира, потому что сознавал его превосходство во всех отношениях.
54 Кажется, не ошибаюсь в номере роты.
55 Еще в Освободительную войну бывали случаи, что полки ходили в атаку с развернутыми знаменами и с оркестром, В Русско-японскую войну был один случай, что командир повел таким образом свой полк в атаку. Его безумный опыт кончился тем, что все духовые инструменты были изрешечены пулями, а музыканты перебиты. Священникам редко представлялась возможность выступать с крестом в руке, чтобы вести свой полк в атаку. Сидеть во время боя в окопе и ждать, когда представится случай для такого подвига, по меньшей мере было неразумно.
56 Один, два, три, четыре и так далее.
57 12 марта 1895 г., в 4-е воскресенье Великого поста, я был рукоположен в сан диакона.
58 Делается это не столько по идейным, сколько по материальным соображениям: чтобы оградить материальное благосостояние приходских священников. У нас в селах и провинциальных городах вмешательство
674
посторонних священников в приходскую жизнь также строго преследовалось. Петербург был исключением.
59 Так, и митрополит Иосиф Семашко в своих «Записках» утверждает, и его биограф Г.Я. Киприанович повторяет, что высочайше утвержденная инструкция православным преосвященным и генерал-губернаторам западных губерний составлена им — Семашкой. Я неопровержимо убедился, что эта инструкция была составлена Московским митрополитом Филаретом (см. мою диссертацию, стр. 185-172),
60 Полная Макарьевская премия сопровождалась денежной наградой в 1000 рублей. Хотя мне была присуждена полная премия, но из-за ограниченности средств было выдано только 500 рублей.
61 Предшественники генерала Михневича, генералы Сухотин и Глазов, из начальников Академии попали: первый — в Степные генерал-губернаторы. а второй — в министры народного просвещения. Чем было вызвано такое явно неблагожелательное назначение генерала Михневича, не могу сказать. Отъезжавшему генералу Михневичу Академическая корпорация устроила роскошный ужин в ресторане «Медведь», на котором самой блестящей речью была речь Анны Николаевны Алексеевой, жены известного генерала М.В. Алексеева. Речи профессоров померкли пред ее речью.
62 Для протопресвитера имелась огромная квартира в доме вдов и сирот военного и морского духовенства (угол Воскресенского проспекта и Фурштадтской улицы). Первый этаж этого дома был занят Духовным правлением. в половине верхнего помещалась домовая церковь протопресвитера. Протопресвитеры Желобовский и Аквилонов оставляли у себя квартирные деньги для оплаты расходов по поездкам на военные парады.
63 При многих военных петербургских церквях, кроме воинских частей, числились крупные приходы, дававшие большой доход духовенству. Многие священники пользовались роскошными квартирами в церковных домах. Материальное обеспечение некоторых священников было лучше протопресвитерского.
64 Протоиерей Иван Иванович Невдачин, тогда 61 года, был уроженцем Псковской епархии, окончившим курс Псковской духовной семинарии и затем слушавшим лекции в Санкт-Петербургском археологическом институте. Ни внешностью, ни деловитостью он не отличался. Таким образом, он не имел никаких ни прав, ни данных, чтобы занимать видные должности в ведомстве. Между тем в 1896 г. он занял место священника Санкт-Петербургского Адмиралтейского собора, в 1897 г. стал протоиереем. с 1900 по 1909 г. был священником и сакелларием Преображенского всей гвардии собора, а с 1909 г. — настоятелем Троицкого собора. В чем был секрет блестящей карьеры совсем неблестящего протоиерея, я не стану доискиваться. Возможно, он. как и некоторые другие, шел по стопам протоиерея Каллистова.
65 При проводах на кладбище покойников погребальные процессии обыкновенно останавливались у церквей, причем служились краткие литии, заканчивавшиеся возглашением вечной памяти. В течение долгого времени работавшие в похоронных бюро лошади так приучались к этим ос-
675
тановкам, что, поравнявшись с церковью, сами, без всяких понуждений останавливались, а при пении «Вечная память» двигались дальше.
66 Вскоре после моего назначения на должность протопресвитера меня посетил капитан 1-го ранга Попов, служивший в Морском министерстве, человек религиозный и серьезный. Он высказал мне свою тяжкую скорбь по поводу пастырской службы во флоте: там почти все священнические должности замещены полуграмотными вольнонаемными иеромонахами. весьма часто служащими посмешищем не только для офицеров, но и для матросов, многим из которых они уступают в развитии. Не имея возможности оплачивать стоимость стола в офицерской кают-компании, они кормятся за счет офицеров. Последние, условливаясь с содержателем кают-компании, так и уговариваются: кормить столько-то офицеров, кота и попа. Потом этому бесплатному «настольнику» приходилось выслушивать от молодежи обидные шутки и даже издевательства. Не подходя по своему развитию к офицерской среде, большинство иеромонахов сторонились офицеров и заводили дружбу с матросами. Но и там они часто оказывались не полезными, а вредными, когда для увеличения своих денежных ресурсов продавали матросам водку, играли с ними в карты. Капитан 1-го ранга Попов умолял меня заменить этих простецов образованными священниками, которые не унижали бы священного сана.
67 По приблизительному подсчету, при моем вступлении в должность в Ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства числилось более 730 священников, более 150 диаконов и столько же псаломщиков. При полковых и бригадных храмах должность псаломщиков исполняли церковники — способные к исполнению псаломщической должности нижние чины.
68 В то время важные духовные особы, архиереи, не знали другого способа передвижения, как только в пароконных каретах. А митрополиты до назначения на Петербургскую кафедру митрополита Антония (Вадковского) выезжали не иначе как четвериком и в особых каретах, как будто они (митрополиты) представляли собой такую тяжесть, которую не могла повезти пара упитанных породистых лошадей.
69 Впрочем, в Москве, как уже упомянуто, был один священник с высшим образованием.
70 Особенность тогдашнего Киевского военного духовенства: из 9 священников 5 человек перешагнули шестидесятилетний возраст, а по внешнему виду они казались еще старше. Протоиерею А. Дородницыну шел 72-й год. Самим младшим был священник 130-го пехотного Херсонского полка, имевший 35 лет от роду. Работа их показалась мне вялой, старческой.
71 В Военно-морском духовном ведомстве не было своей семинарии, которая подготовляла бы нужных кандидатов священства. Приходилось замещать свободные места епархиальными священниками. Желающих всегда оказывалось больше, чем требовалось: служба в армии привлекала епархиальное духовенство. Чтобы в ведомство не попадали люди случайные, не подготовленные, не пригодные для интеллигентных паств, я
676
ввел такой порядок принятия епархиальных священников в ведомство: прежде всего кандидат должен был побывать у меня; тут я подвергал его всестороннему, часто незаметному для него экзамену — насколько он развит, умеет ли держать себя и так далее; после этого экзамена ему поручалось отслужить литургию и сказать проповедь в Сергиевском соборе в присутствии моего помощника или члена Духовного правления протоиерея Ф.А, Боголюбова, доклады которых я потом выслушивал. На внешний вид просителя также обращалось внимание. Не получившим среднего богословского образования отказывалось.
72 Нижний храм в честь преподобного Серафима Саровского был освящен архиепископом Серафимом (Чичаговым), При освящении ему сослужили я, царский духовник и соборное духовенство: протоиерей Николай Андреев и священник Кибардин, Там были приглашены наместники лавр, здесь — архиепископ Серафим, открывавший мощи преподобного Серафима, Во всем этом проявлялась особая мистика, как будто в таких комбинациях была суть дела,
73 Морской собор в Кронштадте 1903-1913 гг.
74 Государь со своей семьей прибыл в Кронштадт на «Штандарте»; для перевозки многочисленных приглашенных между Санкт-Петербургом и Кронштадтом курсировали специальные корабли.
75 Родной брат о, Александра М.П. Журавский при протопресвитере А.А. Желобовском был всемогущим в ведомстве: женатый на родной сестре жены Журавского, В.И. Яцкевич был директором канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода,
76 Измайловские Роты — улицы в районе квартирования Измайловского полка,
77 Насколько сильно было влияние Распутина на царскую чету, это видно из писем императрицы, изданных в Берлине в 1922 г.
78 История с С.И. Тютчевой изложена мною в моем труде «На войне», стр. 42. После увольнения ее от должности воспитательниц царских дочерей царица причислила ее к ненавистной «московской клике Эллы (великой княгини Елисаветы Феодоровны)» (Письма императрицы, Т. 1, С. 132),
79 Церковные ведомости, 1914, №27, С. 1223-1224,
80 К сожалению, в ведомстве встречались такие экземпляры. Как на пример укажу на протоиерея N, В 1911 или 1912 г, он по просьбе адмирала Эбергардта был принят мною на службу в Черноморский флот и даже назначен благочинным этого флота. Высокий, красивый, вкрадчивый, он вскоре овладел добрым сердцем Эбергардта. Но мне скоро сообщили, что этот благочинный проводит больше времени в странствованиях по разным большим городам за антиминсами для судовых церквей, чем на своем корабле, хотя такие странствования совсем не вызывались необходимостью, так как он мог получать антиминсы от Симферопольского епископа. Я с нетерпением ждал, когда же этот протоиерей появится за антиминсом в Петербурге, должен же был он тут показаться. Наконец, на приеме мне доложили, что он желает представиться мне. Дело было зи-
677
мою. Ну и попало же этому экскурсанту — антиминсному коллекционеру! Уходя, он забыл свои галоши в моей швейцарской.
81 Генерал А.Н. Куропаткин говорил мне. что бывший командующий 2-й Маньчжурской армией генерал Гриппенберг не умел читать военной карты.
82 Мартос — командир 15-го корпуса, а Клюев — 13-го корпуса, Пестич — начальник его штаба. Все трое были взяты в плен.
83 В 1912 г. мой бывший сослуживец по Академии Генштаба полковник Генштаба Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, только что назначенный командиром 177-го пехотного Переволоченского полка, зашел ко мне представиться и с просьбой, чтобы я дал для его полка отличного священника, «так как хороший священник не менее, чем хороший командир. дорог для полка». Я дал ему о. И.А. Покровского, который блестяще оправдал потом мое доверие. В 1918 г. Бонч-Бруевич занимал должность Верховного главнокомандующего.
84 Архиепископ Серафим (Мещеряков) родился 18 марта 1860 г. Окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии в 1885 г. В июне 1902 г. стал епископом Полоцким и Витебским; в июле 1911 г. — архиепископом Иркутским; в декабре 1915 г. уволен за неудобоописуемые деяния на покой в Краснодубский Успенский монастырь, в 1916 г. переведен в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии на правах настоятеля; после революции был живоцерковским митрополитом; убит в Ростове-на-Дону.
85 Офицерским крестом Святого Георгия 4-й степени до Великой войны были награждены; священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский за бой при Малом Ярославце в 1812 г.; священник Тобольского пехотного полка Иов Каминский в войну с Турцией в 1829 г.; священник Могилевского полка Иоанн Пятибоков в войну с Турцией в 1854 г.; флотский иеромонах Иоанникий (Савинов) в Крымскую кампанию 1855 г. и священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Стефан Щербаковский за бой под Тюренченом в 1904 г.
86 Церковные ведомости, 1914. №43. С. 1842-1843.
87 Погибших в Цусимском бою на море не считаю. Они утонули вместе с экипажами кораблей.
88 Православие и унии в Галичине. См. статьи С.В. Троицкого и А. Белгородского (Церковные ведомости. №35-39).
89 Серые и жирные летом, зайцы зимою белеют, от недостатка корма становятся тощими и негодными для стола. Зимою и крупный заяц не может привлекать охотника.
90 Церковные ведомости, 1914. №38. С. 1665-1667.
91 С. 257.
92 Там же. Великий князь высказал бы мне свою обиду на архиепископа Евлогия. если бы такая обида была у него. Но я не слышал от него и намека на обиду.
93 Стр. 260. Это же твердили архиепископу Евлогию и многие другие. Но он был глух к всякого рода предупреждениям, оставаясь уверенным в правоте собственной точки зрения.
678
94 С. 261.
95 С. 258-259.
96 С. 262.
97 С. 269.
98 Крест на клобук. А в 1912 г. он был награжден саном архиепископа. Крестом на клобук архиепископ Евлогий был награжден 6 мая 1915 г.
99 С. 271.
100 С. 271-272. Замечательно, что митрополит Евлогий при многократных встречах и продолжительных разговорах со мною в эмиграции ни разу и ни единым словом не вспомянул о производившемся им галицийском воссоединении. А я не начинал разговора, чтобы не бередить старой раны.
101 Когда у митрополита Евлогия до последней степени обострились отношения с Московской Патриархией, он вызвал меня в Париж, чтобы помочь ему разобраться в этом запутанном деле. Когда я прибыл туда, там уже был заготовлен крайне неудачный ответ митрополиту Сергию. Мне стоило большого труда убедить митрополита Евлогия переработать его. И я совместно с профессором Н.Н. Глубоковским и С.Н. Булгаковым переработал его.
102 18 августа 1914 г. высочайше повелено было г. Санкт-Петербург именовать Петроградом.
103 Старше великого князя Николая Николаевича в императорской фамилии был только один великий князь — Николай Константинович. Но он был изгоем, жил в Ташкенте в ссылке и не мог иметь никакого влияния ни на государя, ни на государственные дела. Николай Константинович родился 2 февраля 1850 г., а Николай Николаевич — 6 ноября 1856 г.
104 То есть великие княгини Анастасия и Милица Николаевны, черногорки.
105 Великий князь Николай Николаевич.
106 Польский.
107 Письма императрицы. Т. 1. С. 6.
108 Великий князь Николай Николаевич и князья Орлов и Янушкевич.
109 Письма императрицы. Т. 2. С. 230. 9 декабря 1916 г. царица писала: «Наш друг говорит, «что если Он (царь) не взял бы места Николая Николаевича, то бы летел с престола теперь» (С. 252).
110 Письма императрицы. Т. 1. С. 247: Т. 11. С. 96, 98.
111 Там же. С. 159. Письмо от 22 августа 1915 г.
112 Там же. С. 115. Князь Шаховской — министр торговли и промышленности.
113 Там же. С. 135. Барк — министр финансов.
114 Там же. И.Л. Горемыкин — председатель Совета министров. Б.В. Штюрмер — министр-председатель. А.Д. Протопопов — министр внутренних дел.
115 Тамже. С. 250.
116 Там же.
117 Там же. Т. 2. С. 243.
679
118 Так же оценивала адмирала Эссена и императрица. См. там же. Т. 1. С. 112.
119 Генералу М.В. Алексееву, начальнику штаба Верховного главнокомандующего.
120 Элла — великая княгиня Елисавета Феодоровна, родная сестра императрицы.
121 Тютчева Софья Ивановна — внучка поэта, дочь И.Ф. Тютчева, бывшая воспитательница царских дочерей, уволенная от должности воспитательницы после доклада царю о Распутине и допуске его в детские комнаты.
122 Смене министров я посвятил особую главу в своем труде «На войне». Интересующийся найдет там подробности происходившего в ставке при этой смене. А письма императрицы показывают, как страшившаяся влияния Верховного царица мучительно переживала каждую поездку своего мужа в Ставку и как упорно она восстанавливала его против Верховного.
123 Дембовецкий очень долго служил губернатором в Могилеве. Там мне рассказывали следующий случай из его жизни. В 1905 или в 1906 г., когда и в Могилеве молодежь очень бурлила, проходившую по улице губернаторшу резко толкнул студент. Губернаторша узнала студента — это был еврей, сын очень богатого Могилевского купца. Губернаторша пожаловалась мужу, а тот приказал полицеймейстеру вызвать оскорбителя и всыпать ему 25 розог. Губернаторское приказание было исполнено. На следующий день к Дембовецкому явился адвокат-еврей с просьбой выдать ему точную копию постановления, на основании которого над таким-то студентом было учинено насилие. «Значит, вы хотите получить точную копию?» — спросил Дембовецкий. подчеркнул слово «копию». «Да, точную копию вашего постановления», — ответил адвокат. «Тогда завтра пожалуйте к полицеймейстеру — у него получите точную копию», — сказал губернатор. Вызванному затем полицеймейстеру было приказано: «К вам завтра явится адвокат, чтобы получить точную копию моего постановления, на основании которого был наказан такой-то студент. Выдайте ему точную копию, понимаете, точную». «Слушаю, Ваше Превосходительство». — ответил научившийся понимать язык своего начальника полицеймейстер. На следующий день и адвокату было всыпано 25 розог. Дембовецкому после этого пришлось оставить должность губернатора.
124 Княгиня Голицына погибла в Лондоне во время немецкой бомбардировки.
125 Тобольское дело было делом о самовольном прославлении епископом Варнавою Тобольского митрополита Иоанна Максимовича.
126 Письма императрицы. Т. 1. С. 326. Упоминаемый там Чичагов — архиепископ Тверской Серафим.
127 Там же.Т. 2. С. 169.
128 Там же. С. 132.
129 Выступления митрополита Питирима по приходскому вопросу описа-
680
ны мною в моем труде «На войне». Даже поддерживавший митрополита Питирима государь отрицательно отнесся к тем его выступлениям.
130 В том же 1916 г. в поднесении государю адреса и иконы участвовали митрополит Питирим, я и обер-прокурор Раев.
131 Письма императрицы. Т. 2. С. 162.
132 Там же. С. 232.
133 Кажется, никто не разделял такого мнения генерала Иванова: и в талантливости, и в работоспособности генерал Владимир Михайлович Драгомиров уступал генералу М.В. Алексееву.
134 Живя в эмиграции, А.И. Пильц совершенно изменил свой взгляд на роль Распутина и пытался доказывать, что Распутин не оказывал решительно никакого влияния на назначения высокопоставленных лиц и на течение государственных дел.
135 Поездка к великому князю Николаю Николаевичу и события из жизни Добровольческой армии мною были описаны в 1943 г., тогда как все предшествовавшее, как и моя жизнь в эмиграции, были зафиксированы только в 1948 г.
136 Каково же было наше удивление, когда экономом финансовой комиссии собора иеромонахом Серафимом был предъявлен длинный счет почти на 1500 рублей за угощение нас 1-2 мая. Там не были забыты и извозчики, на которых нас привозили с вокзала и отвозили на вокзал, и тогда не позволили нам уплатить им, и редиска с архиепископского огорода, и консервы. Оказалось, что консервов за сутки мы втроем съели почти на 500 рублей. Епископ, возглавлявший комиссию, рассматривавшую этот отчет, ядовито заметил: «Если б три человека за день съели консервов на 500 рублей, они, наверное, не выжили бы». А я обратился к иеромонаху Серафиму: «Очень жалею, что мы тогда остановились у вас, а не в гостинице. Там нам больше чем 15 рублей за человека не пришлось бы платить». Конечно, в этой истории архиепископ не участвовал — это его жадный эконом хотел поживиться. Комиссия произведенный на наше угощение расход отнесла на счет архиерейского Ставропольского дома.
137 Предсоборную комиссию (под моим председательством) составляли профессор протоиерей А.П. Рождественский, священник Г.П. Ломако, граф В,В. Мусин-Пушкин, гвардейский генерал Лёвшин, член Кубанского епархиального совета Терещенко. Секретарствовал начальник моей канцелярии Е.И. Махараблидзе.
138 В Высшее церковное управление Собором были избраны: председателем — архиепископ Митрофан, товарищем председателя — архиепископ Димитрий, членами — я, профессор протоиерей А.П. Рождественский, граф В.В. Мусин-Пушкин и профессор университета Павел Васильевич Верховской. Замечательно, что Ставропольский Собор 1919 г. проявил удивительную солидарность с Томским Собором 1918 г., хотя об этом последнем Соборе стало известно на юге России лишь в июне 1919 г., значит, после Ставропольского Собора. Томский Собор тоже учредил высшую церковную власть, наименовав ее, как и Ставропольский Собор,
681
Временным высшим церковным управлением, составив это управление из трех архиереев, двух пресвитеров и двух мирян. Учрежденное Собором Высшее церковное управление было облечено всей полнотой власти, какая принадлежит Патриарху с его Священным Синодом и Высшим церковным советом, до восстановления связи с Патриархом, когда оно немедленно должно будет сложить все свои полномочия.
139 Вообще архиепископ Агафодор приходил на Собор нечасто, а когда и приходил, то не принимал никакого участия в соборной работе. Появляясь, иногда смешил своей забывчивостью. Однажды, когда он взошел на возвышение, где помещались архиереи (их число 11) и члены президиума, он благословил архиереев, а не членов Собора.
140 Генерал-лейтенант Леонид Митрофанович Болховитинов, товарищ Деникина по академии, в Великую войну занимал должности начальника штаба при главнокомандующем на Кавказе, а потом командира 1-го армейского корпуса. У большевиков служил инспектором пехоты. В июле 1918 г. бежал в Екатеринодар к семье, где был арестован по приказанию Деникина и отдан под суд.
141 Об офицерах Генштаба давали заключение особые эксперты — два или три молодых полковника Генштаба.
142 Неофит, митрополит Видинский, окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии в 1900 г., на год позже митрополита Бориса (Георгиева). К сказанному о митрополите Борисе надо добавить, что он обладал колоссальной памятью и справедливо считался в Софии живой энциклопедией. По любому ученому вопросу он мог указать нужные пособия и дать иные сведения. При своей эрудиции и светлом взгляде он мог бы быть очень ценным научным работником. Но почему-то он не оставил после себя никаких печатных трудов.
143 В первые годы нашей эмиграции русские беженцы были очень щедры на жертвы в церкви, в том числе и в нашу посольскую церковь, и она располагала очень большими суммами, не оказывая нам, священнослужителям, никакой материальной помощи и ничего не приобретая для храма. Все деньги улетучивались куда-то, и епископ Серафим находил это совершенно нормальным. Мой протест против таких порядков вызвал только его неудовольствие. Значительная часть церковных сумм шла на ублажение самого епископа, летом получавшего возможность вместе с семейством Зызыкиных благодушествовать на дорогом Варненском курорте и при попечении г. Зызыкиной не знать ни в чем недостатка.
144 Хотелось думать и надеяться, что под влиянием постигшей бывшего экзарха катастрофы и соединенных с нею тяжких переживаний он перейдет на путь спасительного жития. Но посетивший его в конце февраля минувшего года русский протоиерей Ш. вынес неутешительное впечатление: «У обреченного на одиночество экзарха жизнь кончилась, а житие не началось».
145 Лекции. С. 79.
146 См. мою книгу «Православное Пастырство». С. 198-214.
682
Комментарии
С. 58 ...я ежедневно утром и вечером молюсь за этого ректора... Имеется в виду ректор Вологодской духовной семинарии протоиерей П.Л. Лосев. в 1887 г. принявший монашество с именем Петр и в 1889 г. рукоположенный во епископа. Об отношениях Н.Н. Глубоковского и епископа Петра см.: Богданова Т.А. Глубоковский Н.Н. Судьба христианского ученого. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 64-67.
С. 106 ...архимандрита Серафима, получившего потом известность как автора магистерской диссертации о Валаамовой ослице... Имеется в виду диссертация архимандрита (впоследствии митрополита) Серафима (Мещерякова). См.: Серафим (Мещеряков), епископ. Прорицатель Валаам. СПб, 1899.
С. 133 ...помещику этого имения Владимиру Николаевичу Ридингеру... Владельцем имения Куоккала был барон Борис Николаевич Ридингер. В 1900 г. Г.И. Шавельский крестил его пятую (не четвертую) дочь Анну (1900-1918).
С. 146 Чтобы деятелю реже ошибаться ему прежде всего надо знать историю. «Человечество идет вперед, а человек остается тот же». Данная мысль Гете содержится в его разговорах с Эккерманом. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 387.
С. 158 Вот командир 2-й батареи — молодой подполковник, академик Михаил Григорьевич Пащенко... Командиром 2-й батареи 9-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады с февраля 1904 г. по июнь 1905 г. был подполковник Алексей Григорьевич Пащенко, за боевые отличия возведенный в чин полковника в январе 1905 г.
С. 173 ...отделался контузией в правую сторону головы и небольшим ранением в колено... В письме Е.И. Мосоловой от 7 сентября 1904 г. протопресвитер Г.И. Шавельский писал: «18 августа я, как Вы знаете, был контужен газом и осколком бризантного снаряда в правую височную часть головы и ухо. На мое счастье, осколок был на излете, так что контузия вышла не из сильных... Контужен я был на перевязочном пункте, который мы с бесстрашным доктором Охотниковым устроили за самой позицией. Японцы заметили толпу народа и открыли по нам огонь». (Георгиева Л. Письма священника Г.И. Шавельского // Из истории религиозных, культурных и политических взаимоотношений России и Японии в Х1Х-ХХ веках. СПб.: Фонд по изучению истории Православной Церкви, 1998. С. 186).
С. 203 ...генерал-адъютанта Богдана Феофиловича Мейендорфа.. Имеется в виду генерал от кавалерии Богдан (Феофил) Егорович Мейендорф.
С. 217 Незадолго пред выходом в свет моей книги... Шавельский Г. Последнее воссоединение с Православной Церковью униатов белорусской епархии. СПб., 1910.
С. 217 ...профессор Н.Н. Глубоковский выпустил свою объемистую книгу о Смарагде Крыжановском... Н.Н. Глубоковский к 1910 г. подготовил массу статей и публикаций об архиепископе Смарагде (Крыжановском), некоторые из которых выходили в виде оттисков. Однако по-настоящему
683
«объемистая» книга об архиепископе Смарагде вышла в 1914 г. Глубоковский Н.Н. Высокопреосвященный Смарагд (Крыжановский), архиепископ Рязанский, (Е 1863.ХI.11): его жизнь и деятельность. СПб., 1914,
С. 234 «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Не совсем точная цитата из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе В.А. Жуковского:
Смертный, силе, нас гнетущей.
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущий.
С. 280 ...генерал-губернатору Шипову... В 1911 г. киевским генерал-губернатором был Ф.Ф. Тренов.
С. 285 ...о. Медведь пустился было в опасную и для священника преступную аферу: он предложил морским священникам выпытывать на исповеди их настроение, их политические взгляды и затем докладывать ему. Данное свидетельство протопресвитера Г.И. Шавельского выглядит достаточно двусмысленным. Протокол допроса протоиерея Р. Медведя помогает прояснить ситуацию. В 1931 г. одно из обвинений против него состояло в том, что он якобы выдал бунтовщиков, воспользовавшись исповедью. Протоиерей Р. Медведь ответил: «Летом 1912 г. в городе Севастополе было восстание матросов. В то время я был на даче в пятнадцати километрах от Севастополя. По возвращении в Севастополь я для поднятия духа матросов предложил командиру экипажа Сильману провести индивидуальную исповедь матросов, что и было сделано. Так как команда была в то время безоружна, после исповеди командир полуэкипажа спрашивал меня, можно ли доверить команде оружие, на что я ответил, что настроение среди матросов вполне здоровое и оружие доверить можно». (Житие священноисповедника Романа (Медведя; 1874-1937) / Сост. игум. Дамаскин (Орловский). Тверь, 2000. С. 29). Таким образом, речь могла идти о том, чтобы на основании исповеди делать вывод об общем состоянии боевого духа матросов, а вовсе не о том, чтобы с помощью исповеди выдавать властям бунтовщиков.
С. 291 ...составил небольшую книжку «Служение священника на войне»... Текст брошюры опубликован также в Военном сборнике за 1912г. В №12.
С. 300 Священник Егоров отдался внешкольной работе с детьми и достиг в этом отношении потрясающих успехов. Протопресвитер Г.И. Шавельский весьма положительно отзывается о лекционной и проповеднической деятельности протоиерея Ивана Федоровича Егорова, однако эта деятельность имела и негативную сторону. Уже с середины 1900-х годов И.Ф. Егоров предлагал реформы в духе обновленчества и стал одним из основоположников этого уклонения, входил в группы «Союз церковного обновления» (1905), «Братство ревнителей церковного обновления», в 1919 г. создал в Петрограде организацию сектантского типа «Религия в сочетании с жизнью».
С. 303 «И рад бежать, да некуда... ужасно»... Слова Бориса Годунова из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
684
С. 313 ...с начальником дивизии генерал-лейтенантом Свиньиным... Начальником 9-й Сибирской стрелковой дивизии с 3 мая 1910 г. по 26 февраля 1915 г. был генерал-лейтенант Слёзкин Алексей Михайлович.
С. 314 Меня встретил начальник дивизии генерал Львов... 2-й Сибирской стрелковой дивизией с 23 декабря 1911 г. по 6 апреля 1917г. командовал генерал-лейтенант Поспелов Сергей Матвеевич.
С. 339 ...флигель-адъютант, капитан 1-го ранга Н.П. Свечин... Скорее всего, ошибка в фамилии: приближенным императрицы был флигель-адъютант. капитан 1-го ранга Н.П. Саблин.
С. 340 ...был возведен на Московскую митрополичью кафедру... Томский архиепископ Макарий... только за свою преданность Распутину получивший ее... Престарелый митрополит Макарий (Невский), прославившийся миссионерскими подвигами в Сибири, но не проявивший себя как администратор на Московской кафедре, не был близко знаком с Распутиным. В 1917 г. митрополит Макарий писал: «В.Н. Львов... называет меня «ставленником Распутина». В подтверждение своих предположений о моих отношениях к этому человеку он никаких фактических данных не представляет. Все здание его обвинений висит на воздухе. С Распутиным я не имел никакого знакомства до назначения меня на Московскую кафедру, ни личного, ни письменного, ни через каких-либо посредников. Только по назначении на Московскую кафедру я получил в числе других коротенькую поздравительную телеграмму, подписанную неизвестным мне Григорием Новых. По прибытии в Москву, подобно другим посетителям, пришел ко мне и Распутин. Это было мое краткое первое и последнее свидание с ним». (Московские ведомости. 1917, №131, 21 июня).
С. 341 ...благодать Божия, «немощная врачующая и оскудевающее восполняющая»... Слова из молитвы архиерея при совершении таинства рукоположения во священника.
С. 365 «Ученое» монашество... стало «прибежищем заяцем»... Строки из псалма 103. стих 18: «Камень прибежище заяцем». Протопресвитер Г.И. Шавельский сравнивает звание «ученого монаха» с камнем, за которым легко укрыться.
С. 371 Но ведь еще Грибоедовым было сказано: «Законы святы, но исполнители их— лихие супостаты»... Имеются в виду слова из комедии B. В. Капниста (1758-1823) «Ябеда»: «Законы святы, но исполнители — лихие супостаты» (действие 1, явление 1).
C. 375 Когда была объявлена Великая война, он обратился ко мне с просьбой назначить его главным священником одного из фронтов. Я отклонил его просьбу, что. конечно, обидело его. После, в 1915 г., я предложил ему место штабного священника при одной из армий. Он согласился... В действительности протоиерею С.А. Голубеву в 1915 г. была предоставлена должность главного священника Северного фронта. В этой должности он находился до середины 1916 г., когда был заменен протоиереем И.А. Покровским.
С. 380 ...прав на такую награду не имели... Данное утверждение протопресвитера сомнительно. Известно, например, что епископ Трифон (Тур-
685
кестанов) в 1915 г. во время боевых действий получил сильную контузию, ослеп на один глаз и был вынужден оставить военную службу. После годового пребывания в должности настоятеля Ново-Иерусалимского монастыря епископ Трифон вновь вернулся на фронт, где находился до 1917г. (См.: Лазарева Н., Митрополит Трифон (Туркестанов) // Трифон (Туркестанов). митрополит. Древнехристианские и оптинские старцы. М.: Мартис, 1997. С. 14).
С. 381 В Русско-японской войне... погиб только один военный священник... В действительности погибших в годы Русско-японской войны священников было больше. Кроме 8 судовых священников, погибших в Цусимском сражении, в Русско-японскую войну погибло 4 священнослужителя, не считая умерших от болезней.
С. 381 ...в Великую войну убитых и умерших от ран было около 30 военных священников. Раненых и контуженных... более 400. В плен попало в Великую войну более 100 военных священников... Согласно спискам, публиковавшимся в годы войны в «Вестнике военного и морского духовенства» и «Церковно-общественной мысли», в годы Первой мировой войны погибло 25 священнослужителей, умерло от ран и болезней 54 священнослужителя, несмертельные ранения и контузии получили 80 священнослужителей, через немецко-австрийский плен прошли 76 военных пастырей,
С. 405 Sie transit Gloria mundi (лат.)... «Так проходит мирская слава» — изречение, приписываемое Фоме Кемпийскому.
С. 415 Речь шла о германском кронпринце. Имеется в виду Фридрих Вильгельм Виктор Август Эрнст (1882-1951), кронпринц Германский и Прусский, старший сын императора Вильгельма II.
С. 425 ...главнокомандующего... которым был сам Румынский король... Главнокомандующим румынской армией во время Первой мировой войны был король Румынии Фердинанд.
С. 444 ...написал книжку о юродивых — святых Русской Церкви... Имеется в виду сочинение епископа Алексия «Юродство и столпничество». СПб., 1913.
С. 445 Подчеркнуты были все места, где говорилось, что некоторые святые юродивые проявляли свое юродство в пьянстве и половой распущенности... В книге «Юродство и столпничество» нет прямых указаний на то, о чем говорит протопресвитер Г.И. Шавельский, хотя имеются некоторые фразы, которые могли оправдать Г. Распутина в глазах императрицы, как, например, что «св. юродивые, вращаясь почти нагие в кругу женщин, оставались нечувствительными к женским прикосновениям».
С. 456 ...митрополит Владимир ... 18 января 1918 г. ... был убит.. Дата смерти священномученика митрополита Владимира — 25 января / 7 февраля 1918 г.
С. 458 ...после скандальной речи Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г. Имеется в виду речь П. Милюкова «Глупость или измена?», направленная против государственной власти.
686
С. 468 В Лавре был убит протоиерей... Петр Иванович Скипетров... Из текста можно сделать вывод, что протопресвитер Г.И. Шавельский относит это событие к 1917 г. В действительности священномученик Петр Скипетров был смертельно ранен красноармейцами 19 января (1 февраля по новому стилю) 1918 г.
С. 482...главнокомандующего Западным фронтом (не помню фамилии)... Главнокомандующим Западным фронтом в это время был генерал А.И. Деникин.
С. 489... участвовал во Всеправославном Церковном совещании.. Всеправославное Церковное совещание состоялось в Москве в июле 1948 г. с участием Патриархов: Московского Алексия, Грузинского Каллистрата, Сербского Гавриила, Румынского Юстиниана, экзарха Болгарской Церкви митрополита Стефана, представителей Антиохийской, Албанской и Польской Церквей. Совещание выступило против участия Православных Церквей во Всемирном совете церквей, высказалось за необходимость для Церквей, живущих по разным календарям, совершать празднование Пасхи одновременно по Александрийской пасхалии.
С. 490... Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства в январе 1918 г. было упразднено... Институт военных священников ликвидирован указом наркомата по военным делам № 39 от 16 января 1918 г.
С. 490... я подал заявление Патриарху, что. будучи не в силах защищать подчинявшееся мне ныне страждущее военное и морское духовенство, я отстраняюсь от участия в высшем церковном управлении... Сохранившиеся документы, в частности постановление Соборного Совета №112 от 11 (24) августа 1918 г., дают возможность более подробно рассмотреть обстоятельства увольнения протопресвитера Г.И. Шавельского. «Слушали выписку из постановления Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. 7 (20) августа за №270, об увольнении протопресвитера Г.И. Шавельского, согласно прошению, по болезни, от должности члена Высшего Церковного Совета и протопресвитера военного и морского духовенства и утверждении вместо него следующего по числу полученных избирательных голосов кандидата на сию должность протоиерея П.А. Миртова. Постановили: 1. Постановление Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета огласить на Соборе» (Современники о Патриархе Тихоне: Сб. в 2 ч. Т. 1. М.: ПСТГУ, 2007. С. 270).
С. 491 В январе 1918 г. моя дочка вышла замуж за инженера путей сообщения Всеволода Николаевича Хмелевского... Дальнейшая судьба изложена в воспоминаниях М.Г. Шавельской, помещенных в приложении. В 1935 г. брак М.Г. Шавельской с В.Н. Хмелевским был расторгнут. В 1937 г. М.Г. Шавельская вышла замуж за Г.И. Новицкого. Внучка о. Георгия Шавельского Т.В. Хмелевская в 1948 г. вышла замуж за русского эмигранта Георгия Маркова. От этого брака родилось четверо детей: Стивен, Петр, Екатерина, Ирина. Все они ныне проживают в США.
С. 501 nec plus ultra (лат.) — дальше некуда.
687
С. 507 ...архимандрит Григорий... занимал должность ректора Донской духовной семинарии... Речь идет об архимандрите Григории (Васильеве Иоанне Михайловиче), выпускнике Донской духовной семинарии и Московской духовной академии, с 1912 г. служившем в храме Московского архиерейского дома, предположительно, предателе своего друга священномученика Иоанна Восторгова. В описываемое время (1919 г.) ректором Донской духовной семинарии был архимандрит Борис (Рукин Борис Андреевич, 1879-1931). Если в 1919 г. архимандрит Григорий (Васильев) служил в этой семинарии, то занимал другую должность.
С. 509 ...ректор семинарии протоиерей Н. Иванов... Ректором Ставропольской духовной семинарии в 1915-1920 гг. был протоиерей Василий Тимофеевич Иванов.
С. 579 ...интернатский воспитатель Федор Александрович Потто, полковник, сын известного кавказского историка генерала Потто... Если речь о сыне военного историка В.А. Потто, то правильное отчество должно быть Васильевич. Других сведений, кроме приведенных Г.И. Шавельским, о полковнике Федоре Васильевиче Потто найти не удалось. Однако, возможно, речь идет о полковнике Федоре Александровиче Потто, который сыном В.А. Потто не являлся. Ранее Ф.А. Потто имел опыт педагогической работы во Владикавказском кадетском корпусе.
С. 582 Среди моих слушателей на богословском факультете был иеромонах Г... Имеется в виду иеромонах (впоследствии архимандрит) Горазд (Ангелов).
С. 585 После патриаршего указа на имя Евлогия за №348 от 5 мая 1922 г. последний с полным правом мог сказать Карловацкому Синоду: «Руки прочь!»... 5 мая 1922 г. Святейшим Патриархом Тихоном, Священным Синодом и Высшим Церковным советом был издан указ №348 (349), согласно которому высшее церковное управление упразднялось, власть над заграничными приходами передавалась ранее назначенному в Европу митрополиту Евлогию, осуждались политические заявления Зарубежного ВЦУ, окончательное суждение о которых предусматривалось вынести по возобновлении нормальной деятельности Священного Синода. Митрополит Антоний (Храповицкий) изначально расценил указ как передающий права митрополиту Евлогию, который, со своей стороны, в течение нескольких месяцев не решался принять власть, а на Архиерейских Соборах РПЦЗ в сентябре 1922 и в мае 1923 г. фактически отказался от прав на управление Зарубежной Церковью.
С. 586 ...увлечение этого Синода политикой наших правых партий до такой степени, что Синод чуть ли не возводил на беженский царский престол великого князя Кирилла Владимировича... Данное утверждение протопресвитера Г.И. Шавельского является преувеличенным. После Карловацкого Собора 1921 г., на котором правые деятели эмиграции действительно играли большую роль. Архиерейский Синод начал постепенно избавляться от влияния политиков, что выразилось в удалении от управления РПЦЗ монархистов протоиерея Владимира Востокова и генерала Н.С. Батюшина. Архиерейский Собор 1923 г. предписал духо-
688
венству Зарубежной Церкви в своей церковной деятельности воздержаться от монархического духа в проповеди. Акт Кирилла Владимировича, объявившего себя императором в 1924 г., также не получил благословения Архиерейского Собора РПЦЗ, заявившего, что такое благословение может дать только Русская Церковь в своей полноте, а не зарубежная ее часть.
С. 587 ...о скворце, молитвою Иисусовою спасшемся от кошки... Епископ Серафим приводил рассказ, встречающийся в разных вариантах в поучениях некоторых подвижников. Преподобный Амвросий Оптинский рассказывал о говорящем скворце, который, повторяя за своим хозяином Иисусову молитву, спасся от ястреба (см.: Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1900. Ч. 1. С. 106). Преподобный Нектарий Оптинский рассказывал историю про попугая, который подобным образом спасся от кошки (см. Концевич И. Оптина пустынь и ее время. Нью-Йорк. Джорданвилль, 1970. С. 545). В дореволюционные годы иеромонах (затем архимандрит) Серафим (Соболев) тесно общался с оптинскими старцами, от которых мог слышать разные варианты этого рассказа.
С. 587 ...об огромном жившем в одном озере крокодиле... Епископ Серафим привел отрывок из жития преподобной Феодоры Александрийской (V век). См.: Жития святых. Сентябрь. М.: 1903. С. 244
С. 588 ...В то время как карловцы осуждали, запрещали в священнослужении его... от митрополита Евлогия я не услышал ни одного резкого слова по адресу карловцев... В данном случае мы сталкиваемся с преувеличением протопресвитера Г. Шавельского. Практику прещений в отношении РПЦЗ начал митрополит Евлогий, 17 августа 1926 г. официально признавший над собой власть Зарубежного Синода, а на следующий день, 18 августа, неожиданно запретивший карловацкому архиерею, епископу Тихону (Лященко), священнослужение в пределах Германской епархии. Резкие высказывания против РПЦЗ со стороны митрополита Евлогия также имели место (см.: Церковные ведомости. 1926. №15-16. С. 11: Последние новости. 1926. №1976: Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1927. №1. С. 3-4).
С. 588 ...митрополитом Сергием, потребовавшим, чтобы все зарубежные священнослужители представили подписки, обязывающие их к лояльности по отношению к советской власти... Согласно постановлению заместителя Патриаршего Местоблюстителя и временного при нем Священного Синода от 1/14 июля 1927 г. за №105, русским иерархам за границей предлагалось дать письменное обязательство в такой форме: «Я, нижеподписавшийся, даю настоящее обязательство в том, что ныне состоя в ведении Московской Патриархии, не допущу в своей деятельности общественной, в особенности же в церковно-пастырской, ничего такого. что может быть принято за выражение моей нелояльности к Советскому Правительству». Отказавшиеся от такого обязательства исключались из клира, находящегося в ведении Московской Патриархии (см.: Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1927. №3. С. 4).
689
С. 589 ...по поводу сделанного митрополитом Сергием иностранным корреспондентам заявления, что Церковь в России не терпит никаких притеснений... Имеется в виду интервью митрополита Сергия (Страгородского) от 15 февраля 1930 г., подписанное также архиепископами Алексием (Симанским) и Филиппом (Гумилевским) и епископом Питиримом (Крыловым), а также интервью митрополита Сергия (Страгородского) от 18 февраля 1930 г. В настоящее время доказано, что вопросы и ответы этого интервью были написаны Молотовым и Ярославским. Редактировал интервью лично Сталин (Курляндский И.А. Сталин и «интервью» митрополита Сергия советским корреспондентам в 1930 г. // Российская история. 2010. №2. С. 158). Митрополит Сергий был вынужден подписать это интервью вследствие давления на него со стороны богоборческой власти (Косик О. Интервью митрополита Сергия (Страгородского) 15 февраля 1930 г. в восприятии современников // Ежегодная Богословская Конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 2008 г. М.: ПСТБИ. 2003. С. 267). Интервью вызвало большое возмущение в России и в эмиграции и стало одной из причин разрыва молитвенного общения Зарубежного Синода с митрополитом Сергием.
С. 589 ...епископ Серафим написал толстейшую книгу против Софианской ереси — имеется в виду книга епископа Серафима (Соболева) «Новое учение о Софии Премудрости Божией» (Нью-Йорк. Джорданвилль. Свято-Троицкий монастырь. 1993).
С. 590 Огромное влияние, каким пользовался епископ Серафим в Карловацком Синоде... Мнение о влиянии епископа Серафима (Соболева) на Карловацкий Синод сильно преувеличено протопресвитером. Ни один из современников не свидетельствует о том, что епископ Серафим играл значительную роль в Синоде Русской Зарубежной Церкви. Против мнения протопресвитера говорит и тот факт, что архиепископ Серафим неоднократно и часто безуспешно выступал против некоторых решений Архиерейского Синода РПЦЗ и состоял в переписке с иерархами, подчиненными Московской Патриархии.
С. 613 ...там, по Грибоедову, чужие были редки, а больше — женины и свояченины детки»... Ср.: «При мне служащие чужие очень редки; Все больше сестрины, свояченицы детки» (Грибоедов А. Горе от ума. Действие 2, явление 5).
С. 624 ...помог быстрому и безболезненному разрешению семидесятилетнего вопроса о Болгарской схизме... Схизма была связана со стремлением болгар, поддержанных турецким правительством, к независимости от Константинопольской Церкви и восстановлению собственной Поместной Церкви. 16 сентября 1872 г. Поместный Собор Константинопольской Церкви объявил Болгарскую Церковь схизматической, что, однако, не встретило поддержки со стороны ряда Поместных Церквей. В России против действий Константинопольской Патриархии выступали святитель Филарет (Дроздов) и святитель Феофан Затворник. Российская Церковь допускала сослужение с духовенством Болгарской Церкви, многие представители которой обучались в духовных учебных заведениях России.
690
В октябре 1924 г. Архиерейский Собор РПЦЗ, «не решая принципиального вопроса о болгарской схизме», разрешил русским епископам сослужить с болгарскими епископами. После вступления в Болгарию Красной армии Русская Церковь обратилась к Константинопольскому Патриарху Вениамину с просьбой начать переговоры с Болгарской Церковью. Это принесло результаты. 25 февраля константинопольские и болгарские иерархи впервые за 73 года совместно совершили литургию. 13 марта 1945 г. Священный Синод Константинопольской Церкви издал томос, согласно которому признавалась автокефалия Болгарской Православной Церкви.
С. 648... тогдашний Гродненский архиепископ... Имеется в виду архиепископ Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков).
С. 655 Рассказывали, что протопресвитер А.А. Желобовский в мае 1910 г.) предпринял было поездку на Дальний Восток, но, переехав Урал, из вагона не выходил... и дальше Омска не продвинулся... Протопресвитер Г.И. Шавельский не упоминает о поездке, совершенной протопресвитером А.А. Желобовским в 1903 г., в ходе которой глава военного духовенства посетил сибирские воинские части вплоть до Читы (см.: Вестник военного духовенства. 1904. №2. С. 54-58).
С. 660 ...В заключение скажу несколько слов об отношении ко мне Стефана... Далее повторно излагаются события, касающиеся митрополита Софийского Стефана, уже изложенные в XLI-XLIII главах, с незначительными нюансами и менее подробно.
С. 670 ...в 1916 г. был заточен в монастырь за скандальную историю с игуменией Ниной... Речь идет о клеветническом обвинении игумении Нины (Боянус), начальницы Спасо-Евфросиниевского женского духовного училища, в нецеломудренных отношениях с архиепископом Серафимом (Мещеряковым). В действительности их связывала многолетняя духовная дружба (с 1890-х гг.) и переписка. В результате скандала игумения Нина была освобождена от обязанностей начальницы училища, а владыка Серафим уволен на покой. Его письмо обер-прокурору Святейшего Синода В.Н. Львову от 15 марта 1917 г. рассмотрено не было в связи с событиями Февральской революции.
С. 670 Совет не решился дать Бронзову искомую степень и только после смерти Болотова... присудил докторскую степень... Докторская диссертация А.А. Бронзова «Преподобный Макарий Египетский» была защищена 5 апреля 1901 г. и отмечена премией митрополита Макария (Булгакова).
С. 672 ...в том же 1938 г. вышла книга иеромонаха Мефодия... Имеется в виду иеромонах, впоследствии архимандрит Мефодий (Жерев).
С. 681 Ставропольский Собор 1919 г. проявил удивительную солидарность с Томским Собором 1918 г., хотя об этом последнем Соборе стало известно на юге России лишь в июне 1919 г., значит, после Ставропольского Собора... Томский Собор состоялся 14 ноября — 3 декабря 1918 г. и сформировал высшее церковное управление для Сибири. Протопресвитер Г. Шавельский умалчивает, что о Томском Соборе и его решениях на юге России было известно еще до открытия Ставропольского Собора.
691
Упоминания о Сибирском церковном управлении содержатся в протоколах Предсоборной комиссии и в протоколах Ставропольского Собора, подписанных в числе других и протопресвитером Г.И. Шавельским. Крячко Н., священник. Учреждение Временного Высшего церковного управления на юго-востоке России в 1919 г. // Вестник церковной истории. 2008. №1 (9). С. 21.
А.А. Кострюков,
Е.Н. Егорова
692
Приложение
Воспоминания дочери протопресвитера Георгия Шавельского Марии Георгиевны
Мне было два года, когда в 1897 г. моя мать умерла. Я мало помню ее и знала о ней от родственников. Странно, но отец никогда не говорил мне о ней. Я слышала, что они любили друг друга очень нежно и ее смерть была большой трагедией для него. Это. возможно, было причиной его молчания.
Понимая, что умирает, мать просила, чтобы мой дядя и его жена взяли меня и воспитали в своей семье, так как у них не было собственных детей. Отец выполнил ее желание. После ее похорон он отвез меня в их дом в Витебске. Я родилась в том же самом доме. Когда мы прибыли, я сразу подошла к своему дяде, обняла его за шею и объявила моей тете, что не люблю ее и никогда не полюблю. После моего такого заявления тетя горько заплакала. Все это, однако, изменилось очень скоро — я нежно полюбила их обоих. Любовь, забота и преданность, которую они дали мне, были не сравнимы ни с чем. Казалось, что весь их мир был сосредоточен на том, чтобы мне было хорошо.
Из Витебска отец поехал в Санкт-Петербург, где поступил в духовную академию. Много лет спустя, уже здесь, в Нью-Йорке, я встретила профессора Антона Владимировича Карташева. Он был старым другом Георгия Новицкого, который устроил его, Карташева, поездку в Штаты. Карташев был профессором у моего отца в академии. Когда он узнал, что я дочь Шавельского, он приветствовал меня особенно дружественно. «Когда ваш отец приехал в академию, — сказал он, — высокий, тонкий, с таким открытым интеллектуальным лицом, он немедленно привлек наше внимание. Мы знали, что он сделается выдающимся богословом, и не ошиблись». Такой была моя первая встреча с Карташевым, и я была счастлива, что услышала такие слова о моем отце, которым я всегда очень гордилась.
Блестяще окончив академию, отец получил назначение в Суворовскую церковь. Он также получил должность учителя религии в Смольном институте. Живя с моими родственниками в Витебске, я редко видела отца. Он навещал нас и жил с нами в течение недели, и когда он уезжал, я громко плакала. Я также горько плакала, когда во время Русско-японской войны он отправился на фронт. Он писал мне довольно часто, и я ему тоже, хотя мои детские письма были, главным образом, полны такими событиями. что кошка Мурка заболела кашлем, что гусь ущипнул меня. Я узнала позже, что генерал Куропаткин любил читать мои письма, всегда сочувствовал моим проблемам и смеялся над моими забавами.
693
Когда мне было 10 лет, отец решил поместить меня в Смольный институт. Он обещал моей тете и дяде, что я буду ездить к ним на Рождество, пасхальные и летние каникулы. Дядя очень переживал мой отъезд и даже попытался убить себя, но, слава Богу, оружие вовремя выхватили из его руки. Его здоровье уxудшилось, на нервной почве стал развиваться диабет. Медицина тогда не была развита. Единственным средством против диабета была диета. Мой дядя не соблюдал эту диету и был ко всему безразличен до смерти.
Для меня началась новая жизнь. Сначала я сильно скучала по моим дяде и тете. Своего отца я знала плохо, и это было барьером между нами. Однако в институте я освоилась очень быстро. Я полагаю, что так обычно и происходит с детьми. Когда они отвлечены, они забывают свои печали и проблемы. Новая среда, новый образ жизни, много новых друзей. Это было захватывающим! (Смольный институт был школой-интернатом для аристократических девочек в Санкт-Петербурге на берегу реки Невы. Институт был закрыт летом 1917 г., во время Октябрьской революции, когда Ленин выбрал это здание для большевистского штаба. Советское правительство позже переместилось в Московский Кремль).
В Смольном нам разрешали ходить домой по выходным, если мы получали 12 баллов по поведению и не меньше 6 — по предметам. К сожалению, мое поведение не всегда удостаивалось высокой оценки и обычно у меня было 11 баллов. Я была живым, непослушным ребенком, полным невинных шалостей, а дисциплина в институте была очень строгой. Теперь, оглядываясь назад, кажется смешным, что из-за таких безобидных шуток нам снижали балл и не разрешали идти домой.
Оставаясь на выходные в институте, я не слишком переживала, поскольку отец был всегда занят и я обычно проводила время дома со слугами. Отцу понравилось дразнить меня, чего я терпеть не могла. Однажды, собрав всю свою храбрость, я ответила ему в той же самой манере, и поддразнивание прекратилось.
Отец был строг, возможно, даже слишком строг по нынешним временам, я всегда смотрела на него со страхом. Высокий, с красивым интеллектуальным лицом, он внушал восхищение и уважение. Видя, какого высокого мнения были люди о нем, как с уважением они слушали его, я чувствовала себя чрезвычайно гордой. В моем ребяческом уме сформировалось мнение, что он был лучшим и самым умным из всех.
Когда мне было 16 лет, я получила известие от отца, что мой дядя умер от диабета. Это было большим шоком для меня. Единственный раз в жизни я тогда упала в обморок. Я очнулась на больничной койке в институте и потом провела дома около двух недель.
694
По моему желанию отец попросил, чтобы моя тетя приехала и жила с нами. Я была очень счастлива, она стала мне второй матерью и дала мне такую любовь, будто я была ее собственным ребенком.
Я не окончила Смольный. Отец перевел меня в среднюю школу, чтобы я могла жить дома. Он тогда был назначен протопресвитером военного и морского духовенства. Хотя я все еще должна была в течение года учиться в школе, мне приходилось играть роль хозяйки дома. Должна признаться, что эта игра мне понравилась. Я должна была нанимать слуг, принимать и развлекать гостей, беседовать с людьми, которые были намного старше меня. И все это при постоянной тоске по молодежи и развлечениям!
Отец часто делал мне выговоры. Он внушал, что я не должна думать о своей физической красоте, а должна развить красоту внутреннюю. Я парировала, что прежде чем люди поймут мою внутреннюю красоту, они сначала должны восхититься внешностью. «Что я могу сделать? — говорил отец тете. — Она очень легкомысленна».
Несмотря на требования и строгость, мой отец был очень добрым и отзывчивым человеком. Я знала, что он дал трем своим братьям хорошее образование, а также поддержал трех студентов в их научных исследованиях. Он не был расточителен, всегда помня трудные времена, но везде, где нужна была помощь, он помогал людям.
Летом в течение 2-3 недель мы жили в сельской местности около Витебска. Отец любил ловить рыбу, которую я не любила, и собирать грибы, которые я тоже не любила. Мы вставали в 5 часов утра и шли в лес, соревнуясь друг с другом в сборе грибов. Какие замечательные грибы были в России! Мы их сушили, мариновали, солили. Иногда отец с наслаждением принимал участие в их заготовке.
Наш дом в Петрограде (недалеко от Зимнего дворца) имел особую атмосферу. На первом этаже находились рабочие помещения отца. На втором этаже и части третьего этажа были 12 наших жилых комнат. И на третьем этаже была домовая часовня отца. Это было хорошо устроенное, тихое и удобное место, очень способствовавшее размышлению и молитве.
С назначением главой духовенства армии и флота отец должен был оставить свою должность в Смольном институте, но связь с ним поддерживал. Начальница института княгиня Ливен (все девочки называли ее мамой) любила его и восхищалась им чрезвычайно. В свободные вечера отец имел обыкновение посещать институт и в кругу бывших учениц обсуждал религиозные темы. Однажды весь класс с руководительницей посетил наш дом. Какая это была картина! Просторная гостиная с прекрасными картинами и красивыми ковриками давала чувство неприну-
695
жденности и комфорта. Отец сидел в глубоком кресле, а на полу полукругом сидели девочки в темных форменных платьях с белыми рукавами и передниками, увлеченно слушая, боясь пропустить слово. Следовали вопросы и обсуждения. Был подан завтрак: пироги, леденцы, фрукты, горячий шоколад — все то, что так любят студенты. Здесь, в Нью-Йорке, я встретила некоторых студенток из Смольного и была тронута, услышав, как любовно они говорили об отце, их бывшем учителе.
Я видела отца очень редко, только в обеденное время. Помимо регулярных обязанностей он должен был посещать разные армейские церкви, знакомиться с подчиненным духовенством. Всюду ему дарили по старой традиции хлеб-соль, и скоро у меня составилась коллекция красивых вышитых полотенец, прекрасных фарфоровых, деревянных и серебряных подносов. Подношения отцу стали подарками для меня. Были и другие подарки. Особенно я наслаждалась пирогами «Вяземскими», которые позже я не могла найти нигде.
Наступил 1914 год. Тем летом я осталась с друзьями под Витебском. Отец приехал ненадолго и затем вернулся в Петроград. Я была еще в деревне, когда пришло известие о начале войны. Я немедленно упаковала вещи и уехала в Петроград.
Когда я добралась до нашего дома, отец принимал просителей. Я долго ждала своей очереди и, когда она подошла, попросила Ивана, нашего слугу, чтобы он впустил меня. Нужно видеть лицо моего отца, когда я вошла! Его очки соскользнули с носа, он строго смотрел на меня и наконец спросил: «Что ты делаешь здесь? Почему ты уехала из деревни?» Когда я сказала ему, что хочу выучиться на медсестру, он рассердился. Но я твердо стояла на своем. «Если я не смогу это сделать, — сказала я, — тогда и ты должен остаться в Петербурге». «У меня есть обязанности перед царем и Россией», — ответил он. «Это является и моими обязанностями», — ответила я. Отец прекратил спорить. В тот же самый вечер он позвонил Кауфману, которого он знал хорошо, прося, чтобы меня приняли в училище на медика.
Очень скоро отец уехал в Барановичи, где находился штаб Верховного командующего, а я начала учиться. Медицина всегда интересовала меня, и теперь я с нетерпением занялась любимым делом. Учебный курс был ускоренным (2 месяца вместо года), и довольно скоро наступил долгожданный день отъезда на фронт. Но сначала нас должны были представить императрице Марии Феодоровне (матери царя Николая). Мы стояли полукругом в большой приемной дворца. Императрица подошла к каждой из нас, мы представлялись. Когда она подошла ко мне, я сделала реверанс, как нас учили в институте, и поцеловала ее руку. Услышав мое имя, она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Мой сын (царь Николай) и я всегда любили и уважали вашего от-
696
ца. И теперь вы собираетесь следовать за ним к линии фронта. Да благословит вас Господь! Передайте ему мои поздравления». Как обрадовали меня ее слова! Скоро все было готово к переезду докторов, медсестер и санитаров на фронт.
В 1914 г., незадолго до того, как была объявлена война, к отцу приехал один священник, желавший вступить в ряды военного духовенства, и протянул листок бумаги. «От кого это?» — спросил отец. «Письмо от Григория Ефимовича», — был ответ. Действительно, письмо было от Распутина. «Дорогой, — говорилось там, — предоставь ему место по его желанию и помоги». Отец подошел к двери, широко открыл ее и попросил, чтобы человек немедленно уехал. «И никогда не приезжайте ко мне с такими письмами», — добавил он.
После этого инцидента его авторитет упал в глазах императрицы Александры Феодоровны, которая прежде хорошо относилась к нему. Еще две попытки повлиять на отца были предприняты столичным митрополитом Питиримом и Вырубовой. Они просили, чтобы отец использовал свое влияние на штаб, но отец был непреклонен в своем отказе. Он знал злое и вредное влияние, которое Распутин имел на царскую семью.
Госпиталь, где я работала, находился в Пинске (Минская область). Отец находился в штабе в Барановичах, не очень далеко (три с половиной часа езды). Таким образом, я могла время от времени навещать его.
У отца в распоряжении имелся специальный вагон, который присоединяли к поезду, когда он путешествовал. У меня не было такой роскоши. Я помню, как однажды, возвращаясь от отца, я должна была пересесть на одной станции. Не было никакого доступного транспорта, и я ехала в грузовом поезде, заполненном визжащими свиньями. Шум был оглушителен. «Концерт» свиней, сопровождаемый грохотом колес, трудно забыть.
Я отдавала сердце и душу госпиталю. Раненые солдаты поступали прямо с поля битвы. Как стоически они переносили боль! Но в то же самое время они, как дети, хотели внимания, заботы и любви. Да, я любила их всех, как мать, хотя они были старше, чем я. Их нежные слова, а также осознание того, что я облегчала их страдание, всегда наполняли меня счастьем. Когда я вспоминаю, как они были просты, нежны и добры, как искренне они готовы были отдать жизнь за царя и Россию, я задаюсь вопросом, как они могли превратиться в безжалостных животных, когда отец поднялся против своего сына и сын против отца?!
В конце 1915 г., к моему большому горю, я должна была оставить больницу по настоянию отца и моего жениха Хемелевского. Мои нервы были чрезвычайно напряжены, сердце ослаблено, и у меня началась анемия.
697
Скоро штаб был перемещен в Могилев. Сам царь принял верховное командование, а великий князь Николай Николаевич уехал на Кавказ. Его отъезд опечалил отца. Он был предан великому князю, который считал его другом. Перед войной великий князь часто приглашал отца в свое имение.
В России под влиянием Распутина условия становились все хуже и хуже. Многие высокопоставленные чиновники и несколько великих князей, возглавляемых Николаем Николаевичем, попросили, чтобы отец поговорил с царем. Я хорошо помню, что однажды отец решил встретиться с царем и любой ценой сказать ему об ужасе положения. Отец был очень честным, прямым и бесстрашным человеком. Он знал, что его не поймут, но полагал, что сказать царю правду было важно, чтобы не повторить прежних ошибок. «Пусть люди обвиняют меня, — говорил он, — но я говорю правду, и Бог тому свидетель».
Я помню, насколько печальным он возвратился. «Как все было?» — спросила я. Он с грустью ответил: «Было очень трудно сказать царю ужасную правду. Он слушал до конца и затем спокойно сказал: «Армия и россияне любят меня и императрицу, они доверяют нам и никогда не выступят против нас!» Никакие мои аргументы не могли подействовать. Он просто отказывается видеть реальность».
Первая революционная вспышка была в Волынском полку. Мы услышали стрельбу и выглянули из окна комнаты отца. Он перекрестился и сказал: «Пусть Бог поможет им всем». Он все еще надеялся, что с изменением в правительстве вся суматоха закончится. Увы. это оказалось не так!
В первые дни революции по приказу Керенского отец был арестован и помещен в здании Думы. Позже Керенский объяснил, что арест был мерой защиты от непослушных и озлобленных масс. Скоро отца отпустили.
Дни, которые последовали вслед за этим, были страшными. Обезумевшее население грабило и убивало без разбора. Слово «буржуй» стало приговором.
В январе 1918 г. я была повенчана в часовне частного дома отца, и мы с мужем уехали в Туркестан, где муж должен был контролировать строительство Семиреченской железной дороги. Все контакты с отцом прервались. Я не знала, жив он или мертв. В течение долгого времени я ничего не знала о нем, пока мы не встретились в 1923 г. в Болгарии после нашего побега от большевиков. В Туркестане мы должны были пережить вторую революцию. Мы с мужем работали в больнице, куда с поля битвы доставляли солдат. Мы работали по ночам, долгими часами находились под вражеским перекрестным огнем, под пулями, свистящими вокруг нас и вокруг умирающих. Каким чудом мы выжили, я не знаю! Однажды утром, возвращаясь домой для ко-
698
ротного отдыха, мы узнали, что город в руках красных. Они расстреливали всех должностных лиц, остававшихся в городе. Трупы они нагромождали на открытый катафалк и медленно возили его по улицам Ташкента. Это было сделано для того, чтобы люди видели происходящее из окон. Зрелище было ужасное! Позже мы узнали, что целью этих зверств были ловля и уничтожение бывших чиновников и «буржуев». Нам пришлось скрыться. Аресты и расследования продолжались днем и ночью. Арестовывались и правые, и левые. Людей вывозили за город и расстреливали. Все боялись за свои жизни, за жизни друзей и родственников. Весь город казался мертвым. Единственными звуками были революционные песни. Мой муж добился перевода в Бишкек на ирригационные работы. Там мы надеялись жить спокойно. Увы, мы просчитались! Революционная волна настигла нас снова, опять начались грабежи и стрельба.
Мы решили покинуть нашу страну, по крайней мере на некоторое время, пока не возвратятся безопасность и порядок. Мы сделали необходимые приготовления и наконец в 1922 г. уехали из Туркестана, этой красивой области, столь яркой и богатой. Мы должны были оставить могилу нашей дочери-первенца, которая умерла от недоедания в возрасте четырех месяцев — мое самое большое горе! Это был смертельный удар для нас.
Нам пришлось проехать 350 верст в телеге на волах через пустыню, опасные горные проходы и бурные реки. Но мы были молоды, и наше единственное желание состояло в том, чтобы сбежать так быстро, как только могли, и так далеко, настолько это возможно. Потребовалось много времени, но мы наконец добрались до станции Алма-Ата. Нас поместили в грузовой поезд, заполненный красноармейцами под командой молодого технологического студента. Поездка была кошмаром. На одной из остановок моего мужа вытащили из поезда и чуть не расстреляли. К счастью, он все еще носил инженерную форму, которая и спасла его. Служащий железной дороги вмешался, говоря, что этот молодой человек был «нашим» и находится на их стороне. Я уверена, что щедрое русское сердце заставило его сделать это. Думаю, что он просто сжалился над «молодым инженером». В нашем поезде было несколько сотен русских мужчин, женщин и детей, переданных китайцами большевикам на верную смерть.
Наконец мы приехали в Москву. Террор правил и там. Однажды на улице я увидела архиепископа Могилевского Константина, которого хорошо знала. Его вели под конвоем солдат. В отчаянии я побежала к нему, но солдаты перекрыли мне путь. Архиепископ узнал меня и сказал: «Марусенька, не подходите ко мне. Да благословит вас Господь!» — и за эти слова получил удар прикладом. Он был уведен на расстрел. В одной из московских газет я прочи-
699
тала слова о своем отце: «Этот человек убежал от нас». Узнав о том, что мой отец жив и покинул Советскую Россию, я обрадовалась. В тот же самый день мы уехали в Петроград, где жили родители моего мужа и две его сестры. Мы нашли их в очень нервозном состоянии. Аресты и перестрелки в Петрограде все еще продолжались. Квартира была очень холодной. Не имелось никакого топлива. Мы сидели в темноте, завернувшись в зимние пальто и одеяла. Единственной нашей едой были мороженый картофель и капуста. Хлеб был нормирован, и для получения его приходилось стоять в очереди многие часы. Это было ужасно!
Мы настроились уехать как можно скорее и начали готовиться к бегству, намереваясь продвигаться к Польше через Витебск и Полоцк. Печально было расставаться с родственниками. Мы знали, что больше никогда не увидим их. Красноармеец, которого мы подкупили 100 золотыми рублями, повел нас к польской границе. Ночь стояла чрезвычайно холодная. Мы шли по глубокому снегу, иногда проваливаясь по колено. Деревья потрескивали от мороза, иногда зловеще кричала какая-то птица. Это было ужасно, но мы шли вперед так быстро, как только могли, и старались ни на минуту не задерживаться. Бог знает сколько людей погибло, пересекая границу таким образом. У моего мужа были обморожены обе ноги. Я избежала этого, потому что обернула ноги газетами. На рассвете наш солдат сказал, что дальше мы должны двигаться без него. Мы обменялись рукопожатием и продолжили путь к небольшому сельскому дому, где находился начальник польских пограничников. Начальник оказался бывшим морским чиновником и, узнав, что моя девичья фамилия Шавельская, оказал нам теплый прием и накормил прекрасным обедом. Он тогда настоял, чтобы мы остались у него.
На следующий день, однако, он сказал нам, что, к его большому сожалению, он должен был сообщить о нас гражданским властям, так как мы пересекли границу незаконно. Мы ничего не могли сделать и под эскортом охраны были доставлены в Молодечно, где оказались в заключении. Местный начальник Михайловский сказал, что является бывшим студентом Московского университета. Он начал ворчать по поводу наших бумаг. Сомнение у него вызвало то, что в свидетельстве о рождении я была Шавельская, а по паспорту — Хмелевская. Было так смешно и глупо, что я не могла сдержаться и сказала: «Вы действительно уверены, что учились в университете? Вы не знаете простой факт, что каждый ребенок при рождении получает фамилию отца?» Михайловский разозлился.
В Молодечно мы были под арестом неделю. Нам намекали на взятку, и позже мы узнали, что если бы мы дали ее, то были бы отпущены на свободу. Но мы не стали платить и под охраной двух солдат со штыками были перевезены в Варшаву. Один из солдат,
700
бывший чиновник, узнав мою девичью фамилию, шепнул мне, что видел моего отца в Константинополе, а теперь он в Болгарии. Он предложил передать ему любое сообщение от меня. Я была очень счастлива услышать, что мой отец жив и в безопасности, но отклонила предложение, так как была слишком напугана и недоверчива.
В Варшаве нас поместили в тюрьму. Мужчины были отделены от женщин. Однако вскоре один из мужчин заболел брюшным тифом. Тогда всех остальных мужчин перевели в нашу секцию. Тюремные условия были ужасны. Мы спали на грубых мешках, наполненных соломой и бумагой. Помню, один заключенный еврей очень неспокойно спал, шуршал бумагой и постоянно всех будил. Был и забавный случай. Бывший чиновник лейб-гвардии Измайловского полка был выпущен из тюрьмы, но денег, чтобы снять комнату, у него не имелось. Он попросился опять в тюрьму, чтобы переночевать. Ему разрешили, и через него мы могли узнавать, что происходило в мире.
Наступила Пасха, церковные колокола звонили, и ужасная тоска проникла в мое сердце. Я спросила разрешения пойти на ночную службу, но мне было отказано. Я стояла у окна, слушая церковные колокола, и едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. Послышался шум ключа, открывавшего замок. Оказалось, пришел полицейский. Он приблизился ко мне, держа что-то в руках. Имя полицейского было Истер. Его жена испекла кулич, сделала пасху и покрасила несколько яиц. Все это он дал мне. Больше я не могла сдержать слез: столь тронута была добротой этого полицейского и его жены. Он сказал мне позже, что перед революцией он жил в Петрограде и работал сапожником.
Скоро мы узнали, что в Варшаве находится профессор Куницкий, бывший преподаватель моего мужа. Мы написали ему и на следующий день благодаря его вмешательству были освобождены. Увы, мы оказались в той же самой ситуации, как тот чиновник. Мы не имели никаких денег и должны были просить разрешения остаться на ночь в тюрьме. Позже мы продали некоторые из драгоценностей, которые сберегли в пути. Мы сняли комнату недалеко от Варшавы, в местечке, где американский Красный Крест открыл убежище для российских беженцев. Мой муж нашел дополнительный заработок, и мы смогли сэкономить деньги на дорогу в Болгарию.
Через несколько месяцев мы прибыли в Румынию, где вынесли оскорбительный допрос и обыск. Наконец, меня послали одну под охраной в Болгарию через Дунай. Меня посадили в какую-то коробку, к которой были приставлены двое солдат. Уныло я сидела, смотря на реку и пытаясь понять, сколько еще придется сидеть. Вдруг хорошо одетый еврей приблизился ко мне и дал мне чашку кофе и бутерброд. Весьма удивленная, я спросила, по-
701
чему он сделал это. Он ответил на французском языке: «Никто не знает, сколько времени вы должны сидеть здесь, и вы, конечно, проголодаетесь». Даже в изгнании и в иностранном государстве, думала я, есть добрые, сердечные люди.
Через 3-4 часа прибыл мой муж, и охрана оставила нас. Мы взяли наш багаж и отправились на поиски места, где поесть, нашли маленькое кафе и заказали кофе и хлеб. Когда официант отошел от нас. мы увидели советскую эмблему «Серп и молот» на стене, а также портреты Ленина и Троцкого. «Бежим отсюда, — сказал мой муж, — пока не поздно». И мы сбежали. Мы нашли другое кафе, которое было менее подозрительным, а затем сели на первый поезд в Софию. Отец не ждал нас, был счастливый, но растерянный и возбужденный. Мы пришли в замешательство, не зная, что сказать. Мой отец и моя тетя, которая жила с ним, громко плакали, а я могла только заикаться и рыдать.
Тогда отец жил в семинарии, где преподавал. Посетив семинарию, мы нашли его веселым, полным энергии, окруженным группой студентов и друзей. Сколько интересных людей мы встретили там — бывших чиновников, преподавателей и некоторых известных актеров! Отец был очень гостеприимен и счастлив приветствовать всех. Мы оставались с ним в течение приблизительно двух месяцев, затем переехали в Софию, где мой муж получил работу в профессионально-техническом училище, основанном американцами для обеспечения работой бывших российских чиновников, которые обучали болгар своей профессии.
До того времени денег мы не имели, но категорически отказывались брать что-либо у отца, который сам нуждался. Наш первый заработок мы получили от продажи грибов русскому ресторану. На эти деньги мы купили примус и смогли себе готовить. Мы жили в небольшой комнате, арендованной у болгарской семьи. Скоро в русской больнице, расположенной в красивом месте (Банка), у нас родилась маленькая Татьяна (5 февраля 1923 г.). Вся наша жизнь сосредоточилась на этом.
Отец все еще верил в скорое освобождение России, а мы решили уехать в Америку. С помощью Красного Креста и ссуды от банка мы смогли осуществить наш план. Позднее отец написал мне: «Хорошо, что вы уехали в Америку». Много людей провожало нас. Отец благословил меня, поцеловал и сказал: «Это последний раз, когда мы видим друг друга, Марусенька». Я думала тогда по-другому, но его слова сбылись.
Примечание. Текст воспоминаний М.Г. Шавельской предоставлен Ириной Георгиевной Марковой, правнучкой протопресвитера Георгия Шавельского.
702
Именной указатель
Абрамов Иван Федорович, студент Императорского историко-филологического института, впоследствии эмигрант, — 224
Абрамов Федор Федорович (1870-1963), генерал-лейтенант, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1898), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командовал дивизией, корпусом, участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, находился на о. Лемнос в Болгарии, в 1937-1938 гг. служил на должности председателя РОВС, после Второй мировой войны жил в США, погиб в автокатастрофе. — 599, 601, 602, 606-608
Абрамович, волостной писарь. — 82
Авраам, праотец. — 131, 567
Автухов Иосиф Григорьевич, одноклассник и друг протопресвитера Г.И. Шавельского, секретарь епископа Александра (Заккиса), надзиратель в Витебской духовной семинарии, секретарь Якутской консистории, затем служил в Военно-духовном ведомстве. — 31, 53-55, 58-60, 68, 69, 86, 89, 96, 106, 178
Агапит (Вишневский Антоний Иосифович, 1867-1924), архиепископ, в 1902 г. рукоположен во епископа Уманского, викария Киевской епархии. с 1903 г. епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии, с 1908 г. епископ Владикавказский и Моздокский, с 1911 г. — Екатеринославский и Мариупольский, с 1918 г. в сане архиепископа, умер в тюрьме. — 507, 509, 510, 513-515, 533-535
Агапов, подполковник, командир 2-го батальона 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны, был ранен. — 172
Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич, 1854-1928), святитель, митрополит, рукоположен во епископа Киренского, викария Иркутской епархии в 1889 г., с 1893 г. епископ Тобольский и Сибирский, с 1897 г. епископ Рижский и Митавский, с 1904 г. в сане архиепископа, с 1910 г. архиепископ Литовский и Виленский, с 1913 г. — Ярославский и Ростовский, с 1917 г. в сане митрополита, в 1922 г. Патриарх Тихон по причине своего ареста передал митрополиту Агафангелу право управлять Русской Церковью, в 1924 г. митрополит Агафангел был поставлен вторым кандидатом в Патриаршие местоблюстители, в 1926 г. по возвращении из ссылки митрополит Агафангел заявил о своих правах на должность местоблюстителя, но позже отказался от местоблюстительства ввиду несогласия митрополита Сергия (Страгородского) уступить свои права, в 1927 г. после «Декларации» митрополита Сергия митрополит Агафангел отказался признавать за митрополитом Сергием права управления, но в 1928 г. примирился с ним, канонизирован Московским Патриархатом в 2000 г. — 275
Агафодор (Преображенский Павел Флегонтович, 1837-1919), архиепископ Ставропольский, в 1888 г. рукоположен во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии, с 1891 г. епископ Сухумский, с 1893 г. епископ Ставропольский и Кавказский, с 1907 г. в сане архиепископа. — 507-513, 517, 633, 682
Агафонов Е.Ю. — 11
Агеев Константин Маркович (1868-1920), протоиерей (1915), профессор богословия, участник религиозно-философских собраний, расстрелян большевиками в Крыму. — 486
Адам, праотец. — 571
Адамович, петербургский иконописец. — 302
703
Азиатский Алексей Михайлович (1866-?). протоиерей, окончил СПбДА, кандидат богословия, в 1892 г. рукоположен во иерея, служил в храмах Санкт-Петербурга, с 1903 г. протоиерей, с 1910 г, служил в Казанском соборе. — 469
Аквилонов Евгений Петрович (1861-1911). протопресвитер, магистр богословия (1899). доктор богословия (1905). с 1899 г. доцент, с 1900 г. экстраординарный профессор кафедры введения в круг богословских наук, с 1905 г. ординарный профессор, в 1903-1910 гг. профессор богословия в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте. с 1910 г. протопресвитер военного и морского духовенства. — 11, 120, 214, 215, 223, 225, 233, 234, 236-238, 241, 242, 244, 245, 254, 293, 302, 442, 655, 657, 675
Акимов Михаил Григорьевич (1847-1914). действительный тайный советник, окончил юридический факультет Московского университета, с 1899 г. — сенатор уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената, с 1905 г. министр юстиции и генерал-прокурор, с 1906 г. член Государственного Совета, с 1907 г. председатель Государственного Совета. — 324
Александр (Закке-Заккис Андрей Георгиевич, 1834-1899), епископ, в 1883 г. рукоположен во епископа Острожского. викария Волынской епархии, с 1890 г. епископ Архангельский и Холмогорский, с 1893 г. епископ Полоцкий и Витебский. — 85, 88, 96, 109
Александр (Каковский, 1862-1935). архиепископ Варшавы в 1917-1918 гг., с 1919 г. кардинал и примас Польши. — 434
Александр (Немоловский Александр Алексеевич, 1875-1960), митрополит, в 1909 г. рукоположен во епископа Аляскинского, викария Алеутской епархии, с 1918 г. епископ Алеутский и Северо-Американский, с 1921 г. проживал в Константинополе, на Афоне, затем в Бельгии, с 1936 г. Константинопольским Патриархом утвержден архиепископом Брюссельским и Бельгийским. По окончании Великой Отечественной войны перешел под юрисдикцию Московского Патриархата, с 1945 г. архиепископ Берлинский и Германский, с 1948 г. — Брюссельский и Бельгийский. с 1959 г. в сане митрополита. — 106
Александр I Карагеоргиевич (1888-1934), король, с 1918 г. принц-регент Королевства сербов, хорватов и словенцев, с 17 июля 1921 г. король Королевства сербов, хорватов и словенцев, с октября 1929 г. король Югославии, убит террористом. — 562, 660
Александр I Павлович, (1777-1825), российский император в 1801-1825 гг. — 319, 320
Александр II Николаевич, (1818-1881), российский император в 1855-1881 гг. — 324.
Александр III Александрович (1845-1894), российский император в 1881-1894 гг. — 85, 286, 414, 415, 421
Александр Михайлович Романов (1866-1933), великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая 1. генерал-адъютант, адмирал, председатель Совета по делам торгового мореплавания (1900-1902). главноуправляющий торговым мореплаванием и портами (1902-1905). в годы Первой мировой войны заведовал авиационной частью действующей армии. — 272, 441, 442, 501
Александр Ярославич Невский (1221-1263), святой благоверный князь, великий князь Владимирский с 1252 г. — 70, 672
Александра Феодоровна (1872-1918), российская императрица, св. страстотерпица. — 242, 249, 305, 312, 321, 333, 337, 338, 401, 402, 406, 428, 429, 444, 455, 463, 466, 501, 516, 653, 697
704
Александров († 1904). подполковник, в Русско-японскую войну служил в 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, погиб в бою. — 175-177
Алексеев Константин Михайлович (1851-1917), генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой и Русско-китайской войн, в Русско-японскую войну командовал 5-й Восточно-Сибирской дивизией, в 1905-1906 гг. временно исполнял должность иркутского генерал-губернатора, в 1911 г. командовал 3-м Кавказским корпусом. — 290
Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918), генерал от инфантерии, участник русско-турецкой, русско-японской войн, в Первую мировую войну начальник штаба Юго-Западного фронта, командующий Северо-Западным фронтом, с 1915 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего, в 1917 г. Верховный главнокомандующий, с мая 1917 г. военный советник при Временном правительстве, один из организаторов Белого движения. — 7, 149, 158, 272, 282, 337, 338, 351, 352, 357, 360, 362, 364, 374, 402, 412, 417, 418, 422-424, 427, 429, 432-435, 437-443, 457, 459-461, 463-465, 467, 475, 476, 478, 481-483, 491, 505, 521, 554, 556, 675, 680, 681
Алексеев Николай Михайлович, сын генерала М.В. Алексеева. — 459
Алексеев Николай Николаевич (1875-1955), генерал-лейтенант (1920). окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1902), с 1914 г. командовал полком, дивизией, был начальником штаба армии. Участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, жил в Болгарии, с 1923 г. во Франции, в 1931 г. член учебного комитета Высших военно-научных курсов. Был председателем Союза российских кадетских корпусов. — 524, 525, 528
Алексеева (урожд. Немирович-Данченко), жена Н.М. Алексеева. — 459
Алексеева Анна Николаевна († 1960), урожденная Пироцкая, жена генерала М.В. Алексеева с 1891 г. — 282, 424, 459, 521, 675
Алексей Николаевич (1904-1918), цесаревич, св. страстотерпец, сын императора Николая II. наследник престола, расстрелян большевиками в Екатеринбурге. — 346
Алексий (Баженов Дмитрий Владимирович, 1872-1938), епископ, в 1902 г. окончил СПбДА со степенью кандидата богословия, в 1913 г. рукоположен во епископа Николаевского, викария Херсонской епархии, с 1918 г. епископ Елисаветградский, викарий Херсонской епархии, с 1921 г. епископ Тираспольский, временно управляющий Херсонской епархией. В 1922 г. перешел в обновленческий раскол, где получил сан «митрополита». В 1938 г. расстрелян по приговору «тройки» НКВД Крымской АССР. — 650
Алексий (Воронов Александр, † 1919), епископ, рукоположен во епископа Волчанского, викария Харьковской епархии в1918г., в 1919г. эвакуировался на юг России, умер от тифа в Новороссийске. — 538
Алексий (Кузнецов Николай Николаевич, 1875-1938), архиепископ, однокурсник протопресвитера Г.И. Шавельского по СПбДА, в 1916 г. рукоположен во епископа Дмитровского, викария Московской епархии, с 1917 г. епископ Сарапульский, викарий Вятской епархии, с 1918 г. епископ Сарапульский и Елабужский, с 1927 г. архиепископ, с 1933 г. архиепископ Пензенский, с 1934 г. архиепископ Тобольский, в том же году вновь назначен на Сарапульскую кафедру, неоднократно арестовывался, расстрелян в Ижевске. — 444, 445, 686
Алексий (Оконешников Василий Тимофеевич, 1873 — после 1911), иеромонах, выпускник КазДА (1902), в Русско-японскую войну судовой
705
священник на крейсере «Рюрик», в 1905 г. за подвиг (вывез из плена знамя корабля) награжден золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, в 1910 г. преподавал в Томской духовной семинарии, в 1911 г. настоятель храма Спас-на-Водах в Санкт-Петербурге. — 263. 264
Алексий (Соловьев Феодор Алексеевич, 1846-1928), преподобный, иеросхимонах, служил диаконом в Николо-Толмачевской церкви, затем священником в Успенском соборе Московского Кремля, в 1898 г. принял монашеский постриг в Смоленской Зосимовой пустыни, с 1916 г. в затворе, с 1923 г. после закрытия Зосимовой пустыни жил у духовной дочери в Сергиевом Посаде, в 2000 г. причислен к лику святых Московским Патриархатом. — 488
Алексий I (Симанский Сергей Владимирович. 1877-1970), Патриарх Московский и всея Руси, в 1913 г. рукоположен во епископа Тихвинского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1921 г. епископ Ямбургский, викарий Петроградской епархии, с 1922 по 1925 г. в ссылке, с 1926 г. архиепископ Хутынский, с 1932 г. митрополит Старорусский, с 1933 г. митрополит Новгородский, в том же году митрополит Ленинградский, с 1943 г. митрополит Ленинградский и Новгородский, с 1944 г. Патриарший местоблюститель, с 1945 г. Патриарх Московский и всея Руси. — 7, 558, 581, 610, 615-617, 620-626, 662, 664, 687, 690
Алексинский Иван Павлович (1871-1945), хирург, профессор, окончил медицинский факультет Московского университета, в качестве военного врача участвовал в Греко-турецкой и Русско-китайской войнах. Депутат Государственной Думы 1 созыва, с 1907 г. экстраординарный профессор кафедры пластической хирургии Московского университета, в 1911 г. подал в отставку в знак протеста против политики правительства, служил главным врачом в больнице Иверской общины, преподавал на Высших женских курсах, с 1919 г. в Добровольческой армии, с 1920 г, в эмиграции. Жил во Франции, где занимался частной медицинской практикой и общественной деятельностью, возглавлял Общество русских врачей, умер в Марокко. — 521, 561
Альбов Иван Федорович, священник храма Святого Иоанна Предтечи на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге, кандидат богословия, участвовал в религиозно-философских собраниях, переписывался с В.В. Розановым. — 133
Альтшуллер (Альтшиллер) Александр (1855 — после 1914), австрийский подданный, предприниматель, проживавший в Киеве и с 1910 г. в Санкт-Петербурге, друг В.А. Сухомлинова. Подозревался в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Весной 1914 г. покинул Россию. — 333.
Амвросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков, 1812-1891), преподобный. — 689
Аметистов Тихон Александрович (1884-1941), церковный деятель, выпускник СПбДА (1905), затем перешел на военную службу, окончил Николаевское кавалерийское училище и два курса Николаевской академии Генштаба в 1914 г., участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник, начальник разведывательного отделения штаба Крымско-Азовской добровольческой армии (1918), а затем Третьего армейского корпуса. Секретарь ВВЦУ на юге России (1919-1920), эмигрировал в Сербию через Константинополь (1920). был управляющим делами ВВЦУ за границей (1920-1922), жил в Германии, затем переехал во Францию, был секретарем Западноевропейской епархии, в 1941 г. был заключен немецкими властями в лагерь Компьен, скончался вскоре после освобождения. — 588
Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич. 1873-1965), митрополит, первоиерарх РПЦЗ, в 1906 г. рукоположен во епископа Серпу-
706
ховского, викария Московской епархии, с 1914 г. епископ Холмский и Люблинский, с 1915 г. епископ Кишиневский, с 1916 г. архиепископ Кишиневский и Хотинский, в 1919 г. эмигрировал, управлял русскими общинами в Константинополе, был представителем ВЦУ юга-востока России при Вселенском Патриархе, с 1924 по 1935 г. управлял русской духовной миссией в Иерусалиме, в 1935 г. помощник митрополита Антония. возведен в сап митрополита, с 1936 г. председатель Архиерейского Синода РПЦЗ, с 1945 г. жил в Мюнхене, с 1950 г. в США, с 1964 г. на покое. — 297, 534, 561
Анастасия Николаевна Романова (1868-1935), великая княгиня, урожденная княжна Черногорская, дочь черногорского князя (впоследствии короля) Николая, в первом браке за герцогом Юрием Лейхтенбергским, во втором браке за великим князем Николаем Николаевичем (младшим). — 270, 271, 339, 351, 357-359, 401, 407, 408, 434, 498, 679
Ангеларий (Ангеляр) Охридский, равноапостольный. — 592
Ангор-Процевненко Виктор Федорович, эмигрант, проживал в Болгарии. — 604, 605
Андреев Николай Андреевич (1849-1916), петроградский протоиерей, первый настоятель Феодоровского государева собора (1910-1916). — 321, 677
Андрей (Петков Стоян Николович, 1886-1972), архиерей Болгарской православной Церкви, в 1915-1915 гг. был фронтовым санитаром Русской армии, выпускник Софийской духовной семинарии (1909) и МДА (1916), автор множества богословских трудов, епископ Величский (1929-1947). с 1938 г. управлял Американской епархией БПЦ, с 1947 г. митрополит Американский и Австралийский, с 1969 г. (после разделения Американской епархии в США) митрополит Нью-Йоркский. — 569
Андрей (Ухтомский Александр Алексеевич. 1872-1937). епископ, князь, в 1907 г. рукоположен во епископа Мамадышского, викария Казанской епархии, с 1911 г. епископ Сухумский, с 1913 г. Уфимский и Мензелинский. в годы Гражданской войны был членом Сибирского ВЦУ. по окончании войны неоднократно арестовывался, в 1921 г. поставлен епископом Томским, но в управление епархией не вступил, с 1923 г. в ссылке в Средней Азии. Расстрелян в тюрьме по решению «тройки» УНКВД Ярославской области. Канонизирован РПЦЗ — 474, 475, 489
Андрей (Шептицкий Роман, 1865-1944), граф, униатский митрополит, предстоятель Украинской греко-католической церкви (1901-1944), доктор права, в 1888 г. принял монашество в ордене базилиан, с 1899 г. епископ Станиславский, с 1901 г. митрополит Галицийский, архиепископ Львовский и епископ Каменец-Подольский. После вступления Русской армии во Львов в 1914г. был арестован русскими военными властями по обвинению в антироссийской агитации, находился в ссылке в Киеве, Новгороде, Курске, Суздале, освобожден Временным правительством, с 1917 г. жил во Львове. — 383
Андрей Владимирович Романов (1879-1956), великий князь, сын великого князя Владимира Александровича; генерал-майор Свиты Его Величества, с 1915 г. командир лейб-гвардии Конной артиллерии, в 1920 г. эмигрировал, жил во Франции. — 441
Андрей, крестьянин с. Азарково. — 101
Антоний (Вадковский Александр Васильевич, 1846-1912). Митрополит, окончил КазДА, магистр богословия (1871), доктор церковной истории (1895), в 1883 г. пострижен в монашество, с 1887 г. ректор СПбДА, в 1887 г. рукоположен во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1892 г. архиепископ Финляндский и Выборгский, с 1898 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, постоянный
707
член Святейшего Синода, с 1906 г, член Государственного Совета. — 9, 113-115, 117, 118, 125, 138, 141, 143, 212, 436, 493, 596, 597, 620, 643, 648, 649, 672, 676
Антоний (Зубко Антоний Григорьевич. 1797-1884), архиепископ, с 1834 г. униатский епископ Брестский, в 1839 г. воссоединился с Православной Церковью, с 1840 г. епископ Минский и Бобруйский, с 1841 г. в сане архиепископа, с 1848 г. находился на покое. — 216
Антоний (Каржавин Александр Николаевич, 1858-1914), архиепископ, магистр богословия, в 1895 г. рукоположен во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии, с 1897 г. епископ Тобольский и Сибирский, с 1910г. архиепископ Тверской и Кашинский. — 292
Антоний (Марченко (Марценко) Александр Францевич, 1887-1951), архиепископ, в годы Гражданской войны клирик Ставропольской епархии. архимандрит, в 1919 г. благочинный кавалерийского корпуса, с 1920 г. в эмиграции, с 1922 г. проживал в Польше, в 1923 г. рукоположен во епископа Люблинского, викария Варшавско-Холмской епархии, в 1926 г. уволен с кафедры за несогласие с полонизацией духовных школ, с 1930 г. епископ Камень-Каширский, викарий Пинско-Полесской епархии, в 1940 г. воссоединился с Московской Патриархией, назначен викарием Волынской епархии с прежним титулом, с 1941 г. в сане архиепископа. с 1941 по 1944 г. архиепископ Одесский и Херсонский, с 1944 г. настоятель русской церкви в Карловых Варах, с 1946 г. архиепископ Орловский и Брянский, в том же году поставлен архиепископом Тульским и Белевским, в 1951 г. арестован, умер в заключении. — 509
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович, 1863-1936), митрополит, первоиерарх РПЦЗ, окончил СПбДА, магистр богословия (1888), доктор богословия (1911), в 1890 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии, с 1891 г. ректор МДА. с 1895 г. ректор КазДА, в 1897 г. рукоположен во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, с 1899 г. епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии, с 1900 г. епископ Уфимский и Мензелинский, с 1902 г. епископ Волынский и Житомирский, с 1906 г. в сане архиепископа, с 1912 г. член Святейшего Синода, с 1914 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский, с 1918 г. митрополит Киевский и Галицкий. Товарищ Председателя Священного Собора 1917-1918 гг.. с 1921г. проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, был председателем Высшего церковного управления заграницей, с 1922 г. председатель Архиерейского Синода РПЦЗ. — 4, 5, 115, 330, 341, 382, 385, 430, 456, 470, 484-489, 495-497, 533, 534, 537-541, 543, 546-549, 552, 553, 568, 586, 588-590, 596, 630, 631, 648, 653, 660, 688
Антонин (Державин Иван Дмитриевич, 1830-1902), епископ, в 1883 г. рукоположен во епископа Старицкого, викария Тверской епархии, с 1886 г. епископ Ковенский, викарий Литовской епархии, с 1889 г. епископ Полоцкий и Витебский, с 1893 г. епископ Псковский и Порховский. — 60, 63, 67, 68
Антоновский Михаил Андреевич, диакон при главном священнике 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны. — 184, 186
Аполлинарий (Кошевой Андрей Васильевич, 1874-1933), архиепископ. в 1917 г. рукоположен во епископа Рыльского, викария Курской епархии, с 1918 г. епископ Белгородский, викарий Курской епархии, в 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1922-1923 гг. управляющий русской духовной миссией в Иерусалиме, с 1923 г. проживал в США, с 1924 г. епископ Виннипегский, викарий Северо-Американской епархии, затем епископ Детройтский. После отделения митрополита Платона (Рождественского) от РПЦЗ остался в ее юрис-
708
дикции, с 1927 г. епископ Северо-Американский и Сан-Францисский, с 1928 г. в сане архиепископа, с 1929 г. архиепископ Северо-Американский и Канадский. — 538
Апраксин Петр Николаевич (ок. 1876-1962), граф, государственный и церковный деятель, секретарь императрицы Александры Феодоровны, занимал должности Воронежского вице-губернатора, Таврического губернатора. Участник Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и Ставропольского Собора 1919 г, в годы Гражданской войны находился на юге России, с 1920 г. в эмиграции, участник Карловацкого Всезарубежного Собора 1921 г., впоследствии член епархиального совета Западно-Европейской епархии РПЦЗ. — 516, 554
Аркадий Кипрский († ок. 361), преподобный. — 672
Аркадов Андрей, священник в г. Двинске. — 299
Арндт, полковник Добровольческой армии, председатель Союза офицеров тыла и фронта. — 548, 549, 552, 553
Арсений (Смоленец Александр Иванович. 1873-1937), архиепископ, в 1910 г. рукоположен во епископа Пятигорского, викария Владикавказской епархии, с 1912 г. епископ Старицкий Тверской епархии, с 1917 г. епископ Приазовский и Таганрогский, с 1918 г. управлял Ростовской епархией, в 1920-1922 гг. епископ Ростовский, с 1925 г. управлял Минской епархией, с 1927 г. архиепископ Ставропольский, затем Сталинградский, с 1930 г. — Крымский, с 1931 г. — Орловский, с 1932 г. на покое, с 1935 г. архиепископ Семипалатинский, в епархию не поехал, последние годы жизни провел в Таганроге. — 513, 514, 533, 539
Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич, 1862-1936), митрополит, доктор богословия (1904), в 1899 г. рукоположен во епископа Волоколамского, викария Московской епархии, с 1903 г. епископ Псковский и Порховский, с 1910 г. архиепископ Новгородский и Старорусский. На Всероссийском Церковном Соборе 1917-1918 гг. был одним из кандидатов на Патриарший престол, с 1917 г. в сане митрополита, в 1922-1924 гг. находился в заключении, с 1926 г. в ссылке в Средней Азии, с 1933 г. митрополит Ташкентский и Туркестанский. — 446-448, 451, 453, 487, 488, 622
Арсений О., священник с. Велище Витебской епархии. — 82, 87, 104
Артамонов Леонид Константинович (1859-1932), генерал от инфантерии (1913), путешественник, действительный член Императорского русского географического общества с 1882 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба, совершил ряд разведывательных экспедиций по приграничным областям Турции, Персии, Афганистана, в 1897 г. был начальником конвоя русской миссии в Абиссинии, с войсками негуса Менелика II совершил экспедицию к Белому Нилу, участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае, в русско-японской и Первой мировой войнах. После неудачных действий в Восточной Пруссии зачислен в резерв, в 1917 г. командовал дивизией, после революции жил в Москве, Новгороде, Ленинграде. — 356, 362, 364, 365. 422
Архангельский († 1904), подпоручик, в русско-японскую войну служил в 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, погиб в бою. — 177
Архангельский Александр Андреевич (1846-1924), хоровой композитор и дирижер, заслуженный артист республики (1921), эмигрировал, умер в Праге. — 396, 397
Архангельский Михаил, протоиерей, кандидат богословия, законоучитель Тифлисского военного училища. — 289
Архангельский Сергий А., протоиерей лейб-гвардии Семеновского полка, до 1911 г. возглавлял свечной завод Военно-духовного ведомства. — 254, 256, 325
709
Арцишевский Александр Владиславович (1870 — после 1941), генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генштаба (1903), участник Первой мировой войны (был начальником этапно-хозяйственных отделов разных армий, командиром 81-го пехотного Апшеронского полка), участник Белого движения во ВСЮР (на штабной и снабженческой работе, в эмиграции во Франции, с 1941 г. гражданин Болгарии. — 575, 577, 579
Астахов Леонтий Назарьевич (1870-1930), протоиерей, товарищ Г.И. Шавельского по Витебскому духовному училищу и семинарии, окончил Витебскую духовную семинарию в 1892 г., преподавал в течение 6 лет в народном училище, затем служил приходским священником в с. Прудники Полоцкой епархии, с 1902 г. военный священник, участник Русско-японской войны (иерей 20-го пехотного Галицкого полка), в 1905 г. священник 6-й пехотной дивизии, с февраля 1912 г. настоятель Благовещенского военного храма в Вильно, позднее настоятель Казанской гарнизонной церкви в кремле г. Казани и благочинный неподвижных церквей Казанского военного округа, участник Первой мировой войны (главный священник 1-й армии и ее штаба), с января 1919 г. главный священник штаба Западной армии войск адмирала А.В. Колчака, в 1930 г. служил в церкви с. Антоновка Казанской области Камско-Устьинского района, арестован, расстрелян по приговору «тройки» ОГПУ. — 28, 83
Астров Николай Иванович (1868-1934), политический деятель, один из учредителей Партии кадетов, после Октябрьского переворота член «Национального центра» и других антибольшевистских организаций, в годы Гражданской войны находился в Добровольческой армии, с 1920 г. в эмиграции, создатель Русского заграничного исторического архива в Праге. — 504, 521
Афанасий Великий († 373), святитель, архиепископ Александрийский. — 569
Афанасий (Любимов Алексий Артемьевич, 1641-1702), архиепископ Холмогорский и Важеский с 1682 г., автор богословских сочинений, участвовал в борьбе со старообрядческим расколом. — 138
Бабкин, овцевод, общественный деятель на Северном Кавказе в годы Гражданской войны — 503
Баженов Владимир, митрофорный протоиерей, настоятель Севастопольского собора, отец епископа Алексия (Баженова), один из инициаторов строительства Покровского собора в Севастополе. — 650, 651
Базанов Иван Александрович (1867-1943), русский юрист, доктор права, профессор Томского и Софийского университетов, глава Русского учебного комитета в Болгарии. — 578
Байов Алексей Константинович (1871-1935), генерал-лейтенант, с 1896 г. служил в Генштабе, с 1903 г. правитель дел Академии Генштаба, с 1906 г. профессор кафедры истории военного искусства, член военно-исторической комиссии по описанию истории Русско-японской войны. Участник Первой мировой войны, после Октябрьской революции возглавлял комиссию по приведению в порядок исторических архивов, в 1919 г. вместе с войсками генерала Юденича ушел в Эстонию. — 149, 208, 218
Балашов Н., протоиерей. — 11
Балинский Игнатий Иванович (1867-1920), полковник, управляющий конторой двора великого князя Николая Николаевича (1908-1917), генерал-майор (с 1916), в отставке с сентября 1917 г., проживал в Крыму, арестован ЧК и расстрелян в декабре 1920 г. в Ялте. — 354, 355
Барановский Владимир Львович (1882-1931), генерал-майор, окон-
710
чил Николаевскую военную академию Генерального штаба (1910), в Первую мировую войну был на штабной работе, во время Февральской революции член Военной комиссии Временного комитета Государственной Думы, в 1917 г. был начальником кабинета военного министра Керенского. генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта, с 1918 г. на преподавательской работе в РККА, в 1921 г. в штабе РККА, в 1921-1924 гг. начальник оперативно-строевого отдела управления связи РККА, затем военрук Института повышения квалификации народного образования и главный военрук московских вузов, в 1931 г. арестован, осужден на 10 лет лагерей, умер в СибЛАГе. — 476
Барк Петр Львович (1869-1937), российский государственный деятель, с 1914 г. министр финансов, в 1915-1917 гг. член Государственного Совета. Помогал осуществлять финансирование Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, жил в Великобритании, где занимался банковской деятельностью, вел финансовые дела представителей Российского императорского дома. — 411, 679
Барсов Тимофей Васильевич (1838-1904), профессор канонического права, в 1863 г. окончил СПбДА (1863), магистр богословия, доктор канонического права (1888), заслуженный экстраординарный профессор канонического права (1889), обер-секретарь при Святейшем Синоде, член-делопроизводитель комиссии по устройству управления церквами и духовенством военного ведомства. — 120
Баскаков Вениамин Иванович (1861-1941), генерал-лейтенант, в 1898-1904 гг. профессор Николаевской академии Генерального штаба, участник Русско-японской войны, по окончании которой вышел в отставку, в 1920 г. представитель Терского казачьего войска на Верховном Круге в Екатеринодаре, с 1920 г. в эмиграции, скончался в Югославии. — 149, 214
Батьянов Михаил Иванович (1835-1916), генерал от инфантерии, участник Крымской и Русско-японской войн, командир 3-й Маньчжурской армии в 1904-1905 гг., с 1911 г. в отставке. — 180
Батюшин Николай Степанович (1874-1957), генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Белого движения, автор книги «Тайная военная разведка и борьба с ней», в эмиграции проживал в Югославии, преподавал в белградском отделении Высших военно-научных курсов генерала Н.Н. Головина, в 1921-1922 гг. член Зарубежного ВЦУ, умер в Бельгии, останки перенесены в Россию. — 463, 688
Бачинский Михаил Львович (1858-1937), генерал-лейтенант, выпускник геодезического отделения Николаевской академии Генштаба (1889). участник Русско-японской войны (последовательно командир 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 2-й бригады 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 2-й бригады 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии) и Первой мировой (командующий 11-й пехотной дивизией. 7-м Сибирским армейским корпусом), участник Белого движения, в эмиграции вел активную лекционную работу, умер в Париже. — 165, 269
Безобразов Владимир Михайлович (1857-1932), генерал от кавалерии (1913), участник Русско-турецкой и Первой мировой войн, командующий гвардейским отрядом (1915) и войсками гвардии (1916), был отстранен от должности, с 1917 г. в отставке, после октябрьского переворота эмигрировал, жил в Дании и во Франции, был участником монархического съезда в Рейхенгалле в 1921 г. — 364, 365, 428
Белгородский А., историк, автор книги «Киевский митрополит Иерофей Малицкий (1796-1799)» (Киев. 1901). — 678
711
Белин Иван Владимирович, преподаватель русской гимназии в Софии. — 579, 580
Белинский Стефан Михайлович (1870-?), военный священник, товарищ Г.И. Шавельского по Витебской духовной семинарии, выпускник 1893 г., священник охранной стражи Китайской восточной железной дороги (1898), 2-й пограничной бригады Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи (до 1902 — после 1904), 216-го пехотного Инсарского полка (1904), 55-й пехотной дивизии (1905), Витебской военной Николаевской церкви (1906), благочинный Двинских военных неподвижных церквей (1907), священник 44-й артиллерийской бригады (1913). — 300
Белосельская-Белозерская Надежда Дмитриевна (урожденная Скобелева, 1847-1920), княгиня, сестра М.Д. Скобелева, председательница Скобелевского комитета помощи увечным и раненым воинам. — 227
Белоусов И., псаломщик в храме с. Усвяты Витебской епархии. — 70
Белоусов Иван Максимович (1869-1932), генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генштаба (1904), в Первую мировую войну командовал дивизией, был начальником штаба корпуса, участник Белого движения, с ноября 1918 г. комендант главной квартиры Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал, проживал в Югославии, служил в Югославской армии. — 502
Беляев Михаил Алексеевич (1863-1918), генерал от инфантерии (1914), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1893), участник Русско-японской войны, с 1914г. исполняющий должность начальника Генерального штаба (утвержден в должности в 1916), с 1915 г. помощник военного министра, в 1916 г. начальник Генерального штаба, затем член Военного совета и представитель русского командования при румынской главной квартире, с января 1917 г. военный министр, арестовывался Временным правительством, в 1918 г. арестован органами ЧК и расстрелян. — 458
Беляев, полковник, эмигрант, проживал в Болгарии. — 605
Бендасюк Семен Юрьевич (1877-1965), общественный и церковный деятель, журналист, защитник православия в Галиции, в 1913 г. привлекался австро-венгерскими властями по обвинению в государственной измене, был оправдан. Впоследствии жил в России, затем в США, после Первой мировой войны жил во Львове. — 385, 386
Бенкендорф Павел Константинович (1853-1921), граф, генерал от кавалерии (1912), обер-гофмаршал двора, член Государственного Совета, в 1921 г. получил разрешение на выезд из России, умер в больнице возле эстонской границы. — 410
Бергнер Карл Иванович, врач Витебского духовного училища. — 24
Бернов Евгений Иванович (1855-1917), генерал от инфантерии (1917), участник Русско-турецкой войны, с 1907 г. генерал-майор, с 1911 г. в Свите Его Императорского Величества, с августа 1917 г. в отставке, скончался 19 сентября 1917 г. в Петрограде. — 248
Бирюзов Сергей Семенович (1904-1964), маршал Советского Союза (1955), участник Великой Отечественной войны, по окончании которой был заместителем председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии и главным советником Болгарской армии, в 1963-1964 гг. 1-й заместитель министра обороны, начальник Генштаба СССР. — 615
Благовещенский Александр Александрович (1854-?), генерал от инфантерии (1912), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командир корпуса, после неудачного похода в Восточную Пруссию снят с должности, с 1915 г. в отставке. — 181, 362, 364, 374, 422
712
Благовещенский Петр Афанасьевич (1836-1915), протоиерей, выпускник СПбДА, кандидат богословия, служил священником дворцовых церквей на мызе Знаменка (с 1861), в Петергофе (с 1871), Зимнем дворце (с 1886), духовник императора Александра Ш и его супруги, с 1911 г. протопресвитер придворного духовенства. — 239
Блажевич Владимир Васильевич, священник с. Вировль Витебской епархии, благочинный, затем священник с. Топоры Невельского уезда. — 98, 134, 210, 211
Блажевич Матрена Дмитриевна, жена священника В.В. Блажевича. — 99, 210, 211
Блажевич Митрофан Викторович (1869-1941), протоиерей, одноклассник протопресвитера Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, полковой священник Гусарского полка, георгиевский кавалер, с октября 1913 г. настоятель Софийского собора в Царском Селе, депутат III Государственной Думы (Русская национальная фракция), в советское время проживал в Ленинграде, умер во время блокады. — 53-55, 58, 59, 84, 87, 98
Бобринский Георгий Александрович (1863-1928), граф, генерал от инфантерии, участник Русско-японской войны, с 1914 г. генерал-губернатор Галиции, в 1917 г. уволен со службы, эмигрировал, жил в Латвии и Франции. — 388-391
Бобровский Иван Никифорович, протоиерей, духовник Витебской духовной семинарии. — 46
Бобырь Николай Павлович (1854-1920). генерал от кавалерии (1911), участник Русско-турецкой и Первой мировой войн, комендант Новогеоргиевской крепости, в 1915 г. сдался в плен, в Гражданской войне не участвовал, расстрелян большевиками в Ялте. — 277
Богаевский Африкан Петрович (1872-1934), генерал-лейтенант (1918), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900), участник Первой мировой войны, командовал дивизией, был начальником штаба корпуса, с 1919 г. атаман Войска Донского, в 1920 г. начальник Южно-Русского правительства, затем эмигрировал, жил во Франции, участвовал в деятельности РОВС, занимался издательской деятельностью. — 545
Богданова Т.А. — 683
Богданович Иван Филиппович, помощник смотрителя Витебского духовного училища. — 19, 22, 23
Боголюбов Алексей Никанорович, священник кафедрального собора в Витебске, преподаватель Витебской духовной семинарии. — 40
Боголюбов Андрей Эрастович (1867-1937), священник, выпускник СПбДА (1892), кандидат богословия, чиновник Ведомства военно-морского духовенства, составитель нескольких книг, в числе которых «Очерки из истории управления военным и морским духовенством в биографиях главных священников его за время с 1800 по 1901 г.» (извлечения из «Вестника военного духовенства», СПб, 1901), «Памятная книга военного и морского духовенства на 1912-1914 гг.», после Октябрьской революции священник церкви в с. Чудь Череповецкого района Ленинградской области. расстрелян по приговору «тройки» УНКВД. — 253
Боголюбов Федор Александрович (1864-1937), митрофорный протоиерей, член духовного правления военно-морского духовенства, служил в храмах Санкт-Петербурга, в 1937 г. расстрелян по приговору особой «тройки» УНКВД по Ленинградской области. — 256, 340, 677
Богородицкий Константин Николаевич (1863-1922?), митрофорный протоиерей, окончил КазДА в 1887 г., настоятель ташкентского Преображенского военного собора, в Первую мировую войну главный свя-
713
щенник Северо-Западного фронта, затем главный священник Западного фронта, участник Поместного Собора 1917-1918 гг., имел многочисленные церковные и государственные награды, был полным кавалером ордена Св. Анны. Скончался от инфаркта в Ташкенте. — 332-334, 347, 367, 368
Божерянов П.А., эмигрант, проживал в Болгарии. — 605
Болбот, оперный певец, псаломщик 33-го Восточно-Сибирского полка, участник Русско-японской войны. — 163, 169, 170, 172, 173, 177
Болотов Василий Васильевич (1854-1900), историк Церкви, востоковед, окончил СПбДА, в 1879 г. получил степень магистра богословия, с 1879 г. доцент по кафедре древней церковной истории СПбДА, с 1884 г. экстраординарный профессор, с 1896 г. ординарный профессор и доктор церковной истории, с 1893 г. член-корреспондент Императорской академии наук. — 6, 112, 117, 118, 122, 132, 582, 590, 670, 671
Болотов Владимир Васильевич (1856-1938), генерал-лейтенант (1910), в 1910-1917 гг. командовал дивизией, участник Белого движения, с 1920 г. проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. — 522
Болховитинов Леонид Митрофанович (1871-1925), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1898), участник Русско-китайской и Русско-японской войн, в Первую мировую войну исполняющий должность генерал-квартирмейстера Кавказской армии, затем исполняющий должность начальника штаба Кавказской армии, позже командовал корпусом на Западном фронте, в 1918 г. в РККА и в том же году в Добровольческой армии, где разжалован в рядовые, но за отличия в боях восстановлен в генеральском чине, в 1920 г, военный министр Кубанского правительства, с 1920 г. в эмиграции, обвинялся в том, что, находясь в Добровольческой армии, был сотрудником ЧК, покончил жизнь самоубийством. — 522, 525, 530, 531, 682
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870-1956), генерал-лейтенант (1944), окончил Московский университет и Николаевскую академию Генерального штаба, участник Первой мировой войны, в 1915 г. генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта, начальник штаба Северного фронта, в 1917 г. временно исполнял обязанности командующего Северным фронтом, после Октябрьского переворота начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего, затем руководитель Высшего военного совета, с 1918 г. в РККА, в 1919 г. был начальником Полевого штаба РККА, с 1923 г. начальник Высшего геодезического управления, с 1923 г. в отставке, комдив (1937), в 1925 г. основал Государственное техническое бюро «Аэрофотосъемка», в 1931 г. был арестован ОГПУ, но затем отпущен. — 678
Борис (Борис Клемент Роберт Мария Пий Луи Станислав Ксавие Саксен-Кобург-Готский, 1894-1943), царь Болгарии в 1918-1943 гг. — 603
Борис Владимирович Романов (1877-1943), великий князь, сын великого князя Владимира Александровича, внук императора Александра II, генерал-майор Свиты Его Величества, в годы Первой мировой войны командовал лейб-гвардии Атаманским полком, был походным атаманом всех казачьих войск при Ставке Верховного главнокомандующего, с 1917 г. в эмиграции. — 272, 339, 441, 442
Борис (Георгиев Константин, 1875-1938), митрополит Охридский (1910), член Синода БПЦ (1918-1924), однокурсник протопресвитера Г.И. Шавельского по СПбДА. В 1910 г. рукоположен во епископа Моравского, в том же году избран Охридским архимандритом. С 1924 г. постоянный член Св. Синода, в 1924 — 1936 гг. представитель БПЦ в Константинополе. С 1936 г. жил на покое в Рыльском монастыре. Автор трудов по литургике. — 562-565, 682
714
Борис (Плотников Владимир Владимирович, 1855-1901), епископ, выпускник КазДА, духовный писатель, был настоятелем посольской церкви в Константинополе, ректором СПбДА, в 1899 г. рукоположен во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. — 117, 134, 136-138, 671
Борис Прохорович, крестьянин с. Азарково Витебской губернии. — 102
Борис (Рукин Борис Андреевич, 1879-1931), епископ. В 1923 г. рукоположен во епископа Можайского, викария Московской епархии. В 1925 г. стал одним из организаторов григорианского раскола, титуловался «митрополитом Московским». В 1931 г. арестован, скончался в тюрьме. — 688
Борис Федорович Годунов (1551-1605), русский царь с 1598 г. — 303
Борис, диакон (с 1919), секретарь епископа Иоанна (Левицкого). — 535
Борисов Вячеслав Евстафьевич (1861-1941), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1890), участвовал в Русско-китайской войне, в годы Первой мировой войны состоял в распоряжении главнокомандующего армиями Северо-Западного (затем Западного) фронта. Генерал для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего (с 1916) и при Верховном главнокомандующем (с 1917). После Октябрьской революции был на преподавательской работе в РККА, затем выехал за границу, жил в Югославии. — 439
Борисович Иван Симонович, священник с. Городец Витебской епархии. — 70
Борисович Николай, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, выпускник 1891 г. — 54
Борисович, вдова (г. Витебск). — 20, 21, 26
Боровиковский Бладимир Лукич (1757-1825), известный русский художник. — 245
Бортнянский Дмитрий Степанович (1751-1825), выдающийся композитор, автор церковной музыки. — 437
Боярский (Сегенюк) Александр Иванович (1885-1937), протоиерей, выпускник СПбДА (1911), кандидат богословия, сторонник «христианского социализма», в 1912 г. рукоположен в сан иерея, служил на пограничной станции Вержболово, в Первую мировую войну стал полковым священником, в 1915 г. недолго занимал пост смотрителя Виленского духовного училища, затем служил в Петрограде и в Троицком храме в Колпине, в 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, в 1933 г., будучи в браке, был рукоположен во «епископа» Ивановского и Кинешемского, впоследствии «митрополит» Иваново-Вознесенский, арестован и расстрелян в тюрьме в г. Иваново. — 10, 301, 466, 477, 480, 657
Бредов Николай-Павел-Константин Эмильевич (1873-1945), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1901), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командовал полком, дивизией, корпусом, с 1918 г. в Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал, проживал в Болгарии, после вступления советских войск в Болгарию арестован и вывезен в СССР. — 608
Бредов Федор-Михаил Эмильевич (1884-1959), генерал-майор (1921), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1909), участник Первой мировой войны, с 1915 г. после падения Новогеоргиевска находился в германском плену, по возвращении из плена с 1918 г. в Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал, жил в Болгарии. Во время Второй мировой войны вступил в Русский охранный корпус, после войны переехал в США. умер в Сан-Франциско. — 602
715
Бренев Василий Дмитриевич (1874-1943), священник 18-го Туркестанского стрелкового полка, 6-го Закаспийского стрелкового батальона в г. Мерве Закаспийского края, в 1915 г. священник-настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Мариенбурге. в 1921 г. служил в Севастополе, был женат на двоюродной сестре А.П. Чехова Александре Митрофановне. — 335
Бренев, купец-фабрикант, староста церкви 2-го Гренадерского полка. — 279, 302
Бриллиантов Александр Иванович (1867-1933). историк Церкви, богослов, с 1900 г. занимал кафедру общей церковной истории СПбДА. в 1914 г. удостоен степени доктора богословия, с 1914 г. профессор СПбДА, член Предсоборного присутствия и Предсоборного совета, после Октябрьской революции работал в Публичной библиотеке Петрограда, с 1919 г. член-корреспондент Российской академии наук. — 133, 670
Бриллиантов Иван Иванович (1870-1934), церковный историк, писатель, кандидат богословия, преподавал в СПбДА, был помощником инспектора, с 1915 г. преподаватель латинского языка в Александро-Невском Антониевском духовном училище. После Октябрьской революции жил на своей родине в с. Цыпино. неподалеку от Ферапонтова монастыря. в 1920-1922 гг. был сотрудником по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Кирилловского уездного отдела народного образования. — 121
Бронзов Александр Александрович (1858-1937), церковный историк. писатель, окончил СПбДА, в 1885 г. удостоен ученой степени магистра богословия, с 1894 г. доцент, а с 1897 г. экстраординарный профессор кафедры нравственного богословия СПбДА, в 1901 г. удостоен степени доктора богословия, с 1902 г. ординарный профессор СПбДА, после революции сотрудник Государственного архивного фонда, затем работал в Государственной публичной библиотеке, в архивах Леноблисполкома и Главного управления НКВД. — 120, 123, 137, 670, 671, 691
Бруевич Василий Федорович (1840-1914). действительный тайный советник (1911). управляющий имениями принца Ольденбургского. — 331
Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926), генерал от кавалерии (1912), участник Русско-турецкой войны, командовал корпусом, был помощником командующего войсками Варшавского военного округа, в Первую мировую войну командовал армией, затем Юго-Западным фронтом, с мая по июль 1917 г. Верховный главнокомандующий, в 1918 г. находился под арестом, с 1919 г. в РККА, в 1923-1924 гг. инспектор кавалерии РККА, с 1924 г. состоял при РВС для особо важных поручений. — 7, 364, 405, 422, 424, 425, 459, 460, 478, 482, 483
Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944), митрофорный протоиерей, богослов, член Московского религиозно-философского общества, член 11 Государственной Думы, в 1917-1918 гг. профессор Московского университета, участник Всероссийского церковного Собора 1917-1918 гг., член Высшего церковного совета (1917). в 1918 г. рукоположен во диакона и священника, проживал в Крыму, в 1922 г. выехал в Константинополь, жил в Праге, затем в Париже, профессор Свято-Сергиевского богословского института по кафедре догматического богословия, в 1925-1944 гг. 1-й декан института, в 1935 г. учение протоиерея С. Булгакова о Софии Премудрости Божией было осуждено Московской Патриархией и Архиерейским Собором РПЦЗ. — 588-590, 679
Бунин Алексей Николаевич (1858 — после 1920), генерал-лейтенант (1915), участник Русско-японской войны в чине полковника, участ-
716
ник Первой мировой войны, командовал 4-й Сибирской стрелковой дивизией (1915), затем 16-й Сибирской стрелковой дивизией (1917), с 1917 г. в отставке. После Октябрьской революции был участником Белого движения на востоке России, начальник гарнизона города Никольск-Уссурийский (1919), в 1920г. был на службе в вооруженных силах Временного Приамурского правительства. 9 июня 1920 года был зачислен в резерв для увольнения в отставку и назначения пенсии, дальнейшая судьба неизвестна. — 175, 176
Буркин Петр Иванович, поручик, затем капитан 33-го Восточно-Сибирского полка, полковой адъютант, участник Русско-японской войны. Первой мировой войны в том же полку, в 1916 г. в чине капитана, георгиевский кавалер (1916). — 160, 163
Буров Петр Никитич (1872-1954), генерал-майор (1916), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1903), в Первую мировую войну командовал полком, дивизией, был начальником штаба корпуса, армии, в 1918 г. в Харькове мобилизован в РККА, в 1919 г. перешел в Добровольческую армию, был приговорен к каторжным работам, но помилован, с 1920 г. в эмиграции, жил в Болгарии, Франции, с 1952 г. в США. — 523
Быков Владимир Павлович, священник, служил в Санкт-Петербурге в 1913-1914 гг. — 328
Вадбольский Николай Петрович (1869-1944), генерал-лейтенант (1915). князь, в 1900-1907 гг. штаб-офицер Николаевской академии Генштаба. участник Русско-японской и Первой мировой войн, командир бригады Кавказской туземной конной дивизии (1914-1915), Сводной кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте (1915-1917), 7-го Кавказского армейского корпуса, участник Белого движения в рядах ВСЮР, командующий Южной армией (1918), Южного района Северного Кавказа (1919) и начальник 3-й Терской казачьей дивизии, с 1920 г. в эмиграции, в 1930-1938 гг. председатель Союза русских военных инвалидов. — 147, 148
Вальтер Карл Антонович (1867-1918), доктор медицины (1895), известный петербургский хирург, действительный статский советник (1917), врач амбулатории и подготовительных курсов Санкт-Петербургского попечительства о сестрах милосердия, руководитель клиники Училища лекарских помощников и фельдшеров, член Русского хирургического общества им. Пирогова. Умер в январе 1918 г. от сердечного приступа. — 223, 233
Ванновский Глеб Михайлович (1862-1943), генерал-лейтенант (1915), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1891), участник Русско-китайской, Русско-японской войн, в Первую мировую войну командовал дивизией, корпусом, армией, с 1917 г. был в резерве. Участник Белого движения, служил в Добровольческой армии, с 1920 г. в эмиграции, жил в Эстонии, где занимался преподавательской деятельностью. затем выехал во Францию, где и умер. — 505
Варвара Илиопольская († ок. 306), великомученица. — 672
Вардиев Дмитрий, протоиерей, в 1914г. штабной священник. — 502
Варжанский Николай Юрьевич (1881-1918), мученик, миссионер, окончил МДА, кандидат богословия, автор антисектантских книг, с 1908 г. помощник епархиального миссионера Московской епархии, затем епархиальный миссионер, с 1911 г. служил в канцелярии Святейшего Синода, преподавал в Московской духовной семинарии, расстрелян большевиками. — 507
Варлаам (Ряшенцев Виктор Степанович. 1878-1942), архиепископ, в 1913 г. рукоположен во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии, с 1923 г. епископ Псковский и Порховский, с 1924 г. управлял
717
Могилевской епархией, с 1927 г. архиепископ Пермский, в том же году уволен на покой, умер в Вологде. — 436, 480
Варнава (Накропин Василий Александрович, 1852-1924), архиепископ, с 1911 г. епископ Каргопольский, викарий Олонецкой епархии, с 1913 г. епископ Тобольский и Сибирский, с 1916 г. в сане архиепископа, в 1917 г. удален с кафедры по распоряжению Временного правительства, в 1918 г. подвергся аресту и тюремному заключению, в 1920 г. назначен архиепископом Архангельским, но к месту назначения не поехал, умер в Москве. — 341, 342, 391, 542, 680
Василий (Богоявленский Василий Дмитриевич, 1867-1918), священ- номученик, архиепископ, выпускник КазДА, магистр богословия, в 1909 г. рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, с 1911 г. епископ Новгород-Северский. викарий Черниговской епархии. в том же году поставлен епископом Черниговским и Нежинским, с 1916 г. в сане архиепископа, в 1917 г. отправлен на покой Временным правительством, управлял Заиконоспасским монастырем в Москве. Убит большевиками, канонизирован Московским Патриархатом в 2000 г. — 446-448
Василий (Лужинский, 1783 или 1789-1879), архиепископ, окончил Виленский университет, был униатским епископом Оршанским, Полоцким и Витебским, в 1839 г. перешел в православие, с 1840 г. архиепископ Полоцкий и Витебский, сотрудник митрополита Иосифа (Семашко) в деле воссоединения униатов Северо-Западного края. — 16, 139, 145, 216, 493
Васильев Александр Петрович (1868-1918), митрофорный протоиерей, окончил СПбДА, в 1892 г. рукоположен в священники, служил в санкт-петербургских храмах, был членом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, с 1900 г. в сане протоиерея, с 1910 г. состоял законоучителем царских детей, с 1912 г. служил в соборе Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце, с 1913 г. настоятель Феодоровского государева собора в Царском Селе, с 1914 г. духовник царской семьи, расстрелян большевиками. — 239, 339, 340, 342-344, 411, 412
Васильковский Василий (1778-1813), священник, служил в г. Сумы, затем в Старохарьковском монастыре, с 1810г. военный священник, служил в 19-м Егерском полку, участвовал в Отечественной войне 1812 г., награжден орденом Святого Георгия IV степени за героизм, проявленный в сражении под Малоярославцем. — 678
Введенский Александр Иванович (1889-1946), протоиерей, выпускник Петербургского университета и СПбДА (1914), в Первую мировую войну полковой священник в Гродно, с 1919 г. настоятель церкви Захарии и Елизаветы в Петрограде, один из инициаторов обновленческого раскола, фактический лидер красного обновленчества, в 1923 г. участник «Второго Всероссийского Поместного Собора». В 1923 г., будучи в браке, «рукоположен» во епископа Крутицкого, впоследствии вступал в брак еще дважды. С 1924 г. в сане «митрополита». С 1928 г. заместитель председателя обновленческого синода, с 1935 г. заместитель «Первоиерарха Православной Церкви в СССР», с 1941 г. «Первоиерарх Православной Церкви в СССР». Умер вне общения с Православной Церковью. — 10, 301, 466, 477, 480, 657
Введенский Иван Андреевич, статский советник, директор Витебской мужской гимназии, отец А.И. Введенского. — 301
Введенский Константин Дмитриевич (1873 — между 1932 и 1934), священник лейб-гвардии Кексгольмского полка, стоявшего в г. Варшаве, участвовал в Первой мировой войне со своим полком, в 1915 г. был в плену, в 1929 г. служил в церкви с. Юркино Бежецкого района Московской
718
области, в декабре 1929 г. арестован, сослан на 3 года в Архангельскую область. — 278
Ведель Артемий Лукьянович (1767-1808), церковный композитор — 48
Вейтко Николай, одноклассник протопресвитера Г.И. Шавельского в духовной семинарии, выпускник 1891 г. — 54
Венедикт (Плотников Виктор Васильевич, 1872-1937), архиепископ, окончил СПбДА со степенью кандидата богословия, в 1920 г. рукоположен во епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии. в 1922 г. приговорен к расстрелу по делу об изъятии церковных ценностей, помилован и освобожден в 1923 г., в 1925 г. сослан в Нарымский край, с 1931 г. управлял Вологодской епархией, с 1933 г. архиепископ Вологодский, в том же году архиепископ Новгородский, с 1936 г. архиепископ Казанский и Свияжский, в 1937 г. уволен на покой, расстрелян по приговору «тройки» УНКВД СССР по Ленинградской обл. — 110, 126, 127, 669
Вениамин (Казанский Василий Павлович, 1873-1922), священномученик, митрополит, в 1910 г. рукоположен во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1917 г. архиепископ Петроградский и Гдовский, с того же года в сане митрополита, расстрелян по делу об изъятии церковных ценностей. — 10, 474, 484
Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич, 1880-1961), митрополит, в 1919 г. рукоположен во епископа Севастопольского, викария Таврической епархии, возглавлял военное духовенство Русской армии, с 1920 г. в эмиграции, жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, во Франции, окормлял православное население Угорской Руси, преподавал в Донском кадетском корпусе и в Свято-Сергиевском богословском институте, в 1927 г. согласился дать подписку о лояльности советской власти, включен в клир Московской Патриархии, с 1931 г. настоятель храма Московской Патриархии в Париже, с 1933 г. — архиепископ, экзарх РПЦ в США, с 1938 г. в сане митрополита, с 1947 г. епископ Рижский и Латвийский. с 1951 г. митрополит Ростовский и Новочеркасский, с 1955 г. митрополит Саратовский и Балашовский, с 1958 г. на покое в Псково-Печерском монастыре. — 526, 558-561
Вербицкий Василий Дмитриевич (1855-1927), протодиакон Харьковского кафедрального Успенского собора, умер в эмиграции в Югославии. — 399
Веретенникова Варвара Александровна, помещица Симбирской губернии. — 228-230
Верховской Павел Владимирович (1879-1920), церковный деятель, профессор русского права Варшавского университета, с 1917 г. профессор Донского университета, член Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг.. Ставропольского Собора 1919 г. и ВЦУ на юго-востоке России, убит большевиками в Одессе. — 532, 539, 681
Веселовский Тимофей Алексеевич, протоиерей, настоятель собора в Тифлисе, благочинный тифлисских военных церквей. — 289
Вещезеров Иоанн Петрович, протоиерей, настоятель собора в Двинске в 1912 г., в 1900-е гг. священник Двинской госпитальной церкви. — 299
Викентий Ключинский (1847-1917), католический митрополит Могилевский (1910-1914), представитель Римско-католической церкви на торжествах в честь 300-летия Дома Романовых. — 304
Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Гогенцоллерн, 1859-1941), император Германской империи и король Пруссии (1888-1918), сын принца Фридриха Прусского (впоследствии императо-
719
ра Фридриха III) и принцессы Великобритании Виктории, с 1918 г. проживал в Нидерландах. —308, 310, 311, 359, 686
Винниченко Владимир Кириллович (1880-1951), украинский политический и общественный деятель, революционер, с февраля 1917 г. член Украинской центральной рады, в том же году стал заместителем главы Рады М.С. Грушевского, с лета 1917 г. генеральный секретарь (министр) внутренних дел Украины, в 1918 г. премьер-министр Украины, при С. Петлюре в 1918 г. возглавил Директорию (правительство) Украины, в том же году эмигрировал, в 1920 г. прибыл в Советскую Россию, вступил в РКП(б). занял пост заместителя председателя Совнаркома УССР, однако в том же году вновь эмигрировал. — 534
Виноградов Алексей Иванович, диакон кафедрального собора в Витебске, преподаватель духовного училища. — 24
Виноградов Иван Петрович, преподаватель Витебской духовной семинарии. — С. 37, 38
Виноградский С.В., врач в г. Витебске. — 88
Виссонов Александр Иванович, преподаватель русской гимназии в Софии с 1925 г. — 580
Витковский Владимир Константинович (1885-1978), генерал-лейтенант (1920), участник Первой мировой войны, командовал ротой, батальоном, полком, с 1918 г. участник Белого движения, в 1920 г. эмигрировал, жил в Болгарии, возглавлял Болгарское отделение Русской армии, после Второй мировой войны переехал в США. — 599
Витте Сергей Юльевич (1849-1915), граф, российский государственный деятель, с 1889 г. директор департамента железных дорог Министерства финансов, с августа 1892 г. по 1903 г. министр финансов, с августа 1903 г. председатель Комитета министров, с октября 1905 г. по апрель 1906 г. глава Совета министров, член Государственного Совета и председатель Комитета финансов до 1915 г. — 418
Вишневский Дмитрий К., одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, впоследствии директор народного училища на Украине. — 54. 55. 58
Вишневский Иосиф, священник с. Нача Витебской епархии. — 94, 96, 97
Владимир (Богоявленский Василий Никифорович, 1848-1918), священномученик, митрополит, выпускник КДА, доктор богословия (1915), в 1888 г. рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, с 1891 г. епископ Самарский, с 1892 г. архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, член Святейшего Синода, с 1898 г. митрополит Московский и Коломенский, с 1912 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, первенствующий член Святейшего Синода, в 1915 г. назначен митрополитом Киевским и Галицким. Убит революционерами, канонизирован Московским Патриархатом в 1992 г. — 446-448, 451, 453-456, 474, 475, 488, 652, 686
Владимир (Путята Всеволод Владимирович, 1869-1936), епископ, окончил Военно-юридическую академию, находился на военной службе. в 1901 г. окончил КазДА, магистр богословия, в 1907 г. рукоположен во епископа Кронштадтского, викария Санкт-Петербургской епархии, управлял заграничными русскими церквами, с 1911 г. епископ Омский и Павлодарский, с 1913 г. — Витебский и Полоцкий, с 1914 г. архиепископ Донской и Новочеркасский, с 1915 г. архиепископ Пензенский и Саранский, в 1917 г. отстранен от кафедры за аморальные действия, в 1918 г. лишен архиерейского сана Священным Синодом, решение было утверждено Поместным Собором. В том же году отлучен от Церкви. Впоследствии находился в обновленческом и григорианском расколах.
720
Умер в г. Вятке (Кирове). Перед смертью принес покаяние, которое принял протоиерей МП Владимир Тихоницкий. — 45, 235, 239, 380, 381, 474
Владимир I Святославич (около 960-1015), святой равноапостольный, с 978 г. великий князь Киевский. — 603
Владимир Александрович Романов (1847-1909), великий князь, сын императора Александра II, генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, командовал гвардией, войсками Петербургского военного округа, был президентом Академии художеств. — 197
Владимир С. (1858-?), священник церкви в с. Кресты Витебской епархии. — 80
Владимирский Александр Поликарпович (1821-1906), протоиерей, выпускник КазДА, доктор богословия, в 1847 г. рукоположен в сан священника, в 1871-1895 гг. ректор КазДА, с 1895 г. член учебного комитета при Святейшем Синоде. — 114
Владимирский Николай (1872-1944), протоиерей, выпускник Симферопольской духовной семинарии, служил на приходах в Таврической епархии, настоятель собора в Феодосии (1902-1911), Александро-Невского собора г. Ялты (1911-1920). законоучитель Ялтинской женской гимназии, с 1920 г. в эмиграции в Болгарии, с 1928 г. настоятель русской церкви Святителя Николая в Софии (на ул. Калоян), член епархиального совета при управляющем русских общин в Болгарии (1936), погиб во время бомбардировки. — 602, 603
Власов Гавриил, протодиакон церкви лейб-гвардии Конного полка в 1913-1916 гг., в 1914-1916 гг. протодиакон церкви Ставки Верховного главнокомандующего. — 369, 398, 399, 432
Воейков Владимир Николаевич (1868-1947), генерал-майор Свиты Его Величества (1909), в 1913-1917 гг. комендант Зимнего дворца, почетный председатель Российского олимпийского комитета (1912), арестовывался Временным правительством, в 1918 г. бежал в Крым, потом за границу, умер в Стокгольме. — 236-238, 404-406, 408-411, 434, 440, 442, 467, 471
Вожик Варвара Васильевна, дочь В.А. Вожика. — 104
Вожик Василий Андреевич, волостной писарь с. Азарково. — 99,102, 104, 108, 129
Вожик Мария Игнатьевна, жена В.А. Вожика. — 102
Вознесенский Дмитрий Николаевич, протоиерей, настоятель церкви Георгия Победоносца в Самарканде, в 1914 г. священник 7-го Туркестанского стрелкового полка. — 334
Волжин Александр Николаевич (1860-1933), государственный и церковный деятель, гофмейстер двора (1914), в 1904 г. Седлецкий губернатор, с 1914 г. директор департамента общих дел. в 1915-1916 гг. обер-прокурор Святейшего Синода, после Октябрьской революции эмигрировал. участвовал во Всезарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах (1921), последние годы жизни провел во Франции. — 431, 446, 449, 450, 455
Волков Василий Иванович, протоиерей, настоятель Успенского кафедрального собора в Витебске, автор книги по истории собора, изданной в 1875 г. — 94
Волков Дмитрий Иванович (1867-?), сын диакона, троюродный брат Г. И. Шавельского. — 18, 22
Волков Иван Алексеевич, диакон Успенского кафедрального собора в г. Витебске, муж двоюродной сестры матери Г.И. Шавельского. — 18-20
Волков Иван Иванович (1875-?), сын диакона, троюродный брат Г.И. Шавельского. — 18
721
Волков Семен Иванович (1876-?), сын диакона, троюродный брат Г. И. Шавельского, — 18
Волконский Владимир Михайлович (1868-1953), князь, действительный статский советник, камергер двора, депутат и товарищ председателя III и IV Государственной Думы, в 1915-1917 гг, товарищ министра внутренних дел, участник Белого движения, в эмиграции был видным деятелем Монархического союза в Берлине. — 342, 343
Вольф Федор Федорович, ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка, гофмаршал двора великого князя Николая Николаевича. — 354, 408, 409
Воронов Николай Михайлович (1859 — после 1922), генерал от инфантерии (1917), участник Русско-японской и Первой мировой войн (командовал дивизией, корпусом), в 1913 г, принимал участие в торжествах по случаю освящения лейпцигского православного храма, в 1918 г, вступил в РККА, с 1919 г, на руководящих должностях (начальник военных сообщений, генерал для поручений) в армии адмирала А. В. Колчака. — 309
Воронов Павел Павлович (1862 — после 1917), генерал-майор, участник военных действий в Китае 1900-1901 гг., Русско-японской 1904-1905 гг. и Первой мировой войн, с 1902 г, командир Приморского драгунского полка, с 1906 г, прикомандирован к Главному штабу, с мая по июль 1907 г, командир 2-й бригады 11-й кавалерийской дивизии, в Первую мировую войну принимал участие в Персидской кампании на Кавказском фронте. — 167
Воронов, крестьянин с. Хвошно Городокского уезда Витебской губернии. — С. 66
Вороновский Павел Григорьевич (1868-1938), протоиерей, священник 17-го драгунского Нижегородского полка, в 1915 г. награжден золотым крестом на георгиевской ленте, впоследствии эмигрировал, умер в Эфиопии. — 288, 289
Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837-1916), граф, генерал от кавалерии, министр императорского двора и уделов с 1882 по 1897 г., с 1901 г, наместник Кавказа, председатель Красного Креста в 1904-1905 гг., в 1905-1915 гг. командовал войсками Кавказского военного округа. — 167, 288, 432
Воскресенский Геннадий Яковлевич, выпускник Костромской духовной семинарии, товарищ протопресвитера Г. И. Шавельского по СПбДА, кандидат богословия (1902), коллежский асессор, секретарь Олонецкой духовной консистории (1904) в г. Петрозаводске. — 125
Востоков Владимир Игнатьевич (1868-1957), протопресвитер (1954), рукоположен во иерея в 1891 г., занимался издательской и проповеднической деятельностью, с 1920 г, находился в армии генерала П. Н. Врангеля, затем эмигрировал, в 1921-1922 гг. был членом Зарубежного ВЦУ, в 1944 г. переехал в США, служил в Сан-Франциско. — 515, 516, 688
Восторгов Иоанн Иоаннович (1864-1918), священномученик, протоиерей, миссионер, служил в Ставропольской епархии (1881-1894), Закавказье (1894-1905), в Москве (с 1905), видный деятель монархического движения, расстрелян коммунистами. — 235, 395
Врангель Ольга Михайловна (1883-1968), урожденная Иваненко, фрейлина, жена П. Н. Врангеля, с начала Первой мировой войны работала в санитарных учреждениях частей, которыми командовал ее муж, с 1920 г. в эмиграции. — 561
Врангель Петр Николаевич (1878-1928), барон, генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1918 г. в Добровольческой армии, с 1919 г. командующий Добровольческой армией, с 1920 г.
722
главнокомандующий ВСЮР, в том же году эмигрировал, организатор и председатель ЮВС, умер в Брюсселе. — 557-559, 562, 589
Всеволод Иванович Романов (1914-1973), сын великого князя Ивана Константиновича, правнук императора Николая I, в эмиграции в Сербии, Великобритании, умер в Лондоне. — 324, 325
Вырубова Анна Александровна (1884-1964), урожденная Танеева, фрейлина и подруга императрицы Александры Феодоровны, после Февральской революции была арестована Временным правительством, но освобождена в связи с отсутствием состава преступления, в 1919 г. бежала в Финляндию, где приняла монашеский постриг с именем Мария в Смоленском скиту Валаамского монастыря. — 242, 308, 339-341, 420, 441, 446, 447, 449, 463, 465, 697
Высокоостровский Александр Павлович (1860-1912), кандидат богословия, надворный советник, профессор логики и метафизики СПбДА. — 120
Высоцкий Михаил, священник, выпускник Витебской духовной семинарии (1886), служил священником в храме с. Ореховно Витебской епархии. — 48, 93, 96, 104
Высоцкий Николай Георгиевич (около 1844 - ?). протоиерей (1875), был учителем Оренбургского духовного училища, затем в 1868-1879 гг. настоятелем военного храма Георгия Победоносца в Самарканде, затем служил в Туркестане в городах Верный, Аулиеота и Чарджоу, с 1911 г. был священником 6-го Туркестанского стрелкового полка, 15 июля 1915 г. за отличие в военных действиях был награжден сразу двумя боевыми орденами: святого Владимира 4-й степени с мечами и святого Владимира 3-й степени с мечами. — 335
Вязмитинов Василий Ефимович (1874-1929), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1904), участник Первой мировой войны, командовал полком, дивизией. Участник Белого движения, начальник отдела генерального штаба Добровольческой армии, с 1919 г. помощник начальника военного управления в штабе ВСЮР, в 1920 г. военный и морской министр правительства юга России, в Русской армии генерала П.Н. Врангеля начальник военного управления в правительстве юга России. Эмигрировал, был военным представителем главнокомандующего в Болгарии, с 1923 г. жил в Белграде. — 529
Гавриил (Дожич Джордже, 1881-1950), Сербский Патриарх. В 1900 г. пострижен в монашество, в том же году рукоположен во иеромонаха. В 1^9 г. окончил Богословский факультет Афинского университета. В 1911 г. рукоположен во епископа Рашко-Призренского и возведен в сан митрополита. С 1920 г. митрополит Черногорский и Приморский. С 1938 г. Сербский Патриарх. В 1941 г. арестован гестапо, в 1944-1945 гг. находился в концлагере Дахау. В 1946 г. вернулся в Югославию. — 687
Гавриил (Чепур Григорий Маркеллович, 1874-1933), архиепископ (1930), с 1910 г. епископ Измаильский, с 1911 г. епископ Аккерманский, с 1918 г. епископ Челябинский и Троицкий, но занять кафедру не смог, с 1920 г. в эмиграции в Сербии, член Архиерейского Синода РПЦЗ с 1922 г. — 507, 535, 536, 539
Газенкампф Михаил Александрович (1843-1913), генерал от инфантерии, окончил Николаевскую академию Генерального штаба, в которой впоследствии стал профессором, в 1895-1903 гг. Астраханский губернатор, с 1905 г. помощник главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, член Высшей аттестационной комиссии и Военного совета. — 248
Гайдук Алексей Никифорович, товарищ протопресвитера Г. И. Шавельского по СПбДА, секретарь Иркутской духовной консистории. — 208
723
Галкин Алексей Семенович (1866-1939), генерал-лейтенант (1916), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1893), находился на штабной работе, в Первую мировую войну командовал дивизией, затем был дежурным генералом штаба армий Западного фронта, в 1918 г. начальник Главного штаба армии гетмана Скоропадского, в Украинской народной армии генерал-поручик, член Высшего военного совета, эмигрировал в Польшу, был военным министром Украинской республики в иунании, в 1939 г. после вступления в Польшу Красной армии арестован органами НКВД, умер при допросе в Дрогобыче. — 496
Гавев Венелин Иорданов (1880-1966), болгарский профессор, политический деятель, старший регент при малолетнем болгарском царе Симеоне II (род. 1937) в 1943-1946 гг. — 623
Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906), общественный деятель, священник, проповедник, учился в СПбДА, вел проповедь в духе христианского социализма в рабочих районах Санкт-Петербурга, на средства МВД в 1904 г. создал лояльное правительству «Собрание фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», инициатор шествия народных масс 9 января 1905 г., закончившегося расстрелом рабочих, эмигрировал, затем вернулся, убит эсерами. — 6, 110, 126, 127, 130, 669
Гейсман (Гейсманс) Платон Александрович (1853-1919), генерал от инфантерии (1913), военный историк и теоретик, участник Русско-турецкой войны, с 1892 г. профессор военной истории в Академии Генштаба, с 1918 г. приват-доцент Петроградского университета. — 149
Геништа Александр Владимирович (1888-?). средний сын В.И. Геништы, в 1919 г. штабс-ротмистр 14-го гусарского полка, георгиевский кавалер, участник Белого движения в рядах ВСЮР. — 148
Геништа Борис Владимирович (1891-1981), младший сын В.И. Геништы, офицер лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, участник Белого движения, полковник, в эмиграции во Франции, затем в США. — 148
Геништа Владимир Иванович (1863-1906), полковник Генштаба, участник Русско-японской войны. — 147, 148, 158
Геништа Наталья Ивановна (1862-1948), урожденная Странсбургская, жена В.И. Геништы, в эмиграции в Париже. — 148
Геништа Сергей Владимирович (1886-1944), старший сын В.И. Геништы, окончил 2-й Петроградский кадетский корпус, участник Первой мировой войны, подпоручик (1916), окончил школу радиотелеграфии, после революции жил в Москве, в 1929 г. — профессор Московского высшего технического училища, работал в Центральной лаборатории связи, автор научных трудов, в 1938 г. арестован, осужден на 10 лет, умер в заключении в Воркуте. — 148
Геннадий (Оконешников), архимандрит, ректор Витебской духовной семинарии. — 29, 31,49, 50, 58, 83
Генрих Альберт Вильгельм Гогенцоллерн (1862-1929), принц Прусский, брат императора Вильгельма 11, двоюродный брат императрицы Александры Феодоровны, гросс-адмирал, с 1888 г. женат на Ирене, принцессе Гессенской и Рейнской, сестре императрицы Александры Феодоровны, в Первую мировую войну главнокомандующий германскими морскими силами на Балтике, в 1918 г. уволен из армии. — 338
Георгиев Кимон Стоянов (1882-1969), болгарский государственный и политический деятель, в 1926-1928 гг. министр транспорта, почт и телеграфа, в 1934 г. возглавил государственный переворот, в мае 1934 — январе 1935 г. премьер-министр, в годы Второй мировой войны занял антифашистскую позицию, вошел в Отечественный фронт, в 1944-1946 гг. возглавлял правительство Отечественного фронта, в 1946-1950 гг. и в 1959-1962 гг. заместитель председателя Совета мини-
724
стров Болгарии, в 1946-1947 гг. министр иностранных дел, в 1947-1959 гг. министр электрификации и мелиорации, с 1962 г. член президиума Народного собрания Болгарии. — 623
Георгиева Л. — 683
Георгиевский Алексей Иванович (1904-1984), заслуженный профессор МДА, окончил Государственный институт слова в 1922 г. кандидатом словесных наук, с 1944 г. доцент кафедры литургики и ученый секретарь Богословского института, в 1946 г. преобразованного в МДА, с 1958 г. профессор, исполнял обязанности ответственного секретаря «Журнала Московской Патриархии», редактировал Богослужебные указания, Церковный календарь, автор книги «Чинопоследование Божественной литургии» и ряда статей, с 1954 по 1959 г. сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. — 619
Георгий (Конисский Григорий Иосифович. 1717-1795), святитель, архиепископ, с 1752 по 1755 г. ректор КДА. в 1755 г. рукоположен во епископа Могилевского, после первого раздела Польши (1772) именовался Могилевским. Мстиславским и Оршанским, с 1783 г. в сане архиепископа, член Святейшего Синода, активно защищал права православного населения в Польше, боролся с унией, в 1993 г. причислен к лику местночтимых святых Белорусского Экзархата Московского Патриархата. — 437
Георгий (Ярошевский Георгий Георгиевич, 1872-1923), митрополит, в 1906 г. рукоположен во епископа Каширского, викария Тульской епархии, с 1908 г. епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии, с 1910 г. епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии, с 1913 г. епископ Калужский и Боровский, с 1916 г. — Минский и Туровский, с 1918 г. архиепископ, с 1919 г. — временно управляющий Харьковской епархией. Эмигрировал, жил в Италии. С 1922 г. митрополит Варшавский, активно выступал за автокефалию Польской Церкви, застрелен противником автокефалии архимандритом Смарагдом (Латышенковым). — 320, 321, 538
Георгий Михайлович Романов (1863-1919), великий князь, генерал-адъютант, сын великого князя Михаила Николаевича, муж великой княгини Марии Георгиевны (дочери греческого короля Георга 1 и великой княгини Ольги Константиновны), автор исследования «Русские монеты XVIII и XIX вв.», с 1895 г. возглавлял Русский музей императора Александра III (ныне Русский музей) в Санкт-Петербурге, расстрелян большевиками. канонизирован РПЦЗ. — 272, 420, 441, 442
Георгий Хозевит († VII в.), святой, монах, затем игумен монастыря в пустыне Хузив, между Иерусалимом и Иерихоном. — 12
Гербель, прапорщик, брат Харьковского губернатора Сергея Николаевича Гербеля (1858-1936), имевшего двух братьев — младшего, Михаила (1863 года рождения), и старшего, Владимира. — 166, 167
Германос (Стринопулос, † 1951), митрополит, до 1922 г. на Селевкийской кафедре, в 1922 г. назначен митрополитом Фиатирским, экзархом Западной и Центральной Европы, постоянный представитель Константинопольской Церкви на экуменических конференциях. — 562
Гермоген (Долганев Георгий Ефимович, 1858-1918), епископ, священномученик. В 1901 г. рукоположен во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. С 1903 г. епископ Саратовский и Царицынский. С 1912 г. на покое. С 1917 г. епископ Тобольский и Сибирский. Член Поместного Собора 1917-1918 гг. В 1918 г. арестован коммунистами в Тобольске, утоплен в р. Суре. Причислен к лику святых Московским Патриархатом в 2000 г. — 462
Гермоген (Максимов Григорий Иванович, 1861-1945), архиепископ, в 1910 г. рукоположен во епископа Аксайского, викария Донской епар-
725
хии, с 1919 г. епископ Екатеринославский и Новомосковский, в 1920 г. эмигрировал, находился под юрисдикцией РПЦЗ, в 1942 г. под давлением гитлеровских властей возглавил неканоничную Хорватскую Православную Церковь, за что был запрещен в священнослужении Архиерейским Синодом РПЦЗ, казнен югославскими коммунистами. — 509-511, 514, 515, 538
Гернгросс Александр Алексеевич (1851-1925), генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны и подавления Боксерского восстания в Китае, в 1^сско-японскую войну начальник 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, в Первую мировую войну командовал корпусом. Был членом Военного совета. Последние годы жил в Петрограде. — 176, 202
Гернгросс, помещик с. Усмынь Витебской губернии. — 71, 668
Гете Иоганн Вольфганг фон (1749-1832), великий немецкий поэт. — 146, 216, 683
Гилленшмидт Яков Федорович фон (1870-1918), генерал-лейтенант (1915), участник Русско-японской войны, в 1907-1912 гг. командир 17-го драгунского Нижегородского полка, с 1914 г. командир лейб-гвардии Конной артиллерии, в Первую мировую войну командовал дивизией, корпусом, с 1918 г. в Добровольческой армии, погиб в бою. — 288
Гилька, торговец из с. Азарково — 129
Гинденбург Пауль фон (1847-1934), германский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1914-1916 гг. главнокомандующий войсками на Восточном фронте против России, в 1916-1919 гг. — начальник Генерального штаба. С 1925 г. рейхспрезидент Германии. — 362
Глаголев Сергей Сергеевич (1865-1937), русский православный богослов, окончил МДА (1889), с 1896 г. экстраординарный профессор кафедры основного богословия МДА, с 1902 г. профессор МДА, в 1919-1928 гг. заведующий Институтом народного образования в г. Сергиев Посад, в 1928 г. арестован и сослан в Пензу. Последние годы жизни провел в Вологде, где в 1937 г. был вновь арестован и расстрелян. — 297
Глазенап Сергей Павлович (1848-1937), русский астроном, в 1870 г. окончил Санкт-Петербургский университет, работал в Пулковской обсерватории, в Санкт-Петербургском университете, с 1889 г. в должности профессора, почетный член АН СССР (1929), директор Пулковской обсерватории. — 132
Глазов Владимир Гаврилович (1848-1920), генерал от инфантерии, начальник Академии Генерального штаба (1901-1904), помощник командующего войсками Московского военного округа (1905-1908), член Военного совета (1909-1914), после революции — в РККА, по некоторым сведениям, погиб в 1920 г. — 138, 140, 146, 147, 153, 208, 413, 675
Глубоковский Николай Никанорович (1863-1937), богослов, патролог, экзегет, историк Церкви, окончил Вологодскую духовную семинарию и МДА, в 1890 г. удостоен ученой степени магистра богословия за сочинение «Блаженный Феодорит, епископ Киррский», с 1894 г. экстраординарный профессор, с 1898 г. ординарный профессор Священного Писания Нового Завета СПбДА, в 1898 г. удостоен ученой степени доктора богословия за сочинение «Обращение Савла и Евангелие св. апостола Павла», в 1909 г. избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению русского языка и словесности, в 1921 г. эмигрировал в Финляндию, затем жил в Германии, Чехословакии, Королевстве сербов, хорватов и словенцев, с 1923 г. в Болгарии. Возглавлял кафедру Священного Писания Нового Завета в Софийском университете, в 1925 г. избран членом-корреспондентом Болгарской академии наук. — 6, 57, 58, 113,
726
118-120, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 217, 218, 568-570, 574, 588, 618, 670, 679, 683, 684
Гнедовская Анна Осиповна, мать священника С.А. Гнедовского. — 232
Гнедовская Мария Ипатьевна, жена священника С.А. Гнедовского. — 128, 232
Гнедовский Александр Ефимович (1855-1912), протоиерей, священник витебского Успенского собора, преподаватель духовного училища, с 1887 г. военный священник, в 1902-1912 гг. священник лейб-гвардии Кирасирского полка, служил в полковой церкви Иоанна Тарсийского в Царском Селе. — 23
Гнедовский Семен Александрович († 1911), священник витебской Иоаннобогословской церкви, двоюродный брат жены протопресвитера Г.И. Шавельского, выпускник СПбДА (1889), кандидат богословия. — 84, 85, 89, 104, 128, 129, 135, 136, 145, 228, 232, 233
Говорович, полицмейстер в Полоцке. — 494
Говорский Василий Олимпович, протоиерей, священник кафедрального собора в г. Витебске, преподаватель Витебского духовного училища, один из создателей церковно-археологического древлехранилища в Витебске, с 1911 г. военный священник. — 23, 255
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), русский писатель. — 23
Голицын Владимир Эммануилович (1884-1954), князь, поручик, адъютант великого князя Николая Николаевича, после Октябрьского переворота эмигрировал в Италию, затем жил в Великобритании. — 354, 416, 417, 444
Голицын Дмитрий Борисович (1850-1920), генерал от кавалерии (1912), герой Русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, генерал-адъютант свиты императоров Александра III и Николая II, обер-егер-мейстер, начальник императорской охоты с 1889 г., после Октябрьского переворота 1917 г. эмигрировал в Грецию. — 354, 355, 438
Голицына Екатерина Георгиевна (урожд. Карлова) (1891-1940), княгиня, жена В.Э. Голицына, погибла в Лондоне во время бомбардировки. — С. 444, 680
Головин Николай Николаевич (1875-1944), генерал-лейтенант, военный теоретик и историк, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900). с 1908 г. экстраординарный профессор, с 1909 г. ординарный профессор этой академии, участник Первой мировой войны и Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, преподавал во французской военной академии, во время оккупации Франции работал в коллаборационистском Управлении делами русских эмигрантов. — 149, 364, 426
Голубев Иван Авксентьевич, протоиерей, находился при штабе 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны, затем служил в Вильне, был священником 51-го пехотного Литовского полка, затем — 13-й пехотной дивизии, в Первую мировую войну был проповедником 3-й армии. — 184, 186-188, 198, 202, 234, 278, 477
Голубев Сергей Алексеевич (1861-1917), митрофорный протоиерей, выпускник СПбДА (1885), в годы Русско-японской войны главный священник Маньчжурской армии, затем главный священник при главнокомандующем. настоятель Преображенского всей гвардии собора в Санкт-Петербурге, участник Первой мировой войны. — 166, 180, 181, 183, 191-193, 196, 239, 240, 250, 251, 260, 273, 325, 374, 375, 378, 686
Голубева Софья Васильевна, жена протоиерея С.А. Голубева. — 166
Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834-1912), церковный историк, окончил МДА, где преподавал с 1861 г., с 1881 г. профессор МДА, с 1895 г. в отставке, с 1902 г. член Императорской академии наук. — 107
727
Горазд (Ангелов, † 1989), архимандрит, клирик БПЦ, последние годы жизни был начальником богослужебного отдела при Священном Синоде БПЦ, убит при невыясненных обстоятельствах. — 582, 583, 625, 688
Горазд Охридский, равноапостольный. — 592
Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917), государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1916), с 1891г. товарищ министра юстиции, с 1895 г. товарищ министра, а затем (до 1899) министр внутренних дел, с 1899 г. член Государственного совета, в 1906 г. и 1914-1916 гг. занимал пост председателя Совета министров, в 1917 г. арестован Временным правительством, по освобождении уехал на юг, где был убит. — 411, 431, 449, 457, 679
Городецкий Сергей Александрович, псаломщик при главном священнике 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны. — 184, 187
Горский Александр Васильевич (1814-1875), протоиерей, профессор церковной истории, в 1860 г. рукоположен во иерея, в том же году возведен в сан протоиерея, получил степень доктора богословия и назначен ректором МДА. — 114
Граббе Александр Николаевич (1864-1947), генерал-майор Свиты Его Величества (1914), командующий Собственным Его Величества конвоем (1914-1917), в 1917 г. эмигрировал, жил в Германии, затем в США. — 418-420, 434, 442
Граббе Павел Николаевич (1875-1941), граф, шталмейстер Императорского двора, с 1910 г. в отставке, член Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг., в годы Гражданской войны находился на юге России, затем эмигрировал в Польшу, где проживал в своем имении, в 1940 г. (после вступления в Польшу советских войск) арестован и помещен в лагерь, где скончался. — 516
Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956), композитор, литургист, известен хоровыми произведениями и обработками народных песен. с 1925 г. в эмиграции во Франции, с 1939 г. в США. — 437
Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829), русский драматург и дипломат. — 371,613, 685, 690
Григорий (Васильев Иван Михайлович), выпускник Донской духовной семинарии и МДА (1909), кандидат богословия, архимандрит, с 1912 г. был настоятелем Князе-Владимирской церкви в Московском епархиальном доме, друг священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, по некоторым сведениям, сыграл в его «расстрельном» деле предательскую роль, в годы Гражданской войны в Новочеркасске занимал должность в Донской духовной семинарии. — 395, 507, 511, 687, 688
Григорий (Чуков Николай Кириллович, 1870-1955), митрополит, в 1942 г. рукоположен во епископа Саратовского и Сталинградского, в том же году возведен в сан архиепископа, с 1944 г. архиепископ Псковский и Порховский, с 1945 г. митрополит Ленинградский и Новгородский, в 1945 г. возглавлял делегацию РПЦ в Болгарию, с 1946 г. возглавлял Учебный комитет Патриархии и работу по возрождению богословских школ. — 7, 615, 617, 620, 621, 623
Григорий IV (Хаддад), Патриарх Антиохийский и всего Востока (1906-1928), возведен в сан епископа Триполи в 1890 г., в 1913 г. принимал участие в торжествах, посвященных 300-летию Дома Романовых. — 303
Григорий, епископ Нисский (ок. 335-394), святитель, отец Церкви, автор богословских и экзегетических трудов, сочинений против арианской ереси, в 371 г. рукоположен во епископа, участник II Вселенского Собора (381). — 589
728
Григорович Дмитрий Фомич († 1917), протоиерей, настоятель Николаевского собора в г. Городке Витебской губернии в течение 40 лет, благочинный. — 67-69, 103, 104,667
Григорович Иван Константинович (1853-1930), адмирал (1911), морской министр (1911-1917), участник Русско-японской войны, начальник штаба Черноморского флота, командир Либавского и Кронштадтского портов, с 1920 г, работал в Морской исторической комиссии, в Морском архиве, преподавал в Высшей школе водного транспорта, в 1924 г, выехал на лечение за границу, где и остался. — 261
Григорович Семен, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище. — 27, 39, 41, 42
Григорьев Владимир Николаевич (1851-?), генерал от кавалерии (1912), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, был начальником Варшавской, Очаковской, Севастопольской крепостей, с 1909 г. комендант Ковенской крепости, в 1915 г., бросив войска, покинул крепость. Двинским военно-окружным судом был приговорен к каторжным работам сроком на 15 лет, в 1918 г. освобожден по амнистии ВЦИК. — 432
Григорьев, купец, староста церкви лейб-гвардии драгунского Московского полка. — 291
Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович (1938-1915), генерал-адъютант. участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, туркестанских походов и усмирения Польского восстания, командовал войсками Виленского военного округа, был членом Государственного Совета, похоронен в Царском Селе. — 180, 678
Грифцов Василий Николаевич (1868-1918), протоиерей, участвовал в Русско-японской войне, был священником 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, настоятелем собора в Батуме, с 1911 г. настоятель Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге, в Первую мировую войну главный священник армий Юго-Западного фронта, расстрелян красноармейцами. — 252, 255, 300, 331, 346, 347, 367, 368, 372, 373, 657, 658
Грифцов, брат протоиерея В.Н. Грифцова, в Первую мировую войну секретарь главного священника армий Юго-Западного фронта. — 368
Громов, петербургский диакон. — 399
Губская Зинаида Семеновна, преподаватель французского и немецкого языков в русской гимназии в Софии. — 579
Гулевич Арсений Анатольевич (1866-1947), генерал-лейтенант (1914), крупный военный теоретик, выпускник (1892) и профессор Николаевской академии Генерального штаба, командир лейб-гвардии Преображенского полка (1908-1912), начальник канцелярии Совета государственной обороны, участник Первой мировой войны (в 1914 г. начальник штаба 9-й армии, в 1915 г. начальник штаба Северо-Западного фронта, в 1916 г. командовал 42-м армейским корпусом, в 1917 г. — 21-м армейским корпусом), георгиевский кавалер, участник Белого движения (представитель Н.Н. Юденича в Финляндии), с 1920 г. в эмиграции во Франции, занимался педагогической работой, был председателем гвардейского объединения белоэмигрантов, приветствовал нападение Германии на СССР. — 149
Гурко Василий Иосифович (1864-1937), генерал от кавалерии (1916), участник Русско-японской и Первой мировой войн, командовал дивизией, корпусом, армией, в 1916-1917 гг. временно заменял генерала М.В. Алексеева на посту начальника штаба Верховного главнокомандующего, в 1917 г. командовал Западным фронтом, в том же году арестован, выслан за границу, жил в Италии. — 427, 463, 464, 481, 482
729
Гурьев Петр Викторович (1863-1943), действительный статский советник, окончил МДА (1889), магистр богословия (1991), сотрудничал в «Церковных ведомостях», в 1894-1912гг. старший секретарь Святейшего Синода, в 1902-1912 гг. член Училищного совета при Синоде, заведующий канцелярией Училищного совета, в 1912-1918 гг. заведующий канцелярией Святейшего Синода, член Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг., с 1918 по 1922 г. управляющий канцелярией Патриаршего Священного Синода и Высшего церковного управления, в 1922-1934 гг. находился в тюрьмах и ссылках, с 1934 г. проживал в Можайске, умер от голода во время Великой Отечественной войны. — 446
Гучков Александр Иванович (1862-1936), российский политический деятель, действительный статский советник, лидер партии октябристов, с 1910 г. председатель Государственной Думы, в 1915-1917 гг. председатель Центрального военно-промышленного комитета, во Временном правительстве занимал пост военного и морского министра (март-май 1917), эмигрировал, жил в Германии и во Франции. — 430, 431, 472-474, 476
Гучкова Мария Ивановна (1871-1938), урожденная Зилотти, жена А.И. Гучкова. — 471
Давид, Царь Израильский, пророк. — 213, 571
Дагаев Тимофей Михайлович (1863 — около 1909). полковник Генштаба, впоследствии генерал-лейтенант, в 1892-1902 гг. штаб-офицер, заведующий подготовкой офицеров в Николаевской академии Генштаба, затем генерал-квартирмейстер Туркестанского округа, комендант Бобруйской крепости. — 147, 148
Даманский Петр Степанович (1859-1916), церковный деятель, тайный советник (1912), кандидат богословия, с 1901 г. управлял Контролем ведомства православного исповедания, с 10 декабря 1909 г. — директор хозяйственного управления ведомства, товарищ обер-прокурора Святейшего Синода (1912-1915), член Училищного совета при Синоде (1916). — 446
Дамаскин (Орловский Владимир Александрович, род 1949), игумен, член Синодальной комиссии Московского Патриархата по канонизации святых, церковный историк. — 684
Дамиан (Говоров Дмитрий Григорьевич, 1855-1936), архиепископ (1931), в 1916 г. рукоположен во епископа Эриванского. викария Тифлисской епархии, с 1917 г. епископ Петровский, викарий Саратовской епархии, с 1918 г. епископ Царицинский. викарий Саратовской епархии, с 1920 г. в эмиграции в Болгарии, был членом Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятелем монастыря Святых Кирика и Иулитты. основал пастырское училище, которым руководил. — 539
Данилов Владимир Николаевич (1852-1914), генерал от инфантерии (1911), участник Сербско-турецкой (1876), Русско-турецкой, Русско-японской (командир 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии) и Первой мировой войн (командир 23-го армейского корпуса), комендант Петропавловской крепости с 1913 г. — 203
Данилов Георгий Георгиевич, преподаватель русской гимназии в Софии. — 580
Данилов Николай Александрович (1867-1934). генерал от инфантерии (1914), выпускник и профессор Николаевской академии Генерального штаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн (был на штабной работе, командовал корпусом, армией), с 1918 г. в РККА, был военным экспертом при заключении Брестского мира 1918 г., с 1921 г. декан военно-экономического факультета Военно-инженерной академии, в 1918-1921 гг. профессор Военной академии РККА, с 1921 г. декан воен-
730
но-экономического факультета Военно-инженерной академии, в 1931-1933 гг. инспектор штаба РККА. — 360
Данилов Юрий Никифорович (1866-1937), генерал от инфантерии, окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Первой мировой войны, в 1914-1915 гг. генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего, затем командовал корпусом, исполнял обязанности начальника штаба Северного фронта, в 1917 г. командовал 5-й армией, снят с должности, зачислен в резерв, в 1918 г. возглавил группу консультантов при советской делегации в Брест-Литовске, жил в Москве, в 1920 г. выехал в Крым, где работал в правительстве генерала П.Н. Врангеля, в том же году эмигрировал, умер во Франции. — 355-357, 360-362, 364, 395, 403-405, 422, 423, 427, 428, 433, 434, 439, 467
Даниловская Екатерина Васильевна, жена генерала А.А. Даниловского. — 148
Даниловский Анатолий Алексеевич (1845-1917), генерал-лейтенант (1910), выпускник и преподаватель Николаевской академии Генштаба, ктитор Суворовской церкви, товарищ председателя Скобелевского комитета, в 1917 г. преподавал на Статистических курсах при МВД. — 141, 148, 209, 213, 241
Даниловский Виктор Анатольевич, чиновник, сын генерала А.А. Даниловского. — С. 148
Даниловский Владимир Анатольевич, офицер, сын генерала А.А. Даниловского, в 1909 г. штабс-капитан 1-го железнодорожного полка. — 148
Даниловский Глеб Анатольевич (1882-1929), полковник лейб-гвардии Егерского полка, сын генерала А.А. Даниловского, участник Первой мировой войны, начальник канцелярии и адъютант главнокомандующего Северо-Западным фронтом. В эмиграции был в Румынии и Франции, умер в госпитале в Ницце. — 148
Данильченко Петр Васильевич (1873-1953), капитан лейб-гвардии Измайловского полка, драматург, постановщик пьесы «Царь Иудейский» великого князя Константина Константиновича, автор пьесы «Двенадцатый год», участник Первой мировой войны, в 1914 г. ушел на фронт командиром 11-й роты, в 1915 г. отморозил ноги, по выздоровлении командир 7-го Ревельского генерала Тучкова VI полка 2-й пехотной дивизии, полковник. в 1918-1920 гг. служил в Белых войсках на юге России до эвакуации Новороссийска, с августа 1920 г. в Русской армии в Крыму, рядовой в офицерской роте, в эмиграции в Болгарии (1921-1923), с 1923-го в США, жил в Нью-Йорке, зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом, участвовал в деятельности Объединения российских кадетских корпусов. — 273
Дедюлин Владимир Александрович (1858-1913), генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант, в 1903-1905 гг. начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, с 17 января по февраль 1905 г. петербургский градоначальник, с 1906 г. дворцовый комендант. — 339, 462
Дейсман Адольф (1866-1937), профессор, ректор Берлинского университета. — 119
Де-Каррьер Сергей Аркадьевич (1854-1919), действительный статский советник, камергер, гофмейстер, в 1893-1894 гг. Черниговский вице-губернатор, с 1894 г. гласный Санкт-Петербургской городской думы, опекун Смольного института благородных девиц и нескольких петербургских больниц. — 220
Дембовецкий Александр Станиславович (1840-около 1914), государственный деятель, камергер, действительный статский советник, тайный советник, Могилевский губернатор в 1872-1893 гг., с 1893 г. сенатор. — 436, 680
731
Демидовский Василий Ананиевич († 1911), инспектор Витебской духовной семинарии. — 33, 34
Демин Сергей Ионович (1868 — после 1935), протодиакон (1909), с 1911 г. служил в домовой Александро-Невской церкви протопресвитера военного и морского духовенства, арестован и сослан в 1931 г., в 1932 г. бежал из ссылки, нелегально жил в Ленинграде, руководил иосифлянским приходом Моисеевской церкви, арестован в 1934 г., в 1935 г. приговорен к 8 годам заключения, дальнейшая судьба неизвестна. — 247, 248, 275, 322, 331
Деникин Антон Иванович (1872-1947), генерал-лейтенант (1916), участник Русско-японской и Первой мировой войн (командовал корпусом. дивизией. Западным и Юго-Западным фронтами), с 1918 г. главнокомандующий ВСЮР, с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции и США, писатель, мемуарист. — 4, 427, 476, 479, 482, 483, 491, 498, 502-507, 511, 512, 515, 518-525, 528-531, 533, 538, 539, 543-545, 547-550, 552-554, 556-559, 682, 687
Деникина Ксения Васильевна (1892-1973), урожденная Чиж, жена генерала А.И. Деникина. — 524
Дервиз — дворянская семья, прихожане Суворовской церкви в Санкт-Петербурге. — 150
Дернов Александр Александрович (1857-1923), протопресвитер, с 1882 г. в священном сане, протоиерей, кандидат богословия, настоятель Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, преподавал Закон Божий детям Великого князя Владимира Александровича, с 1915 г. глава придворного духовенства. — 447-449
Дерфельден Христиан Иванович († 1918), ротмистр, адъютант великого князя Николая Николаевича, расстрелян большевиками. — 354, 355
Джунковский Владимир Федорович (1865-1938), генерал-лейтенант (1917), вице-губернатор Москвы (август-ноябрь 1905), губернатор Московской губернии (1905-1913), в 1913-1915 гг. товарищ министра внутренних дел и командующий отдельным корпусом жандармов, в Первую мировую войну командовал бригадой, дивизией, с 1917 г. в отставке, неоднократно арестовывался, расстрелян по приговору «тройки» при УНКВД по Московской области. — 463
Диатолович Павел Иосифович (1853-?), полковник (1892) для поручений при Генштабе, выпускник Технологического института и Николаевской академии Генштаба, в 1900-1902 гг. командир 63-го Углицкого пехотного полка, по выходе в отставку действительный статский советник. в 1919 г. староста Новороссийского собора. — 537
Димитраков, софийский врач-кардиолог. — 577
Димитрий (Абашидзе Давид Ильич, в схиме Антоний, 1867-1943), князь, архиепископ, в 1902 г. рукоположен во епископа Алавердского, с 1903 г. епископ Гурийско-Мингрельский, с 1905 г. епископ Балтский, викарий Подольской епархии, с 1906 г. — Туркестанский и Ташкентский, с 1912 г. — Таврический и Симферопольский, в 1914 г. участвовал в Первой мировой войне в качестве флотского священника, с 1915 г. в сане архиепископа, с 1920 г. был председателем ВЦУ на юго-востоке России, с 1920-х гг. проживал в Киеве, где принял схиму. — 380, 507, 508, 510, 511, 513-516, 534, 535, 681
Димитрий (Вербицкий Максим Андреевич, 1869-1932), архиепископ. В 1910 г. рукоположен во епископа Уманского, викария Киевской епархии. В годы Гражданской войны некоторое время находился на Северном Кавказе. С 1921 г. епископ Белоцерковский. В 1923 г. арестован, по возвращении был вновь назначен епископом Уманским. С 1930 г. архиепископ Киевский. — 538
732
Димитрий (Ковальницкий Михаил Георгиевич, 1839-1913), архиепископ, магистр богословия, экстраординарный профессор КДА, в 1898 г. рукоположен во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, с 1902 г, епископ Тамбовский и Шацкий, с 1903 г, архиепископ Казанский и Свияжский, с 1905 г. архиепископ Херсонский и Одесский, в 1906-1907 гг. член Государственного Совета. — 282, 283, 596, 620, 649
Димитров Георгий Михайлов (1882-1949), деятель международного коммунистического движения, генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии, в 1934-1945 гг. проживал в СССР, с 1945 г. в Болгарии, председатель Совета министров Болгарии с 1946 г. — 623, 627
Дионисий (Валединский Константин Николаевич, 1876-1960), митрополит. в 1913 г. рукоположен во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии, в 1919 г. эмигрировал, участвовал в создании неканоничной автокефальной Польской Церкви, с 1922 г. архиепископ Волынский и Кременецкий, с 1923 г. «митрополит Варшавский, Волынский и всей Православной Церкви в Польше», признан Константинопольским Патриархатом, с 1948 г. на покое. Был принят в общение Русской Церковью в сане митрополита, но без признания главой Польской Церкви. — 387, 391
Дмитрий Константинович Романов (1860-1919), великий князь, сын великого князя Константина Николаевича (1827-1892) и великой княгини Александры Иосифовны (1830-1911). двоюродный брат Александра 111, главноуправляющий Государственным коннозаводством, расстрелян коммунистами, канонизирован Русской Зарубежной Церковью. — 131, 670
Дмитрий Павлович Романов (1891-1942), великий князь, внук императора Александра II, сын великого князя Павла Александровича, флигель-адъютант, один из участников убийства Г. Распутина. В 1917 г. выслан в отряд в Персию, откуда переехал в США, впоследствии жил в Швейцарии, умер от туберкулеза. — 339, 406, 441, 442, 464
Добровольский Василий Ильич († после 1917), протоиерей (1911), в 1885 г. окончил СПбДА, кандидат богословия, преподаватель пастырского богословия, литургики и гомилетики в Витебской духовной семинарии, в 1908 г. рукоположен в сан иерея, был настоятелем кафедрального собора в Витебске, в 1903-1917 гг. редактор «Полоцких епархиальных ведомостей». — 42-46, 49, 60
Добровольский Михаил Капитонович, протоиерей, священник 198-го пехотного резервного Александро-Невского полка в Санкт-Петербурге (1905). священник лейб-гвардии Егерского полка в 1911-1916 гг. — 473
Добронравов Сергей Алексеевич (1857 — после 1917), генерал-лейтенант (1917), в Русско-японскую войну генерал-майор, начальник госпиталей 1-й Маньчжурской армии, затем до 1913 г. командовал бригадами в разных пехотных дивизиях, в годы Первой мировой войны состоял в резерве чинов Киевского военного округа, в сентябре 1917 г. вышел в отставку. — 196, 266
Довбор-Мусницкий Иосиф Романович (1867-1937), русский и польский генерал, выпускник Николаевской академии Генштаба (1902), участник Русско-японской (в чине капитана Генштаба, с 1904 г. — полковника) и Первой мировой войн, генерал-лейтенант (1917), с августа 1917 г. командир 1-го Польского корпуса, с 1918 г. в Польше, генерал брони (1920), с 1920 г. в отставке. — 165, 168, 427
Додель, житель Лейпцига, участник строительства русского храма. — 310
733
Долгоруков (Долгорукий) Василий Александрович (1868-1918), князь, гофмаршал, генерал-майор Свиты Его Величества, адъютант императора Николая П, убит большевиками в Екатеринбурге. — 405, 420, 421, 434, 439
Домонтович Михаил Алексеевич (1830-1902), генерал от инфантерии, военный историк, действительный член Русского географического общества, Тырновский губернатор (Болгария, 1877-1878). был председателем военно-исторической комиссии по описанию Русско-турецкой войны, исполнял должность директора канцелярии Российской императорской комиссии в Болгарии, с 1896 г. член Военного совета. — 150, 151
Дородницын Александр Леонтьевич (1840-?), протоиерей, с 1864 г. служил в 129-м Бессарабском полку, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, георгиевский кавалер. — 281, 676
Драгомиров Абрам Михайлович (1868-1955), генерал от кавалерии (1916), сын генерала М.И. Драгомирова, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1893), участник Первой мировой войны, командовал бригадой, дивизией, корпусом, армией, в 1917 г. главнокомандующий армиями Северного фронта, в том же году снят с должности, участник Белого движения, эмигрировал, жил во Франции. Югославии. Австрии. — 427, 482, 502, 504, 518-520, 537, 549, 550, 681
Драгомиров Владимир Михайлович (1867-1928), генерал от инфантерии, сын генерала М.И. Драгомирова, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1892), участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1917 г. в резерве, затем в отставке, после Октябрьского переворота эмигрировал, проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, был председателя Русского общества офицеров Генштаба. — 460
Драгомиров Михаил Иванович (1830-1905), генерал-адъютант, военный писатель, участник Русско-турецкой войны, с 1878 г. начальник Академии Генерального штаба, с 1889 г. командующий войсками Киевского военного округа, в 1898-1903 гг. — Киевский. Подольский и Волынский генерал-губернатор. — 180
Дрейер Владимир Николаевич фон (1876-1967), генерал-майор (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Первой мировой войны (был начальником штаба дивизий, командовал полками, затем дивизиями), с 1917 г. в резерве, в 1919 г. выехал на юг России, судим по подозрению в связях с Германией, оправдан, был военным корреспондентом при ВСЮР, жил во Франции, затем в США. — 356, 363
Дрентельн Александр Александрович (1868-1925), генерал-майор, в 1909-1915 гг. флигель-адъютант, штаб-офицер для поручений при Императорской главной квартире, с 1915 г. командир лейб-гвардии Преображенского полка, умер в Вологодской губернии. — 419
Дроздовский Михаил Гордеевич (1881-1919), генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1908), участник Русско-японской и Первой мировой войн, полный георгиевский кавалер, с 1918 г. один из вождей Белого движения, организатор и руководитель 1200-верстного перехода отряда добровольцев из Ясс в Новочеркасск в феврале-апреле 1918г.. командир 3-й стрелковой дивизии Добровольческой армии, умер от заражения крови после ранения. — 555
Дружиловский Петр Людвигович, инспектор Витебской духовной семинарии, выпускник СПбДА (1861), магистр богословия. — С. 31-33, 36, 49, 52
Думский Филипп Иванович, однокурсник Г. И. Шавельского, выпускник Полтавской духовной семинарии и СПбДА (1902). — 123, 132
734
Дункель В.Н., старший врач 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны. — 158, 159, 170-172, 175, 673
Духонин Николай Николаевич (1876-1917), генерал-лейтенант (1917), окончил Академию Генерального штаба (1902), в Первую мировую войну на штабной работе, был генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта, исполняющим должность начальника штаба Юго-Западного фронта, начальником штаба армий Западного фронта, с сентября 1917 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего, после бегства А.Ф. Керенского принял на себя исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего, отказался выполнить приказ Ленина о начале переговоров с Германией, арестован и при конвоировании убит толпой солдат. — 491
Дьяконов Михаил Алексеевич (около 1864-?), действительный статский советник, выпускник СПбДА (1888), кандидат богословия, помощник управляющего хозяйственным отделением Святейшего Синода, управляющий Синодальным контролем, в 1917 г. член Предсоборного совета и Поместного Собора РПЦ 1917-1918 гг. — 255
Евгения (Попова Ольга Аполлоновна, 1858-1933), схимонахиня, вдова священника Василия Попова, жила в Перми, после 1900 г. переехала в Ялту, пользовалась почитанием жителей Крыма, обращавшихся к ней за советом и молитвой. — 499, 500
Евгения Михайловна С., жена священника с. Кресты Витебской епархии. — 80
Евлогий (Георгиевский Василий Семенович, 1868-1946), митрополит, с 1903 г. епископ Люблинский, викарий Холмской епархии, с 1905 г. епископ Холмский и Люблинский, с 1912 г. в сане архиепископа, с 1914 г. архиепископ Волынский и Житомирский, с 1920 г. в эмиграции, управляющий приходами в Западной Европе, с 1922 г. в сане митрополита, с 1931 г. под юрисдикцией Константинопольского Патриархата, экзарх Западной Европы, с 1945 г. под юрисдикцией Московского Патриархата. — 4, 9, 10, 216, 382, 383-395, 488, 490, 542, 543, 558, 568, 581, 584-590, 592, 652, 653, 678, 679, 688, 689
Евсевий (Никольский Евгений Иванович, 1860-1922), митрополит, в 1897 г. рукоположен во епископа Киренского, викария Иркутской епархии, с 1897 г. епископ Камчатский и Благовещенский, с 1899 г. епископ Владивостокский и Камчатский, с 1906 г. в сане архиепископа, по окончании Всероссийского Церковного Собора не смог выехать в свою епархию, временно управлял Смоленской епархией, с 1920 г. митрополит Крутицкий. — 314
Евфимий (Лапин Евгений Николаевич. 1873 - после 1930), епископ, в 1912 г. рукоположен во епископа Барнаульского, викария Томской епархии, с 1916 г. епископ Якутский и Вилюйский, в 1917 г. временно управлял Уфимской епархией, с 1920 г. епископ Олонецкий и Петрозаводский, неоднократно арестовывался, в 1923 г. сослан в Нарымский край, в 1930 г. проживал в Томске, дальнейшая судьба неизвестна. — 319
Евфимий (Сапунджиев Лука Найденов, 1884-1943), архимандрит (1917), окончил КДА (1908), доктор философии Бернского университета (1915), с 1922 г. профессор кафедры систематического богословия богословского факультета Софийского университета, в 1924-1925 гг. декан этого факультета. — 568-570, 614, 660, 664, 665
Егоров Александр Александрович (1887-1959), композитор, хоровой дирижер, педагог, был регентом Придворной певческой капеллы, профессором Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР. — 397
735
Егоров Иван Федорович (1872-1921), протоиерей, в 1899 г. рукоположен в сан иерея, преподавал Закон Божий в петербургских гимназиях и в Смольном институте, с 1911 г. священник Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка, в 1919 г. создал в Петрограде организацию сектантского типа «Религия в сочетании с жизнью», был настоятелем Введенского собора в Санкт-Петербурге, был инициатором кощунственных реформ богослужения, за что был снят с должности настоятеля и запрещен в священнослужении, умер от брюшного тифа. — 220, 252, 300, 301, 657, 684
Екатерина II Алексеевна Романова (1729-1796), российская императрица в 1762-1796 гг. — 74, 421, 436, 632
Елена Петровна Романова (1884-1962), сербская княжна, дочь короля Сербии Петра 1 (Карагеоргиевича), жена великого князя Ивана (Иоанна) Константиновича с 1913 г., после революции была арестована в Екатеринбурге. по настоянию норвежских властей передана норвежскому посольству, выехала в Стокгольм к свекрови и детям, жила в Сербии, Франции. Англии. — 324
Еленевская Анастасия Семеновна, жена священника В. Еленевского. — 62
Еленевский Василий († 1884), священник с. Дубокрай Витебской губернии. — 12, 13, 16, 62, 63
Еленевский Иван Васильевич (1870-1918), протоиерей, сын священника В. Еленевского, друг протопресвитера Г.И. Шавельского, настоятель церкви Святого Духа при Николаевском кавалерийском училище, расстрелян. — 13, 62, 63, 84
Еленевский Михаил Васильевич (1872-?), сын священника, друг протопресвитера Г.И. Шавельского. выпускник Витебской духовной семинарии (1894). — 13, 62
Еленевский Семен Васильевич (1868-?), сын священника, друг протопресвитера Г.И. Шавельского, выпускник Витебской духовной семинарии (1888). — 13, 62, 63
Елизавета Ивановна, сестра А.И. Троицкой. — 62
Елизавета Маврикиевна Романова (Элизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская, 1865-1927). великая княгиня, жена великого князя Константина Константиновича, эмигрировала в 1918 г., жила в Швеции, Швейцарии, Бельгии, Германии. — 325
Елизавета Феодоровна Романова (Елизавета Александра Луиза Алиса, принцесса Гессенская, 1864-1918), великая княгиня, преподобномученица, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории, в 1884 г. вступила в брак с сыном императора Александра II великим князем Сергеем Александровичем, в 1891 г. приняла православие, после убийства великого князя в 1905 г. стала председателем Императорского Православного Палестинского общества, в 1907 г. основала Марфо-Мариин- скую обитель милосердия, вела подвижнический образ жизни, в 1918 г. убита большевиками в Алапаевске. —312, 338-340, 430, 677, 680
Емельянович Яков, учащийся Витебского духовного училища, выпускник Витебской духовной семинарии (1888). — 22, 27
Енгалычев Николай Александрович (1862-1926), князь, генерал-майор (1912), в 1907-1912 гг. командир 1-го лейб-гвардии драгунского Московского полка, затем лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, участник Первой мировой войны и Белого движения, в 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, затем жил во Франции. — 291
Енгалычев Павел Николаевич (1864-1944), князь, генерал от кава-
736
лерии (1918), окончил Николаевскую военную академию Генерального штаба, участник Русско-китайской войны, с 1914 г. начальник Николаевской военной академии, после начала войны назначен Варшавским генерал-губернатором и оставался в этой должности, хотя в 1915 г. покинул Варшаву, с 1917 г. находился в резерве, выехал на юг, жил в Кисловодске, Екатеринодаре, в 1919 г. эмигрировал, умер в Лозанне. — 365
Ермолов Александр Сергеевич (1847-1917), государственный деятель, статс-секретарь (с 1903), член Государственного Совета (с 1905). министр земледелия и государственных имуществ (1894-1905), опекун Смольного института. — 220, 221
Ерофеев Михаил Родионович (1857-1941), генерал от инфантерии (1913), окончил Николаевскую академию Генштаба (1892). участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в Русско-японской войне 1904-1905 гг., в Первой мировой войне 1914-1918 гг., командир 1-гоТуркестанского армейского корпуса (1913-1914), помощник командующего туркестанским военным округом (1916), в1917г. в резерве, эмигрировал, умер во Франции. — 332
Ефим, келейник епископа Иоанна (Левицкого). — 634
Жданов Виктор Степанович (1871-1937), протоиерей, выпускник Витебской духовной семинарии, служил в селах Дзвонь, Усмынь. Кошелево сначала псаломщиком, затем священником, рукоположен в сан иерея в 1897 г., в 1905-1914 гг. 2-й священник в соборе г. Невеля, в 1914-1915 гг. 3-й священник в соборе г. Двинска. благочинный Двинского уезда, во время германской оккупации был контужен, в 1919-1929 гг. служил в Ильинской церкви уездного центра Бешенковичи, в 1931 г. в Задуновской церкви г. Витебска, неоднократно арестовывался и высылался, в 1937 г. расстрелян по приговору «тройки» НКВД. — 86, 87
Жданов Михаил Гаврилович, преподаватель Витебского духовного училища. — 23
Жданова Анна Павловна (около 1876 — после 1916), дочь священника П.В. Щербова, выпускница епархиального училища в Витебске, жена протоиерея В.С. Жданова. — 74, 83, 86, 87
Ждановский Евгений Фаддеевич (1892-1949), оперный певец (бас) и режиссер, образование получил в духовной семинарии в Одессе, где с 15 лет был солистом церковного хора, выступал в театре С.И. Зимина и Большом театре в Москве, в 1924 г. эмигрировал, пел в Королевском театре в Мадриде и Миланской опере, в 1929-1930 гг. выступал в Париже, последние годы пел в Софийском оперном театре. — 577
Жевахов Николай Давыдович (1874-1947), князь, действительный статский советник, камергер высочайшего двора, товарищ обер-прокурора Святейшего Синода (1916-1917), с 1920 г. в эмиграции, заведовал подворьем Святителя Николая в Бари (Италия). — 412, 446, 450, 456, 470, 539-541
Желваков Кирилл (около 1891-?). священник 2-го Конного полка, затем Терского казачьего полка Добровольческой армии. — 525, 526
Желобовский Александр Алексеевич (1834-1910), протопресвитер. выпускник СПбДА, с 1866 г. служил в различных военных церквях, с 1882 г. настоятель Сергиевского всей артиллерии собора, с 1888 г. главный священник армии и флота, с 1890 г. протопресвитер военного и морского духовенства, с 1905 г. член Святейшего Синода. — 8, 140, 154, 195, 209, 214, 222, 223, 233, 238, 239, 242, 244, 252, 254, 293, 302, 303, 331, 345, 633, 655, 657, 672, 675, 677, 691
Жигалов Антипа Григорьевич, священник Успенского собора в г. Витебске. — 86
737
Жилинский Яков Григорьевич (1853-1918), генерал от кавалерии (1910), участник Русско-японской войны, с 1911 г, начальник Генерального штаба, с 1914 г. Варшавский генерал-губернатор, командующий войсками Варшавского военного округа, в 1914 г, командующий армиями Северо-Западного фронта, смещен с должности после неудачного проведения Восточно-Прусской операции, в 1915-1916 гг. представитель русского Верховного командования в Париже, с 1917 г, в отставке, — 309, 351, 364, 422, 423, 425
Жуков Стефан Константинович (1885-1959), врач, выпускник Харьковского университета (1911), участник Первой мировой войны (военврач), работал в хирургических и внутренних отделениях в различных лазаретах и госпиталях (Симферополь, Одесса, Витебск, Свеаборг), был полковым врачом, с 1920 г, в эмиграции в Болгарии, имел частную практику, создал амбулаторию Красного Креста, публиковался в зарубежных медицинских изданиях. — 577
Жукович Антоний Ефимович (1875-1934), протоиерей, с 1907 г. священник 15-го Сибирского стрелкового полка, участник Первой мировой войны, в 1916 г, находился в плену, в годы Гражданской войны был благочинным, затем главным священником Восточно-Сибирской армии, с 1920 г, жил в Китае, с 1929 г, служил в Шанхае. — 317
Жукович Платон Николаевич (1857-1919), историк, окончил СПбДА, с 1891 г, доцент и с 1894 г. профессор СПбДА, после революции работал в Публичной библиотеке, с 1918 г, член-корреспондент Академии наук, — 107, 121, 127, 139, 145, 217-219
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), русский поэт. — 684
Журавский Александр Петрович (1859-?), митрофорный протоиерей, настоятель Тифлисского кафедрального собора, в годы Русско-японской войны главный священник 2-й Маньчжурской армии, в 1907-1919 гг, настоятель Никольской деревянной церкви в Усть-Ижоре, в летнем лагере лейб-гвардии Саперного батальона. — 182, 184, 185, 195, 326, 327, 677
Журавский Митрофан Петрович (1860-1933), статский советник, начальник канцелярии духовного правления Ведомства военного и морского духовенства, выпускник МДА (1886), похоронен в некрополе Александро-Невской лавры, — 245, 247, 254, 255, 280, 284, 326, 327, 468, 677
Забелин Александр Федорович (1856-1933), генерал от инфантерии, начальник Главного управления военно-учебных заведений, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Белого движения (заведовал военно-учебными заведениями ВСЮР), эмигрировал, жил во Франции. — 191
Забелин, псаломщик церкви в с. Глазомичи Витебской епархии. — 80
Забелина Ираида Мефодьевна (См. Шавельская И.М.)
Заблоцкий Аркадий Николаевич, сын священника Н. Заблоцкого, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище и семинарии. — 24
Заблоцкий Константин Николаевич, сын священника Н. Заблоцкого, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище и семинарии (выпускник 1893 г.). — 24
Заблоцкий Николай, священник военно-гарнизонной Никольской церкви в г. Витебске. — 24, 25
Заболоцкий, предводитель дворянства Городокского уезда Витебской губернии в 1916г. — 69
Завьялова Софья Владимировна, преподаватель русской гимназии в Софии. — 579
738
Загю Николай Михайлович (1866 — после 1919), генерал-майор (1910), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, начальник Тифлисского военного училища (1905-1916), участник Белого движения с 1919г. в составе ВСЮР. — 289
Зальца Антон Егорович (1843-1916), барон, генерал от инфантерии (1908), участник Русско-турецкой войны, командовал бригадой, дивизией. корпусом, с 1908 г. помощник командующего войсками Киевского военного округа, с 1912 г. командующий войсками Казанского военного округа. участвовал в Первой мировой войне, вскоре после ее начала отстранен от должности, вновь командовал Казанским военным округом, затем был комендантом Петропавловской крепости. — 351
Зарубаев Николай Платонович (1843-1912), генерал от инфантерии. участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, командир 4-го Сибирского корпуса. — 186
Захария, иеромонах Троице-Сергиевой лавры, находился при штабе 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны. — 184, 188, 202
Здеховский, протодиакон храма Христа Спасителя в Москве. — 399
Зедгинидзе Георгий Михайлович, офицер, выпускник Александровского военного училища (1895), участник русско-японской войны в составе 33-го Восточно-Сибирского полка, в 1909 г. штабс-капитан 153-го пехотного Бакинского полка, в 1911 г. служил в том же полку. — 287
Зейфарт Александр Александрович (1935-1918), генерал от инфантерии (1917). выпускник (1857) и преподаватель (с 1857) Николаевской академии Генерального штаба, заслуженный преподаватель съемки и черчения (1909), в 1914-1915 гг. исполняющий должность начальника академии, с 1917 г. в отставке, умер в Петрограде. — 149, 214
Зенкевич Михаил Михайлович (1883-1944), генерал-майор, участник русско-японской войны, в Первую мировую войну начальник штаба бригады, с 1918 г. в Добровольческой армии, в эмиграции возглавлял Болгарский отдел русской армии, во Вторую мировую войну командир батальона в 5-м полку русского охранного корпуса в Югославии, смертельно ранен в бою с партизанами. — 599, 607, 608
Златев Петр Иванович (1881-1948), генерал (1943), участник Балканских и Первой мировой войн, в 1934-1935 гг. военный министр Болгарии, в 1935 г. министр-председатель, в том же году вышел в отставку. — 149
Зубовский Петр Павлович († около 1923), преподаватель Витебской духовной семинарии, с 1881 г. правитель канцелярии Витебского губернатора. редактор «Сельского вестника», впоследствии товарищ министра земледелия, после революции эмигрировал в Болгарию, преподавал в земледельческом училище. — 40, 55, 219
Зубовский Феофил, одноклассник Г. И. Шавельского в Витебском духовном училище (выпуск 1885 г.), товарищ по Витебской духовной семинарии, выпускник 1892 г. — 37
Зызыкин Михаил Васильевич (1880-1960), русский юрист, историк, в 1910-х гг. приват-доцент Императорского Московского университета, с 1920 г. в эмиграции, преподавал в Софии, в 1930-е гг. был профессором канонического права в Варшавском университете, автор книг «Царская власть и закон о престолонаследии в России» (1924), «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи» (в 3 т., 1931-1939), «Функция церковной власти. Епископ как ее орган» (1931) и других. Умер в Аргентине. — 585
739
Зызыкина Варвара Ивановна († 1958), урожд. Ряполова, жена М.В. Зызыкина, духовная дочь свт. Серафима (Соболева). Умерла в Аргентине. — 585, 591,682
Иван Константинович Романов (1896-1918), великий князь, сын великого князя Константина Константиновича, правнук императора Николая I, убит большевиками в Алапаевске, канонизирован Русской Зарубежной Церковью. — 324
Иван Прохорович, крестьянин с. Азарково Витебской губернии. — 102
Иван, денщик протопресвитера Г.И. Шавельского во время Первой мировой войны. — 696
Иван, звонарь, участник освящения храма в Лейпциге в 1913г. — 309
Иванис Василий Николаевич (1888^1974), офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения, председатель Кубанского правительства в 1919-1920 гг., с 1920 г. в эмиграции, жил в Польше, Германии, с 1948 г. в Канаде. — 547
Иваницкий Иван Федорович, преподаватель физики и математики Витебской духовной семинарии, в 1911 г. награжден орденом св. Владимира 4-й степени. — 38-40
Иванов Василий Тимофеевич (1864-1938), протоиерей, выпускник КДА (1891), в 1915-1920 гг. ректор Ставропольской духовной семинарии, ранее преподавал в Тамбовской духовной семинарии (1902-1906). Курском епархиальном училище (1906-1915), после закрытия Ставропольской семинарии с 1920 г. проживал в г. Ейске, в 1938 г. арестован, умер в Краснодарской тюрьме от туберкулеза легких. — 509-511, 688
Иванов Константин Иванович, доцент Варшавского университета, с 1934 г. директор русской гимназии в Софии. — 577, 578, 580
Иванов Н., ректор Ставропольской духовной семинарии — см. Иванов Василий Тимофеевич.
Иванов Николай Иудович (1851-1919), генерал от артиллерии (1908), участник Русско-японской войны, в годы Первой мировой войны командовал армиями Юго-Западного фронта (1914-1916), с 1916 г. член Государственного Совета, в 1917 г. безуспешно пытался подавить революционные выступления в Петрограде, в 1918 г. возглавлял белоказачью Южную армию. — 7, 203, 272, 280-282, 284, 351, 404, 405, 412, 418, 422-424, 442, 443, 458-461, 463, 471,681
Иванов Филипп Антонович (1871 — не ранее 1920), государственный деятель, участник Русско-японской войны, управляющий заводами Катав-Ивановского. а затем Кыштымского горных округов на Урале, с 1912 г. директор-распорядитель общества Кыштымских заводов, член Государственного Совета, с 1914 г. член Особого совещания по обороне, председатель комитета по снабжению военных заводов металлами, после Октябрьского переворота эмигрировал. — 498
Иванов, капитан 1-го ранга, командир военного корабля Тихоокеанского флота в 1913 г,, скорее всего, Иванов-Тринадцатый Константин Петрович (1872-1933), герой Русско-японской войны, последний командир затопленного крейсера «Рюрик», в 1908-1912 гг. начальник дивизиона подводных лодок во Владивостоке в чине капитана 2-го ранга, в 1912-1914 гг. командир крейсера «Жемчуг», затем командир крейсеров «Измаил» (1916) и «Пересвет» (1916). в 1917 г. эмигрировал во Францию, был председателем эмигрантских организаций офицеров флота, контр-адмирал (1930). — 314
Иванов-Шестнадцатый, мичман, участник Русско-японской войны. — 413
Ивановский, псаломщик в с. Лёхово — 62
740
Ивановский Александр Иосифович (около 1884 — не ранее 1938), участник Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. от Ростова-на-Дону, присяжный поверенный, выпускник университета, участник Ставропольского Юго-Восточного Русского Церковного Собора, эмигрировал, в 1921 г. член Карловацкого Всезаграничного Церковного Собора, в 1938 г. член Второго Всезарубежного Собора РПЦЗ. — 507
Игнатович Игнатий Викторович (1865-?), священник Вознесенской церкви в с. Хвошно Витебской губернии, в 1909г. служил в селе Дубокрай в церкви Михаила Архангела. — 61
Игнатович Мария Георгиевна, урожденная Смирнова, жена священника И.В. Игнатовича. — 61
Игнатович Николай Дмитриевич, протоиерей, священник 98-го пехотного Юрьевского полка (1905), благочинный военных церквей в Двинске. — 299
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877-1954), генерал-лейтенант Советской армии, в 1908-1912 гг. военный атташе в Дании, Швеции и Норвегии, в 1912-1917 гг. — во Франции, впоследствии работал в советском торгпредстве в Париже, с 1937 г. проживал в СССР, преподавал в военно-учебных заведениях РККА, занимался литературной деятельностью. — 672
Игнатьев Николай Николаевич (1872-1962), граф, генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1897), в Первую мировую войну командовал полком, дивизией, в 1918 г. служил у П. Скоропадского, командовал дивизией, участник Белого движения, в 1920 г. эмигрировал, жил и умер в Софии. — 605
Игнатьев Павел Николаевич (1870-1945), граф, действительный статский советник, в 1907-1909 киевский губернатор, в 1915-1916 г. министр народного просвещения. В 1918 г. подвергался кратковременному аресту, освобожден по причине заслуг перед народным просвещением, в 1919 г. эмигрировал, жил в Англии, Канаде. — 337, 443
Игнатьева Софья Сергеевна (1852-1944), урожденная Мещерская, графиня, фрейлина императрицы Марии Александровны, церковный и общественный деятель, благотворительница, после революции эмигрировала, умерла во Франции. — 239
Иеремия (VI в. до Р.Х.), пророк. — 571
Игорь Константинович Романов (1894-1918), великий князь, флигель-адъютант, убит большевиками в Алапаевске, канонизирован РПЦЗ. — 441
Извеков Николай Дмитриевич (1858 — после 1918), протоиерей Московского придворного Благовещенского собора до 1914 г., затем Московского Архангельского придворного собора, приват-доцент Московского университета, председатель Общества любителей духовного просвещения (1908-1918), духовный писатель. — 145
Извольский Петр Петрович (1863-1928), протоиерей, церковный и государственный деятель, работал в Министерстве иностранных дел. Министерстве внутренних дел, был товарищем министра народного просвещения, обер-прокурор Святейшего Синода (1906-1909), член Государственного Совета (1912-1916), в 1920 г. эмигрировал, жил во Франции, где в 1922 г. был рукоположен в сан священника, служил в Брюсселе в посольской церкви Святителя Николая. — 385
Иконников Николай Николаевич, военный священник, выпускник Тобольской духовной семинарии (1897), в 1905 г. служил в церкви местной команды в г. Копале, в 1914 г. служил в 15-м Туркестанском стрелковом полку. — 334, 335
Икономова Галина, ученица русской гимназии в Софии. — 587
741
Икскуль фон Гильдебрандт Александр Александрович (1840-1912), барон, участник Русско-японской войны. Харьковский и Псковский губернатор, действительный тайный советник (1899), сенатор, член Госсовета. — 191
Иларион (Михайловски Стоян Стоянов, 1812-1875), митрополит Великотырновский, участник движения за независимость Болгарии от Османской империи и за автокефалию БПЦ. В 1858 г. рукоположен во епископа Макариопольского. С 1872 г. митрополит Великотырновский. — 596
Илиев Дмитрий, начальник отдела вероисповеданий МИД Болгарии в конце 1940-х годов. — 596, 625, 662, 663
Илия, сириец, священник, в 1898 г. присоединился к Православной Церкви вместе с епископом Ионой (Мар-Иоанном), студент СПбДА. — 110
Илляшевич (Ильяшевич) Яков Валерианович (около 1870-1953), действительный статский советник, выпускник Императорского училища правоведения, служил в Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел, обер-прокурорском надзоре Правительствующего Сената, один из учредителей Общества в память о. Иоанна Кронштадтского, в 1917 г. эмигрировал, жил в Югославии, затем во Франции, автор книги «Отец Иоанн Кронштадский» (Белград, 1938, и другие издания) под псевдонимом Сурский И.К. — 672
Ильинский Михаил Иванович, священник, товарищ Г.И. Шавельского по СПбДА, см. Макарий (Ильинский), митрополит.
Иннокентий (Беляев Иван Васильевич. 1862-1913). архиепископ, в 1899 г. рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, с 1901 г. епископ Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии, с 1903 г. —Тамбовский и Шацкий, с 1909 г. архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии и член Святейшего Синода. — 288, 320
Иоанн (Алексеев Илья Иванович, 1862-1905), епископ, рукоположен во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии в 1899 г., с 1902 г. епископ Пермский и Соликамский. — 116 Иоанн Воин (IV в.), святой. — 229. 230
Иоанн Златоуст (ок. 347-407), святитель, архиепископ Константинопольский. — 659
Иоанн (Кратиров Иван Александрович, 1839-1909), епископ, в 1893 г. рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, с 1895 г. епископ Елизаветградский, викарий Харьковской епархии, в том же году назначен епископом Нарвским и ректором СПбДА, в 1899 г. епископ Саратовский и Царицынский, с 1902 г. член Святейшего Синода, в 1903 г. уволен от управления епархией. — 112, 113, 117, 670, 671
Иоанн (Левицкий Иоанникий Алексеевич, 1857-1923), архиепископ, в 1908 г. рукоположен во епископа Ейского, викария Ставропольской епархии, с 1916 г. епископ Кубанский и Екатеринодарский, с 1922 г. в обновленческом расколе. — 502, 507, 511-513, 535, 536, 538, 540, 546, 630, 631, 634
Иоанн (Разумов Дмитрий Александрович, 1898-1990), митрополит. В 1945 г. в сане архимандрита входил в делегацию РПЦ, посетившую Болгарию. с 1946 г. наместник Троице-Сергиевой лавры, в 1953 г. рукоположен во епископа Костромского и Галичского. с 1954 г. епископ Псковский и Порховский, с 1959 г. епископ Берлинский и Германский, с 1960 г. епископ Псковский и Порховский, с 1962 г. в сане архиепископа, с 1972 г. в сане митрополита, с 1987 г. на покое. — 619
Иоанн Красовский, униатский архиепископ Полоцкий в 1806-1820 гг. — 145
Иоанн Креститель. — 568
742
Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич, 1829-1908), святой, митрофорный протоиерей, духовный писатель, с 1855 г, служил в Андреевском соборе г. Кронштадта, с 1894 г, настоятель Андреевского собора, с 1907 г. член Святейшего Синода. — 6, 144, 155, 672, 673
Иоанн Рыльский (около 876-946), преподобный, монах-пустынножитель, покровитель Болгарии. — 621, 623
Иоанн Тобольский (Максимович Иоанн Максимович, 1651-1715), святитель, митрополит, в 1697 г. рукоположен во епископа Черниговского, с 1711 г. митрополит Тобольский, миссионер, богослов, автор многочисленных поэтических сочинений, канонизирован РПЦ в 1916 г. — 680
Иоанникий (Руднев Иван Максимович, 1826-1900), митрополит, ректор Киевской (1859-1860) и Санкт-Петербургской (1860-1864) духовных академий, в 1861 г. рукоположен во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1864 г. епископ Саратовский и Царицынский, с 1873 г. — Нижегородский и Арзамасский, в 1877 г. возведен в сан архиепископа и поставлен архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии, с 1882 г. митрополит Московский и Коломенский, с 1891 г. митрополит Киевский и Галицкий. — 366, 596, 620
Иоанникий (Савинов, † 1855), флотский иеромонах, герой Крымской войны, кавалер ордена Святого Георгия IV степени. — 678
Иона (Мар-Иоанн, 1834-1910), епископ Супруганский, рукоположен во епископа Урмийского и Супруганского несторианским Патриархом Маар-Шимуном. в 1898 г. вместе со своей паствой был присоединен к Православной Церкви. — 110.
Иосафат (Кунцевич Иоанн, 1580-1623), униатский епископ, родился в православной семье, перешел в униатство, около 1604 г. принял монашество, с 1617 г. епископ, с 1618 г. архиепископ Полоцкий, известен как жестокий гонитель православия, отобрал у православных все храмы и монастыри в Полоцке, убит жителями Полоцка, причислен к лику святых Римско-католической церковью. — 47
Иосиф (Лазарев Иван, 1898-1988), митрополит Варненский и Преславский, доктор богословия, образование получил в Софийской духовной семинарии, на богословском факультете Софийского университета и в Черновицком университете. В 1936 г. рукоположен во епископа Знепольского. С 1937 г. митрополит Варненский и Преславский. — 628
Иосиф (Семашко Иосиф Иосифович, 1798-1868), митрополит, родился в семье униатского священника, окончил Виленский университет, в 1821 г, рукоположен в иерея, с 1829 г. в сане епископа, приложил немало усилий к соединению униатства с Православной Церковью, добился принятия униатов в общение с Православной Церковью в 1839 г., с 1849 г. архиепископ Литовский и Виленский. — 16, 145, 216, 217, 675
Иосиф II Австрийский (1741-1790), император Священной Римской империи (1765-1790), сын Франца I Лотарингского и императрицы Марии Терезии. — 436
Иосиф Обручник, святой, потомок царя Давида, старец, хранитель девства Божией Матери. — 436
Ирена (1866-1953). принцесса Гессенская и Рейнская, дочь великого герцога Людвига IV, сестра императрицы Александры Феодоровны, с 1888 г. жена принца Генриха Прусского. — 338
Ирецкая Наталья Александровна (1845-1922), певица и педагог, в 1874-1922 гг. преподавала в Санкт-Петербургской консерватории, с 1881 г. профессор. — 151
Исаак, праотец — 131
Исидор (Никольский Иаков Сергеевич, 1799-1892), митрополит, в 1834 г. рукоположен во епископа Дмитровского, викария Московской
743
епархии, с 1837 г. епископ Полоцкий и Виленский, с 1840 г. — Могилевский, с 1841 г. в сане архиепископа, с 1844 г. экзарх Грузии, член Святейшего Синода, с 1856 г. в сане митрополита, с 1858 г. митрополит Киевский и Галицкий, с 1860 г. митрополит Новгородский. Санкт-Петербургский и Финляндский. — 216
Истер — охранник в варшавской тюрьме. — 701
Кавернинский Измаил Иванович, протоиерей, военный священник. в годы Гражданской войны служил в Киеве. — 495
Калабухов Алексей Иванович (1880-1919), священник, выпускник Ставропольской духовной семинарии, казачий политик и общественный деятель, член Кубанского правительства, за подписание Договора дружбы с кавказскими горцами обвинен в измене, повешен по приговору военно-полевого суда ВСЮР. — 543, 545
Калачев Владимир, протоиерей церкви Зимнего дворца в 1913 г., царский духовник. — 321
Каледин Алексей Максимович (1861-1918), генерал от кавалерии (1916), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1889). участник Первой мировой войны, командовал дивизией, корпусом, армией, с 1917 г. член Военного совета, после Октябрьского переворота пытался организовать казачество на борьбу с большевизмом, застрелился. — 427
Калинников Иван Михайлович (1892-1924). русский журналист, участник Первой мировой войны, штабс-капитан, георгиевский кавалер, участник Е5елого движения, в эмиграции в Константинополе, затем в Болгарии, издатель газеты «Русь», редактор газеты «Неделя», убит коммунистами. — 584
Каллистов Николай Александрович (1845-1914), митрофорный протоиерей, военный священник, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (священник Эриванского отряда 4-й сводной кавалерийской дивизии), в годы Русско-японской войны главный священник 3-й Маньчжурской армии, с 1907 г. протоиерей Шлиссельбургской крепостной церкви: с этого же года служил в церкви Петербургского клинического военного госпиталя; с 1908 г. в церкви лейб-гвардии Семеновского полка, с 1911 г. настоятель собора в Батуме. — 182, 184, 185, 252, 253, 286, 287, 675
Каллистрат (Цинцадзе, 1866-1952), Католикос-Патриарх Грузинский. В 1925 г. рукоположен во епископа Ниноцминдского и возведен в сан митрополита Манглисского с назначением Местоблюстителем Патриаршего престола. С 1932 г. Католикос-Патриарх всея Грузии. — 687
Каминский Иов, священник Тобольского пехотного полка, герой Русско-турецкой войны 1828-1829 гг., в 1829 г. за проявленный героизм награжден орденом Святого Георгия IV ст., назначен в Петергофскую дворцовую церковь. — 678
Кантакузен Михаил Михайлович (1858-1927), князь, генерал-лейтенант (1914), адъютант великого князя Михаила Николаевича (с 1889). участник Русско-японской войны (командовал 3-м дивизионом 31-й артиллерийской бригады). Первой мировой войны (инспектор 23-го армейского корпуса), после октябрьского переворота в эмиграции в Италии. — 353, 354
Капнист Василий Васильевич (1758-1823), русский поэт и драматург. — 685
Капралов Евгений Зотикович (1868 — не ранее 1931), протоиерей, выпускник КДА (1893), магистр богословия, законоучитель Алексеевского инженерного училища в Киеве, в 1917 г. член редколлегии журнала
744
«Церковно-общественная мысль», член Всероссийского Церковного Собора 1917-1918ГГ., служил в Киеве, в 1919г. осужден, заключен в киевскую тюрьму, в том же году освобожден, в 1931 г. привлекался к суду «за принадлежность к группе антисоветского духовенства», дальнейшая судьба неизвестна. — 496
Карл XII (1682-1718), шведский король (с 1697), полководец. — 603
Карлова Наталья Федоровна (1858-1921), урожденная Ванлярская, графиня, жена Георгия Георгиевича, герцога Мекленбург-Стрелицкого. — 444, 445
Кармалин Александр Николаевич (1870-1928), полковник лейб-гвардии Конного полка, выпускник Пажеского корпуса (1899), участник Белого движения, в эмиграции в Югославии. — 503
Карташёв Антон Владимирович (1875-1960), российский государственный деятель, историк Церкви, в 1900-1905 гг. преподавал церковную историю в СПбДА, в 1906-1918 г. доцент, затем профессор и заведующий кафедрой истории религии и церкви Высших женских (Бестужевских) курсов в Санкт-Петербурге, с 1909 г. председатель Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге, в 1917 г. товарищ обер-прокурора, обер-прокурор Святейшего Синода, затем министр исповеданий Временного правительства, участник Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг., после Октябрьского переворота арестован большевиками, находился в заключении, в 1919 г. эмигрировал в Финляндию, затем проживал в Париже, где принял участие в создании Свято-Сергиевского богословского института, в котором был инспектором (1939-1944) и профессором. — 119, 240, 385, 693
Карцов Владимир Александрович (1860-1938), генерал-лейтенант, окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генштаба, служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, командовал 1-й бригадой Кубанской казачьей дивизии, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, с 1915 г. в отставке, участник Белого движения в ВСЮР, первопоходник, начальник обоза Кубанского отряда, с мая 1918 г. по август 1919г. состоял в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР, с августа 1919 г. по январь 1920 г. служил на Восточном фронте, состоял при штабе Верховного правителя адмирала А.В. Колчака, вернулся в Русскую армию в Крым, в эмиграции в Югославии с 1921 г., председатель офицерского суда чести. — 503
Карцов, генерал, участник Белого движения, брат (возможно, двоюродный) В.А. Карцова. — 503
Кастальский Александр Дмитриевич (1856-1926), композитор, с 1922 г. профессор Московской консерватории. — 437
Каульбарс Александр Васильевич (1844-1925, по другим данным, 1929), генерал от кавалерии, участник похода в Кульджу (1871), Хивинского похода (1873), Русско-турецкой (1877-1878), Русско-китайской (1900-1901). Русско-японской войн (1904-1905), в Первую мировую войну состоял в распоряжении командующего Северо-Западным фронтом, с 1915 г. уволен со службы, с 1916 г. Одесский генерал-губернатор, впоследствии эмигрировал, проживал в Париже. — 180
Кауфман (Кауфман-Туркестанский) Петр Михайлович фон (1857-1926), государственный деятель, в 1906-1908 гг. министр народного просвещения, в 1908 г. обер-гофмейстер, в Первую мировую войну руководил учреждениями Красного Креста в армии, после Октябрьского переворота эмигрировал во Францию, был членом главного управления Красного Креста. — 443, 696
Кашталинский Николай Александрович (1849-1917), генерал от инфантерии (1908), участник Русско-турецкой, Рсско-японской (коман-
745
дующий 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией) и Первой мировой войн (командир 28-го армейского корпуса в 1914-1915 гг. и затем 40-го армейского корпуса), убит в Петербурге психически больным солдатом. — 191, 468
Кванчехадзе Василий Алексеевич (1858 — после 1919), полковник, впоследствии генерал-лейтенант (1913), командир 206-го пехотного Сальянского полка в 1907-1913 гг., участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, командир 2-й бригады 52-й пехотной дивизии в 1913-1916 гг., начальник 39-й пехотной запасной бригады (с марта 1916), участник Белого движения в составе ВСЮР, с 15 сентября 1918 г. и на 22 января 1919 г. в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. — 289
Кедринский Николай Григорьевич (1853-1935), протоиерей, окончил Новгородскую духовную семинарию (1875), СПбДА (1879), кандидат богословия, в 1888-1896 гг. настоятель Покровской церкви в Гатчине, царский духовник. — 239, 325, 330, 339
Кедринский, столоначальник в Военно-духовном ведомстве при протопресвитере А.А. Желобовском. — 140
Кедров Константин Николаевич (1877-1932), сын протоиерея Н.Н. Кедрова, преподаватель Школы музыкальной техники в Петрограде. после Октябрьской революции эмигрировал, выступал с концертами. — 131
Кедров Николай Никитич (1837-1904), придворный протоиерей, настоятель Спасо-Преображенской церкви в Стрельне. — 131
Кедров Николай Николаевич (1871-1940), сын протоиерея Н.Н. Кедрова, окончил регентский курс Императорской певческой капеллы и Санкт-Петербургскую консерваторию, профессор этой консерватории, после Октябрьской революции эмигрировал, являлся одним из основателей Русской консерватории в Париже, выступал с концертами. — 131
Керенский Александр Федорович (1881-1970), политический деятель, во Временном правительстве министр юстиции (март-май), военный и морской министр (май-сентябрь), с 8 (21) июля министр-председатель, с 30 августа (12 сентября) Верховный главнокомандующий, в 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. проживал в США. — 472, 475, 476, 481-484, 698
Кибардин Алексий (1882-1964), протоиерей (1921), окончил СПбДА со степенью кандидата богословия, в 1903 г. рукоположен в священный сан, с 1913 г. служил в Феодоровском государевом соборе в Царском Селе, участник иосифлянского движения, в годы Великой Отечественной войны на территории, оккупированной фашистской Германией, сотрудничал с партизанами, в 1945-1949 гг. был духовником преподобного Серафима Вырицкого, неоднократно арестовывался, прошел лагеря и ссылки, в 1950 г. военным трибуналом войск МВД Ленинградской области осужден на 25 лет лагерей, освобожден в 1955 г., с 1957 г. проживал в Вырице. — 321, 677
Киприан (Керн Константин Эдуардович, 1899-1960), архимандрит, богослов, историк. — 5
Киприанович Григорий Яковлевич (1846-1915), церковный историк, публицист, магистр богословия, преподавал в Литовской духовной семинарии, автор исследований униатства, биографии митрополита Иосифа (Семашко). — 145, 217, 675
Кирилл († 869), св. равноапостольный. — 189, 592
Кирилл (Константинов Константин Марков, 1901-1971), Патриарх Болгарский, доктор богословия. В 1936 г. рукоположен во епископа Стобийского. С 1938 г. митрополит Пловдивский. В 1951-1953 — наместник-председатель Св. Синода. С 1953 г. Патриарх Болгарский. — 628
746
Кирилл Владимирович Романов (1876-1938), великий князь, контр-адмирал, старший сын великого князя Владимира Александровича. двоюродный брат императора Николая И. в 1905 г. уволен со службы за недозволенный брак с двоюродной сестрой Викторией Мелитой, разведенной женой брата императрицы Александры Феодоровны Эрнеста Людвига, в 1909-1912 г. служил на крейсере «Олег», в 1914 г. состоял при штабе Верховного главнокомандующего, в 1915-1917 г. командир морского Гвардейского экипажа, в 1917 г. поддержал новую власть, в том же году эмигрировал, в 1924 г. объявил себя Всероссийским императором Кириллом I, что не было признано Русской Церковью и значительной частью русских монархистов. — 307, 309-311, 339, 441, 586, 688, 689
Кирион (Садзагелов (Садзегели, Садзеглишвили) Георгий Иеронимович, 1853-1918), Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви. в 1898 г. рукоположен во епископа Алавердского, с 1900 г. епископ Горийский, с 1902 г. епископ Балтский, викарий Подольской епархии, с 1903 г. епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии, с 1904 г. епископ Орловский и Севский, с 1906 г. епископ Сухумский, с 1907 г. епископ Ковенский, викарий Литовской епархии, в 1908 г. уволен на покой по причине обвинения в причастности к убийству в Тифлисе Экзарха Грузии Никона (Софийского), с 1915 г. епископ Полоцкий и Витебский. в 1917 г. переехал в Грузию, где был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии, убит во время народных беспорядков. Причислен к лику святых Грузинской Православной Церковью. — 636, 637
Кирсанов Евгений Федорович († 1917), полковник (с 1914 г., в воспоминаниях ошибочно назван капитаном), выпускник Михайловской артиллерийской академии (1901), служил на Петербургском патронном заводе, на 1 августа 1916 г. значился штаб-офицером для поручений при управлении начальника артиллерийского снабжения армий Юго-Западного фронта, знакомый протопресвитера Г.И. Шавельского, убит во время беспорядков в Петрограде. — 468
Киселевские, друзья протопресвитера Г.И. Шавельского. см.: Киселевский Е.М. и Киселевский Н.М.
Киселевский Евгений Михайлович (1870-1944), юрист, общественный деятель, статский советник, товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, после Октябрьской революции в эмиграции, жил в Югославии, во Франции (с 1925). был секретарем Богословского института в Париже, членом Союза бывших деятелей русского судебного ведомства. — 250
Киселевский Николай Михайлович (1866-1939), генерал-лейтенант Генштаба (1915), в 1917 г. командовал 10-й армией, участвовал в Белом движении, с 1920 г. проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, с 1928 г. жил во Франции, где был председателем Комитета помощи русским безработным. — 249, 250
Киселенские — прихожане Суворовской церкви в Санкт-Петербурге. — 153
Клейнберг А., купец 1-й гильдии, владелец Барановского имения и имения Юхновичи в Витебской губернии (1890-е), которыми в 1906 г. владела его вдова А.П. Клейнберг. — 77, 309
Клембовский Владислав Наполеонович (1860-1921), генерал, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1885), участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1917 г. член Военного совета, главнокомандующий армиями Северного фронта, с 1918 г. в РККА, в 1920 г. арестован, погиб в заключении. — 427
Клепацкая Мария Осиповна, учительница церковно-приходской школы в с. Бедрица Лепельского уезда Витебской губернии. — 96
747
Клепацкий Осип Иванович, псаломщик храма в с. Бедрица Лепельского уезда Витебской епархии. — 90-92, 95, 96
Климент († 916), равноапостольный, епископ Охридский. — 592
Климент (Друмев Васил Николов, 1841-1901), митрополит Великотырновский, писатель, драматург, общественный деятель, окончил Одесскую духовную семинарию и КДА. В 1874 г. рукоположен во епископа Браницкого, в 1879-1880 гг. занимал пост премьер-министра Болгарии, с 1884 г. митрополит Тырновский, в 1893 г. обвинен в антигосударственной деятельности и по указанию князя Фердинанда отправлен в Гложенский монастырь на вечное заточение, однако через 15 месяцев освобожден и вернулся на кафедру. — 596
Климент (Шивачев Григорий Иванов, 1873-1930), митрополит Врачанский, выпускник КДА (1898), кандидат богословия. В 1909 г. рукоположен во епископа Браницкого. С 1914 г. митрополит Врачанский. С 1914г. член Св. Синода БПЦ. С 1928г. наместник-председатель Св. Синода. Оставил множество проповедей, автор учебника по гомилетике. — 596
Климов В.Д., гоф-фурьер Высочайшего двора. — 439
Клириков Капитон Васильевич, священник (ранее протодиакон, диакон в Тверской епархии), выпускник КазДА (1899), кандидат богословия. — 142
Клодт Эдуард Карлович (1855-1919), генерал-лейтенант (1908), окончил Николаевскую академию Генштаба (1886), командовал батальоном, полками, участник Русско-японской и Первой мировой войн, дежурный генерал 1-й Маньчжурской армии в 1904-1905 гг., в 1906 г. командир 47-й Резервной пехотной бригады (г. Холм Варшавской губернии), в 1908-1914 г. начальник 8-й Сибирской стрелковой дивизии, затем 14-й Сибирской стрелковой дивизии, после Октябрьской революции арестован ЧК и расстрелян в Москве 23 ноября 1919г. — 183
Клюев Николай Алексеевич (1859-1921), генерал-лейтенант (1909), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Первой мировой войны, в 1914 г. взят в плен в Восточной Пруссии, в 1919 г. проживал в Копенгагене, участвовал в белом движении на севере России, затем эмигрировал в Финляндию. — 364, 678
Ключевский Василий Осипович (1841-1911), русский историк, с 1871 г. приват-доцент, в 1882-1906 гг. профессор Московского университета. — 219
Кнышевский Николай Павлович, выпускник Витебской духовной семинарии (1892), священник Успенского храма в с. Азарково Витебской епархии с 1898 г. — 108, 109
Ковалевские, братья-католики, офицеры 33-го Восточно-Сибирского полка, участники Русско-японской войны. — 161, 162, 193
Коковцов Владимир Николаевич (1853-1943), российский государственный и политический деятель, граф, в 1906-1914 гг. министр финансов Российской империи, в 1911-1914 гг. председатель Совета министров, был членом Государственного Совета, с 1918 г. в эмиграции, жил во Франции. — 324, 385, 414
Коллонтай Александра Михайловна (1872-1952), деятельница российского революционного движения, советский дипломат, с 1915 г. в РСДРП, делегировалась РСДРП на социалистические конгрессы, с 1917 г. член исполкома Петросовета, после Октябрьской революции нарком призрения, затем нарком агитации и пропаганды Крымской Советской республики, с 1923 г. на дипломатической работе, в 1930-1945 гг. постоянный поверенный, а затем посол СССР в Швеции. — 151
748
Коллонтай Владимир Людвигович (1867-1917), генерал-майор (1913), военный инженер, профессор Николаевской инженерной академии. участник Первой мировой войны, муж А.М. Коллонтай. — 151
Коломийцев Петр Иванович, полковой врач, участник Русско-японской войны. — 157, 164, 165
Колчак Александр Васильевич (1874-1920), адмирал, океанограф, один из руководителей Белого движения, участник полярных экспедиций 1900-1903 гг.. Русско-японской войны, с 1916 г. вице-адмирал, командующий Черноморским флотом, с 1917 г. в отставке, выехал в США в качестве военного консультанта, в 1918 г. Омское антибольшевистское правительство присвоило Колчаку титул Верховного правителя Российского государства, в 1920 г. расстрелян большевиками. — 505, 519-521, 554
Кондзеровский Петр Константинович (1869-1929), генерал, окончил Николаевскую академию Генштаба, с 1914 г. дежурный генерал Ставки главнокомандующего, в 1917 г. отстранен от должности, в 1918 г. выехал в Финляндию, в 1919 г. начальник штаба и помощник главнокомандующего генерала Юденича, помощник главнокомандующего Северо-Западной армией по должности военного министра, затем представитель Северо-Западной армии в Финляндии, в 1920 г. переехал в Париж, с 1925 г. начальник военной канцелярии великого князя Николая Николаевича. — 367, 434. 443
Кондратенко Роман Исидорович (1857-1904), генерал-лейтенант (посмертно), военный инженер, герой Русско-японской войны, фактический руководитель обороны Порт-Артура. Погиб в бою. — 209
Кондратенко, сын Р.И. Кондратенко, умерший в 12-летнем возрасте. — 209
Кондратович Киприан Антонович (1858-1932), генерал от инфантерии (1910), участник подавления Боксерского восстания в Китае, участник Русско-японской войны, начальник 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, в годы Первой мировой войны после поражения в Восточной Пруссии отстранен от командования, числился в резерве Минского военного округа, с мая 1917г. командовал 75-й пехотной дивизией, после Октябрьской революции был членом Народного секретариата Белорусской народной республики (БНР). с декабря 1918 г. в должности министра обороны БНР. с 1920 г. проживал в Литве, где занял пост вице-министра обороны, с 1921 г. в отставке, жил в своем имении под Гродно, входившем в то время в состав Польши. — 158, 164, 167, 179, 180, 194, 362, 364, 422, 674
Константин (Булычев Константин Иоакимович, 1858 — середина 1930-х), архиепископ, в 1896-1900 гг. ректор Витебской духовной семинарии в сане архимандрита, с 1900 г. ректор КДА, в 1901 г. рукоположен во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1904 г. епископ Самарский и Ставропольский, с 1911 г. епископ Могилевский и Мстиславский, с 1915 г. в сане архиепископа, с 1923 г. находился в обновленческом расколе, принес покаяние, с 1925 г. в григорианском расколе, умер вне общения с Православной Церковью. — 105, 427, 436, 437, 480, 637, 699
Константин (Малинков Костадин Попдимитров, 1843-1912), митрополит Врачанский БПЦ с 1884 г., благотворитель, просветитель. — 596
Константин Константинович Романов (1858-1915), великий князь, сын великого князя Константина Николаевича, внук императора Николая 1, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, с 1889 г. президент Императорской академии наук, поэт, драматург, публиковался под псевдонимом К.Р. — 220, 235, 239, 252, 262, 264, 265, 272, 273, 284
749
Константин Николаевич Романов (1827-1892), великий князь, генерал-адмирал, сын императора Николая I, в 1853-1862 гг. управлял флотом и морским ведомством, в 1862-1863 гг. наместник Царства Польского, в 1865-1881 гг. председатель Государственного Совета. — С. 324
Концевич Иван Михайлович (1893-1965), русский церковный историк. — 689
Копецкий Василий Яковлевич (около 1859-1934), священник, сын Я.Ф. Конецкого, окончил Витебскую духовную семинарию (1879) и духовную академию, преподавал в Полоцком духовном училище, Чугуевском пехотном училище, участвовал в Первой мировой войне, служил в 10-м Ингерманладском гусарском полку, после революции служил в г. Чугуеве. — 92
Копецкий Семен Яковлевич, сын протоиерея Я.Ф. Копецкого, выпускник Полоцкого духовного училища, одноклассник Г.И. Шавельского по Витебской семинарии. — 92
Копецкий Яков Фавстович, протоиерей, благочинный, служил в с. Ветрино Витебской губернии. — 92, 93, 97
Корейво Витольд-Чеслав Симфорианович (1859-1938), генерал-лейтенант (1907). военный юрист, окончил Александровскую военно-юридическую академию (1883). участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, служил в военно-судебных органах крупных воинских соединений, военных округов, в 1911-1917 гг. помощник главного военного прокурора и начальника Главного военно-судного управления, затем постоянный член Главного военного суда, с 1918 г. в отставке, служил юрисконсультом в штабе РККА Западного военного округа, с 1920 г. работал в различных учреждениях Петрограда, с 1928 г. на пенсии, в 1935 г. выслан в г. Самару (Куйбышев). — 181
Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918), генерал от инфантерии (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1898), участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, в 1917 г. главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, затем Верховный главнокомандующий (с 18.07.1917). в декабре 1917 г. возглавил Добровольческую армию, убит при штурме Екатеринодара. — 427, 483, 484, 491, 505, 554, 556
Короткевич Ипполит, протоиерей, служил в с. Усвяты Витебской епархии. — 70
Короткевич Филипп (1857-?), витебский мещанин. — 20
Косик О.В. — 690
Косич Андрей Иванович (1833-1917), генерал от кавалерии, участник Крымской и Русско-турецкой войн, в 1887-1891 гг. Саратовский генерал-губернатор, с 1891 г. командовал 4-м армейским корпусом, в 1901-1905 гг. командующий Казанским военным округом, с 1905 г. член Государственного Совета. — 303
Косяков Василий Антонович (1862-1921), профессор, инженер, архитектор хозяйственного управления Синода, в 1910-е годы архитектор высочайшего двора, инспектор по строительной части при кабинете Его Величества, директор Института гражданских инженеров (1905-1921). строитель соборов и гражданских зданий в Санкт-Петербурге, Кронштадте (Морской собор), Петергофе, Либаве, Астрахани, Батуме. — 306
Котельников Александр Иванович (1858-?), генерал-майор (1914), выпускник Тверского кавалерийского училища, участник Первой мировой войны, командир 232-й пешей дружины государственного ополчения, георгиевский кавалер, после Октябрьского переворота некоторое
750
время служил в РККА, затем в 1919 г. в Добровольческой армии (был судим, помилован А.И. Деникиным в ноябре 1919 г.), дальнейшая судьба неизвестна. — 523
Коцебу Александр Павлович (1876-1938), полковник (1913) лейб-гвардии Уланского полка, с 1912 г. адъютант великого князя Николая Николаевича, после Октябрьской революции эмигрировал, жил во Франции. — 354
Кочанов Николай († 1392), блаженный, Новгородский Христа ради юродивый. — 369, 432
Кочубей Виктор Сергеевич (1860-1923), князь, генерал-лейтенант (1911), адъютант цесаревича Николая, затем начальник Главного управления уделов Министерства императорского двора и уделов (1899-1917), зять Н.Д. Белосельской-Белозерской, после Февральской революции был арестован, затем отпущен, уехал в Киев и вскоре эмигрировал, умер в Германии. — 228
Кравец С.Л. — 11
Красавицкие, два брата, товарищи Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище, скорее всего Павел (выпускник 1886 г.) и Петр (выпускник 1888 г.), последний также окончил Витебскую духовную семинарию в 1895 г. — 21
Красовицкий Матвей Иванович, протоиерей, выпускник СПбДА (1853), смотритель Витебского духовного училища. — 21-23, 26
Краузе Николай Федорович (Фридрихович, 1853-?), генерал от инфантерии (1915), участник Русско-турецкой, Русско-японской (командир 1-й бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии в чине генерал-майора) и Первой мировой войн, начальник 4-й Сибирской стрелковой дивизии в 1908-1915 гг. в чине генерал-лейтенанта, с 1915 г. в отставке, в 1917 г. проживал в Петрограде. — 205
Крахмалев Павел Яковлевич (1874-1949), протоиерей, магистр богословия, военный священник, участник Русско-японской войны (священник 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка), участник 1-го Всероссийского съезда военного и морского духовенства, во время Первой мировой войны возглавлял русское военное духовенство на Македонском фронте (с 1916), после роспуска русского Балканского корпуса остался в Греции, член Русского Заграничного Церковного Собора в Сремских Карловцах от Греции (1921), член Высшего церковного управления за границей, служил в церкви Святой Ольги в Пире (Греция), благочинный русских церквей в Греции. — 165
Крестовоздвиженский Николай Иванович (1858-1912), протоиерей, служил в Орловской епархии, в 1894-1902 гг. священник 3-го Финляндского стрелкового полка, затем 8-го Финляндского стрелкового полка, благочинный 2-й Финляндской стрелковой бригады. — 299
Кривисский Самуил Соломонович, петербургский врач. — 322
Кривошеин Александр Васильевич (1857-1921), действительный тайный советник, гофмейстер, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1889-1891 гг. комиссар по крестьянским делам в Царстве Польском, с 1902 г. начальник Переселенческого управления МВД, в 1908-1915 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием, с 1916 г. член комиссии по делам сельского хозяйства Государственного Совета, после Октябрьской революции один из организаторов «Правого центра», в 1920 г. председатель правительства юга России П.Н. Врангеля, с 1920 г. в эмиграции, умер в Берлине. — 337, 443, 464, 471, 497, 498, 500, 521
Крузе, полковник, участник Русско-японской войны, командир 1-й батареи 33-го Западно-Сибирского полка, вероятно, Крузе Николай Бо-
751
рисович (1858-1914), командир батареи (в течение 9 лет), участник Русско-японской войны, полковник, участник Первой мировой войны, командир 3-го дивизиона 1-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады в 1913-1914 гг., умер от ран. — 158
Крупенский Матвей Егорович (1859-?), генерал-лейтенант (1913), управляющий двором великого князя Николая Николаевича, в 1917 г. уволен от службы по болезни. — 272, 354, 358, 359
Крутов Василий Павлович (1861-?), торговец рыбой, потомственный почетный гражданин, в 1900 г. вместе с братьями крестьянами Алексеем и Дмитрием Павловичами Крутовыми учредил Торговый дом (полное товарищество) «Братья Крутовы» с капиталом 45 тысяч рублей, с 1902 г. состоял в купцах 2-й гильдии, являлся церковным старостой Суворовской церкви при Императорской Николаевской академии с 1901 г. — 140, 144, 155, 209, 213, 219, 241, 672
Крылов Иван Андреевич (1769-1804), русский публицист, поэт и баснописец. — 632
Крыжко Алексей Федотович (1885 — после 1949), протоиерей, был псаломщиком церкви Ставки Верховного главнокомандующего, в эмиграции жил в Югославии, окончил Богословский факультет Белградского университета, служил в г. Сараеве настоятелем русской церкви, находился в ведении Архиерейского Синода РПЦЗ, в 1944 г. перешел в Московский Патриархат, в 1949 г. арестован властями Югославии по обвинению в шпионаже в пользу СССР, осужден на 11 лет, дальнейшая судьба неизвестна. — 369
Крыленко Николай Васильевич (1885-1938), революционер, советский государственный деятель, после Февральской революции вел большевистскую агитацию в войсках Юго-Западного фронта, с ноября 1917 г. член Совнаркома, Верховный главнокомандующий, с 1918 г. организатор революционных трибуналов, председатель Верховного трибунала. прокурор РСФСР, с 1931 г. нарком юстиции РСФСР, с 1936 г. нарком юстиции СССР, расстрелян по обвинению в шпионаже. — 491
Крымов Александр Михайлович (1871-1917), генерал, в Русско-японскую войну служил в штабе 4-го Сибирского корпуса, в годы Первой мировой войны командовал бригадой, затем дивизией, с 1916 г. на Румынском фронте, в январе 1917 г. выехал в Петроград, где, выступая в Думе, пообещал революционерам поддержку армии, принимал участие в Корниловском мятеже, после неудачи которого застрелился. — 427, 471, 472
Крячко Н., священник. — 692
Ксения Александровна Романова (1875-1960), великая княгиня, дочь императора Александра III, с 1894 г. в браке с великим князем Александром Михайловичем, с 1919 г. в эмиграции в Дании, затем в Англии. — С. 248
Ксения, крестьянка с. Азарково Витебской губернии. — 102
Ктитарев Иаков Николаевич (1878-1953), выпускник СПбДА (1904), кандидат богословия, протопресвитер (1945), служил в Санкт-Петербурге, преподавал Закон Божий в Смольном институте, с 1920 г. в эмиграции, жил на Кипре, в Чехословакии, с 1925 г. во Франции, участвовал в работе РСХД, служил во Франции и в Бельгии, преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте. — 480
Куклев, ученик русской гимназии в Софии. — 572-574
Куницкий Станислав Константинович (1859-1924), инженер-мостостроитель. профессор Института путей сообщения, с 1919 г. ректор института. С начала 1920-х гг. в эмиграции, проживал в Польше, последние годы жизни профессор Варшавского политехнического института. — 701
752
Курляндский И. А. — 690
Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925), генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, в 1898-1904 гг. военный министр. в русско-японскую войну командующий Маньчжурской армией, затем главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке, в 1905 г. командующий 1-й Маньчжурской армией, в Первую мировую войну командовал корпусом, армией, затем Северным фронтом, с 1916 г. военный губернатор Туркестана, в 1917 г. арестован, но вскоре освобожден Временным правительством, в годы Гражданской войны отказался встать на чью-либо сторону, проживал в родовом имении Шешурино Холмского уезда Псковской губернии, организовал сельскохозяйственную школу и музей. — 6, 146, 180, 184, 188, 190-192, 194, 196, 197, 199-203, 206, 351-353, 400, 418, 424, 472, 678, 693
Кутепов Александр Павлович (1882-1930), генерал от инфантерии (1920), участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1906 г. служил в лейб-гвардии Преображенском полку, командовал в этом полку ротой (с 1914), батальоном (с 1916) и полком (1917), георгиевский кавалер, в декабре 1917г. уехал на юг России, участвовал в Белом движении (первопоходник) в составе Добровольческой армии, Русской армии генерала П.Н. Врангеля, в 1920 г. эмигрировал, жил в Болгарии. во Франции, в 1928 г. после смерти генерала П.Н. Врангеля возглавил Российский общевоинский союз, в 1930 г. похищен агентами советской разведки, умер по пути в Новороссийск. — 521, 599
Лаврентий Давыдович, староста храма в с. Азарково Витебской губернии. — 99-101, 108,109, 129
Лаврентий, швейцар СПбДА. — 109, 114
Лавровский Дмитрий Евменович, коллежский асессор (1886), исправник в с. Усмынь Витебской губернии. — 76, 163, 669
Лавровский, подполковник, командир батальона 33-го Восточно-Сибирского полка, участник Русско-японской войны. — 163
Лазарев Борис Петрович (1882-1938), генерал-майор (1918), окончил Николаевскую академию Генштаба (1908), участник Первой мировой войны и Белого движения, в 1920 г. эмигрировал, в 1921 г. вернулся в Советскую Россию, служил в РККА, находился на преподавательской работе, расстрелян. — 548, 549
Лазарева Н. — 686
Лаппо Павел Иванович, учитель в с. Азарково Витебской губернии. — 99, 102, 104, 108, 129
Ласкеев Федор Михайлович (1861- после 1935), протоиерей, окончил СПбДА, кандидат богословия, в 1895 г. рукоположен в сан иерея, служил в различных военных храмах Санкт-Петербурга, с 1914 г. редактор «Вестника военного и морского духовенства», в 1935 г. приговорен к высылке из Ленинграда, дальнейшая судьба неизвестна. — 246, 247, 251-253
Ласский, псаломщик Витебской епархии. — 142
Латышев Василий Васильевич (1855-1921), филолог, историк, эпиграфист, с 1893 г. член Санкт-Петербургской академии наук, директор Императорского историко-филологического института, с 1900 г. работал в Археологической комиссии, основатель и редактор «Известий Археологической комиссии». — 224
Лауниц Михаил Васильевич фон дер (1843-1911), генерал от кавалерии, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, командовал отдельным отрядами 2-й Маньчжурской армии, член Александровского комитета о раненых с 1904 г. — 201
Лебедев Алексей Петрович (1845-1908), историк церкви, профессор
753
МДА и Московского университета, составитель курса истории Восточной церкви. — 123
Лебедев Димитрий Михайлович, священник 15-го уланского Татарского полка в 1910-е гг., в 1905 г. священник 191-го пехотного Дрогичинского полка. — 326
Лебедев Михаил Иванович, магистр богословия, действительный статский советник, преподаватель Витебской духовной семинарии, директор женской гимназии. — 37, 667
Лев Иванович, брат А.И. Троицкой, псаломщик храма в с. Лёхово Витебской епархии. — 62
Левашов Павел Николаевич (1873-1937). протоиерей, служил в Гомеле. после начала Первой мировой войны переехал в Петроград, где был настоятелем церкви Генштаба, после Октябрьской революции переехал в Москву, служил в Новодевичьем монастыре, в 1922-1923 гг. по благословению Патриарха Тихона принимал покаяние у обновленцев в Гомеле, после «Декларации» митрополита Сергия разорвал с ним общение, неоднократно арестовывался, расстрелян в Гомеле. — 302
Левиков Андрей Николаевич (1870-?), офицер, сын А.А. Левиковой, окончил Полоцкий кадетский корпус (1888), Николаевское инженерное училище (1890), полковник военно-судебного ведомства, участник Белого движения в Добровольческой армии и ВСЮР. с января 1919 г. военный судья Одесского военно-окружного суда. — 669
Левиков Антон Николаевич (1873-?), полковник, сын А.А. Левиковой, окончил Полоцкий кадетский корпус (1891), Константиновское военное училище (1893). Николаевскую академию Генштаба, командир 7-го Кавказского отдельного горного артиллерийского дивизиона, участник Белого движения в Добровольческой армии, ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма, с февраля 1919 г. инструктор Учебно-подготовительной артиллерийской школы, эвакуирован в Катарро (Югославия), в эмиграции в Югославии член Общества офицеров-артиллеристов. — 669
Левиков Владимир Николаевич, офицер, сын А.А. Левиковой, на январь 1909 г. капитан 3-го Саперного батальона. — 669
Левикова Александра Антоновна, помещица Лепельского уезда Витебской губернии, вдова. — 90, 93, 95, 96, 669
Левикова Мария Николаевна, дочь А.А. Левиковой. — 669
Левицкая Софья Семеновна, преподаватель русской гимназии в Софии. — 579
Левицкий Георгий Гаврилович († около 1911). преподаватель русского языка и словесности в Витебском духовном училище, выпускник Новороссийского университета, в 1890-1900-е гг. преподавал в Полоцком кадетском корпусе. — 23, 26, 38
Левошко Яков Павлович, штабс-капитан пехоты (1909), секретарь Скобелевского комитета, руководитель военно-кинематографического отдела, созданного в 1914 г. и национализированного в 1918 г., положившего начало киностудии «Ленфильм». — 230
Лелянов Павел Иванович (1850-1932), купец 1-й гильдии, затем дворянин (с 1897), действительный статский советник, глава юбилейной комиссии по празднованию 200-лстия Санкт-Петербурга, глава городского самоуправления Санкт-Петербурга в разные годы, с 1917 г. в отставке, после Октябрьской революции эмигрировал, умер в Париже. — 309
Лемке Михаил Константинович (1872-1923), российский историк, публицист. — 3, 4
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), революционер, советский политический деятель, основатель ВКП(б). С 1917 г. председатель Совета народных комиссаров — 694, 702
754
Леонид К., священник церкви в с. Агрызково Витебской губернии. — 81
Леонтий (Лебединский Иван Алексеевич, 1822-1893), митрополит, выпускник СПбДА (1847), преподавал в Киевской семинарии, был профессором КДА. ректором Владимирской и Санкт-Петербургской семинарий, в 1860 г. рукоположен во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1863 г. епископ Подольский, с 1873 г. в сане архиепископа, с 1875 г. архиепископ Холмский и Варшавский, с 1891 г. митрополит Московский и Коломенский. — 633
Леонтьев, ротмистр, участник Русско-японской войны, состоял при штабе 1-й Маньчжурской армии. — 196, 197
Леонченко Леонид († 1944), священник, русский офицер, эмигрант, погиб при бомбардировке Софии. — 604
Лепорский Петр Иванович (1871-1923), протоиерей, профессор, окончил СПбДА, магистр богословия (1901), с 1905 г. экстраординарный профессор кафедры догматического богословия СПбДА, в 1907 г. рукоположен во священника, в 1916г. назначен на должность главного священника Румынского фронта, член Всероссийского Собора 1917-1918 гг. — 121, 472, 473, 480
Лескинен Георгий Иванович (1870-1944), генерал-майор (1917), участник Первой мировой войны, командир 114-го пехотного Новоторжского полка (1916), командир бригады 29-й пехотной дивизии (1917), в эмиграции проживал в Болгарии. — 605, 606
Лесневский Юзеф Александрович, полковник, командир 153-го Бакинского полка в 1909-1911 гг. — 288
Лечицкий Алексий, протоиерей, отец генерала П.А. Лечицкого, служил в Гродненской епархии более 50 лет (в 1852-1876 гг. в Симеоновской церкви г. Каменец-Подольский), в годы Первой мировой войны жил в г. Орше, в 1917 г. эвакуировался в Москву, в 1919 г. вновь служил в Гродно. — 426, 427
Лечицкий Платон Алексеевич (1856-1921), генерал от инфантерии (1913), участник Русско-китайской и Русско-японской войн, затем командующий войсками Приамурского военного округа, участник Первой мировой войны (командовал 4-й и 9-й армиями Юго-Западного фронта), георгиевский кавалер, после Февральской революции в отставке, с 1921 г. инспектор пехоты и кавалерии Петроградского ВО, в 1921 г. арестован, осужден на два года как руководитель «контрреволюционной организации». умер в заключении. — 203, 316, 317, 351, 422, 426
Леш Леонид Вильгельмович (1862-1934), генерал от инфантерии (1915), участник Русско-китайской, Русско-японской, Первой мировой войн, с 1913 г. начальник Закаспийской области и командир 2-го Туркестанского армейского корпуса, с октября 1917 г. командовал Минским военным округом, участвовал в Гражданской войне, с 1918 г. состоял в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР, с 1920 г. в эмиграции, умер в Дубровнике (Югославия). — 334
Лёвшин Дмитрий Федорович (1876-1947), генерал-майор, командир лейб-гвардии Гусарского полка, участник Первой мировой войны, генерал для поручений при главном начальнике снабжений Юго-Западного фронта, участник Белого движения, член Ставропольского Церковного Собора, эмигрировал, жил и умер во Франции. — 503, 681
Ливен Елена Александровна (1842 — около 1917), светлейшая княжна, камер-фрейлина, кавалер ордена Святой Екатерины, начальница Смольного института благородных девиц (1895-1917), подруга императрицы Марии Феодоровны. — 220-222, 233, 583, 695
Линевич Александр Николаевич (1882-1961), офицер, участник Русско-японской войны, сын генерала Н.П. Линевича, состоял при нем
755
адъютантом, впоследствии полковник (1915), герой Первой мировой войны. георгиевский кавалер, командовал 1-й батареей лейб-гвардии Конной артиллерии, во время Гражданской войны в ноябре-декабре 1918 г. заведовал хозяйственной частью офицерской дружины генерала Кирпичева в Киеве, в эмиграции в Венгрии, затем в Германии, состоял членом Общества офицеров-артиллеристов служил в КИАФ, генерал-майор КИАФ (1930), скончался в 1961 г. в Берлине. — 189
Линевич Николай Петрович (1839-1908). генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, в годы Русско-японской войны командовал 1-й Маньчжурской армией, с марта 1905 г. главнокомандующий вооруженными силами Дальнего Востока. — 6, 180, 183, 184, 188-192, 194, 205, 468
Лисовский Николай Яковлевич (1856 — после 1917). генерал-лейтенант. в Русско-японскую войну командир 33-го Восточно-Сибирского полка, затем начальник 2-й бригады 54-й пехотной дивизии, участник Первой мировой войны, после Февральской революции в отставке, с 15 апреля 1917 г. в резерве чинов при штабе Одесского военного округа. — 158, 162, 167, 174, 176, 179, 181, 182, 674
Лисяк, священник, служил на Северном Кавказе. — 539
Ломакин Гавриил Иоакимович (1812-1885), композитор духовной музыки, преподаватель русского церковного пения. — 437
Ломако Григорий Петрович (1884-1959), протопресвитер (1945), выпускник СПбДА, настоятель собора в Екатеринодаре, участник Московского Собора 1917-1918 гг., в 1920 г. эмигрировал, проживал во Франции, в 1951-1959 гг. настоятель собора Святого Александра Невского в Париже. — 507, 513, 514, 681
Ломан Дмитрий Николаевич (1868-1918), полковник Его Величества Сводного пехотного полка, ктитор Феодоровского Государева собора в Царском Селе, в Первую мировую войну уполномоченный по Царскосельскому военно-санитарному поезду №143, штаб-офицер для поручений при дворцовом коменданте, после Февральской революции подвергался кратковременному аресту. Расстрелян большевиками. — 305
Лопухин Александр Павлович (1852-1904), богослов, историк церкви, окончил СПбДА, магистр богословия (1881), с 1883 г. доцент кафедры сравнительного богословия, с 1884 г. доцент кафедры древней гражданской истории СПбДА, с 1890 г. экстраординарный профессор, с 1892 г. главный редактор «Церковного вестника», с 1899 г. — журнала «Странник». — 121
Лотоцкий Владимир Константинович (около 1875-1915), выпускник Волынской духовной семинарии (1895) и СПбДА (1899), кандидат богословия, впоследствии преподавал в Тульской духовной семинарии и в гимназии, статский советник, умер от чахотки, отец математика Андрея Владимировича Лотоцкого (1906 — после 1975), доцента Ивановского педагогического института. — 106
Лужинский Иосиф, помещик Оршанского уезда Могилевской губернии. — 491
Лузгин Николай Иванович, секретарь Киевской духовной консистории (1913-1914), коллежский советник, выпускник Полоцкого духовного училища (1884), Витебской духовной семинарии (1886), СПбДА (1890), в 1910 г. жил в Вильно, был редактором «Литовских епархиальных новостей», в годы революции управляющий делами Софийского собора. — 496
Лузгин Павел Иванович, надзиратель Витебского духовного училища, вероятно, выпускник Витебской духовной семинарии 1881 г. — 24, 26, 27, 51
756
Лузгин Филипп Яковлевич (1857-1939), протоиерей, с 1902 г. настоятель Преображенского собора в Лепеле, в годы Гражданской войны эмигрировал в Польшу, настоятель Преображенской церкви в с. Язно Дрисненского благочиния (ныне Витебская обл.) в 1920-1936 гг. — 640
Лукашевич Иасон Давыдович, протоиерей, настоятель собора в г. Себеже, благочинный, двоюродный дед протопресвитера Г.И. Шавельского. — 17, 654
Лукомский Александр Сергеевич (1868-1939), генерал-лейтенант (1919), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1897), помощник военного министра в 1915-1916 гг., участник Первой мировой войны, командовал дивизией, корпусом, летом 1917 г. был начальником штаба Верховного главнокомандующего, участник Белого движения, в 1917-1918 гг. был начальником штаба Добровольческой армии, с сентября 1918 г. помощник главнокомандующего Добровольческой армией, начальник Военного и морского управления, с 1919 г. председатель Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР, затем глава правительства при главнокомандующем ВСЮР, в эмиграции помощник великого князя Николая Николаевича, руководитель всех воинских союзов и организаций Дальнего Востока и Америки. — 479, 482, 502, 504, 505, 518, 521, 549, 550
Лукьянов Сергей Михайлович (1855-1935), тайный советник, окончил Медико-хирургическую академию, доктор медицины (1883), экстраординарный профессор Варшавского университета (1886), в 1894-1902 гг. директор Института экспериментальной медицины в Петербурге, в 1902-1905 гг. товарищ министра народного просвещения, с 1906 г. член Государственного Совета, в 1909-1911 гг. обер-прокурор Святейшего Синода, в 1919г. арестован ЧК, но освобожден по ходатайству научного сообщества, занимался исследовательской и преподавательской деятельностью, с 1930 г. на пенсии. — 240, 264, 430
Лызлов Лев, священник храма в с. Вышедки Витебской епархии. — 78, 668, 669
Львов Александр Васильевич (1878 — не ранее 1930). псаломщик Суворовской церкви в Санкт-Петербурге в 1900-е гг., в 1920-е гг. служил в Сретенской церкви в Полюстрово, в 1930 г. арестован, сослан в Северный край. — 140, 150, 209, 241
Львов Владимир Александрович (около 1861 — не ранее 1919), протоиерей, настоятель Николаевского собора в Новороссийске, член Поместного Собора РПЦ 1917-1918 гг. и Ставропольского Собора 1919 г. — 536, 537
Львов Владимир Николаевич (1872-1934), член Государственной Думы III и IV созывов, обер-прокурор Святейшего Синода (1917), после Октябрьского переворота эмигрировал, в 1922 г. вернулся в Россию, примкнул к обновленческому расколу, работал в обновленческом ВЦУ и в обновленческом синоде. В 1927 г. арестован и выслан в Томск. В 1930 г. вновь арестован, умер в больнице Томского изолятора. — 469, 473-475, 484, 486, 685, 691
Львов Николай Николаевич (1865-1940), член III и IV Государственной Думы (товарищ председателя в 1913), один из основателей Партии прогрессистов, участник Белого движения, занимался журналистской деятельностью во ВСЮР. с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции, член ЦК Русского народно-монархического союза. — 469
Львов, генерал, начальник 2-й Сибирской стрелковой дивизии в 1913 г. — см. Поспелов С.М.
Любимов Александр Георгиевич, выпускник МДА (1878), магистр богословия, преподаватель Витебской духовной семинарии, впоследствии правитель канцелярии Витебского губернатора. — 36, 37, 55, 106, 107
757
Любимов Николай Александрович (1858-1924), протопресвитер (1911), окончил МДА. кандидат богословия, рукоположен в сан иерея в 1897 г., с 1910 г. протоиерей, служил в московских храмах, настоятель московского Успенского собора с 1911 г., в 1917 г. член Святейшего Синода, член Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг., в 1922-1923 гг. арестовывался. — 475, 488
Ляртер, англичанка, проживала в Болгарии. — 591
Май-Маевский Владимир Зенонович (1867-1920), военачальник Русской армии и Белого движения, генерал-лейтенант Генерального штаба (1917), весной 1918 г. бежал на Дон и вступил рядовым в Дроздовскую дивизию Добровольческой армии, временно командующий 3-й Дроздовской дивизией (с 19ноября 1918), начальник той же дивизии (с5ян- варя 1919). одновременно начальник Донецкого отряда (январь-май 1919), командир 2-го армейского корпуса (с 12 февраля 1919). генерал-лейтенант (1919), командующий Добровольческой армией (с 22 мая 1919), созданной на базе Донецкой группы, 27 ноября 1919 г. за кутежи и пьянство уволен в отставку, во время обороны Крыма руководил тыловыми частями и гарнизонами Русской армии: по одной версии, застрелился, по другой — умер при эвакуации из Севастополя 30 ноября 1920 г. — 557
Макаревский Дамиан Захарьевич, протоиерей, священник с. Завережье Витебской губернии, в 1905 г. священник 14-го драгунского Литовского полка. — 19
Макаревский Николай Васильевич, протоиерей, товарищ Г.И. Шавельского по Витебской духовной семинарии, во время Русско-японской войны священник 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Первой мировой войны, ранен в 1915 г. — 193
Макаревский Петр Демьянович, сын священника Д.З. Макаревского, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище (в списках выпускников не значится). — 19, 20
Макарий (Булгаков Михаил Петрович, 1816-1882), митрополит, богослов, церковный историк, окончил КДА, академик Императорской академии наук (1854), с 1850 по 1857 г. ректор СПбДА, в 1851 г. рукоположен во епископа Винницкого, викария Каменец-Подольский епархии, с 1857 г. епископ Тамбовский и Шацкий, с 1859 г. епископ Харьковский и Ахтырский, с 1862 г. в сане архиепископа, с 1868 г. архиепископ Литовский и Виленский, с 1879 г. митрополит Московский и Коломенский. — 107, 366
Макарий (Ильинский Михаил Иванович, 1866-1953), митрополит, окончил СПбДА, с 1911 г. служил в Америке священником, в 1935 г. по принятии монашества рукоположен во епископа Бруклинского, находился в ведении Русской Зарубежной Церкви в подчинении митрополитов Платона (Рождественского), затем Феофила (Пашковского). Б 1946 г. принят в Московский Патриархат, с 1946 г. архиепископ, с 1947 г. экзарх Московского Патриархата в США, с 1952 г, в сане митрополита. — 136, 137
Макарий (Павлов Михаил Михайлович, 1867 — после 1924), епископ, выпускник Томской духовной семинарии (1890) и КазДА (1898), в 1901 г. рукоположен во епископа Бийского, викария Томской епархии, с 1905 г, епископ Якутский и Вилюйский, с 1909 г. на покое, с 1917 г. епископ Владикавказский и Моздокский, в 1919 г. участвовал в Ставропольском Соборе. был избран кандидатом в члены БВЦУ, в 1921 г. арестовывался, был в заключении, в 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, в 1923 г. был обновленческим епископом Пятигорским, затем занимал обновленческие кафедры в Пензе и Нижнем Новгороде. С 1924 г. на покое. — 511
758
Макарий (Парвицкий-Невский Михаил Андреевич. 1835-1926), святитель, митрополит, алтайский миссионер, выпускник Томской духовной семинарии (1854), почетный член КазДА (1895) и СПбДА (1913), в 1884 г. рукоположен во епископа Бийского, с 1891 г. епископ Томский и Семипалатинский, с 1895 г. епископ Томский и Барнаульский, с 1903 г. в сане архиепископа, с 1908 г. — Томский и Алтайский, с 1912 г. митрополит Московский и Коломенский, член Святейшего Синода, с 1917 г. на покое, проживал в Николо-Угрешском монастыре. Причислен к лику святых Московским Патриархатом в 2000 г. — 9, 340, 366, 395, 411, 444-446, 448, 464, 469, 633, 685
Макаров Степан Осипович (1848/1849-1904), крупный русский флотоводец, исследователь-океанограф, кораблестроитель, вице-адмирал (1896), погиб на броненосце «Петропавловск» во время Русско-японской войны. — 168
Маклаков Николай Алексеевич (1871-1918), государственный деятель, в 1912-1915 г. министр внутренних дел, с 1915 г. член Государственного Совета, в феврале 1917 г. арестован, находился в Петропавловской крепости, в 1918 г. переправлен в Москву, расстрелян. — 429
Максимилиан (Марченко Михаил Григорьевич, 1871-1938), преподобномученик, постриженик (1902) и иеромонах (1910) Троице-Сергиевой лавры, в 1914-1915 гг. был командирован в действующую армию, в 1918-1927 гг. после закрытия лавры работал сторожем при музее, служил уставщиком Троицкого собора, рукоположен в сан игумена, в 1928 г. арестован и 3 года провел в заключении на Соловках, в 1931-1935 гг. служил в Кукуевской церкви в Загорске, в 1935 г. сослан в Казахстан в пос. Кармакчи, где в 1937 г. вновь арестован, умер в лагере в пос. Чемолган Алма-Атинской области, канонизирован Архиерейским Собором РПЦ в 2000 г. — 394, 397, 398
Максимович Константин Иванович, протоиерей, священник 43-го пехотного Охотского полка, в 1918 г. в гетманской армии, пан-отец 3-го пехотного полка. — 278
Максимович Константин Клавдиевич (1849 — после 1917), генерал-адъютант, генерал от кавалерии (1906), Донской наказной атаман (1899-1905), Варшавский генерал-губернатор (1905). во время Первой мировой войны был помощником министра двора (1915-1917). — 420
Малама Борис Захарьевич (1878-1972), надворный советник, почетный лейб-медик, врач великого князя Николая Николаевича, с которым эмигрировал во Францию. — 354, 408, 432, 499, 501
Малек Давид, сириец, учитель, в 1898 г. присоединился к Православной Церкви вместе с епископом Ионой (Мар-Иоанном), студент СПбДА. — 110, 126
Малинин, диакон в Витебске. — 399
Малицкий Александр Владимирович, священник, служил в Ташкентском военном соборе в 1914 г., значится в списках служителей этого собора в 1905 г. — 334
Мальцев Алексей Петрович (1854-1915), протоиерей, духовный писатель, магистр богословия, с 1886 г. настоятель русского посольского храма в Берлине. — 310
Малявинский Михаил Федорович, выпускник Санкт-Петербургской духовной семинарии, рукоположен в сан иерея в 1888 г., священник 58-го Пражского полка (с 1897), участник Русско-японской войны (был контужен в 1905), служил в храмах г. Николаева, основал братство при Свято-Никольской церкви, преподавал Закон Божий, впоследствии эмигрант, в 1920 г. на о. Халки. — 561
759
Мамитов Стефан Борисович (1848-1918), протоиерей, этнограф, просветитель, священник 204-го пехотного полка, благочинный 51-й дивизии, окончил Владикавказское духовное училище, затем Тифлисскую духовную семинарию в 1869 г., служил в Кутаиси, в станицах Северного Кавказа, в Батуме, в 1886 г, он был назначен военным священником 1-го Кубанского пластунского батальона в Батумскую область, в 1903 г. — священником 260-го Ардагано-Михайловского полка, с 1916 г. на покое. — 287
Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869-1920), генерал-майор (1917), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командовал 19-м и 6-м Донскими казачьими полками, затем 6-й Донской казачьей дивизией, участник Белого движения в Донской армии Всевеликого войска Донского и ВСЮР, командовал сводными казачьими постаничными полками, 1-й Донской армией, 2-м казачьим сводным корпусом, 4-м Донским конным корпусом, умер от тифа в Екатеринодаре. — 524, 525, 557
Манакин Виктор Константинович (1887-1964), полковник, окончил Николаевскую военную академию (1913), участник Первой мировой войны и Белого движения, эмигрировал, жил в Югославии, затем в США. — 548, 549
Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (около 1871-1918), с 1888 г, агент охранного отделения, в 1889-1890 гг. служил в Главном дворцовом управлении, с 1897 г, в Министерстве внутренних дел, с 1900 г, агент по римско-католическим делам в Риме, с 1902 г, чиновник для особых поручений в Париже, в 1904-1905 гг. занимался контрразведывательной деятельностью против Японии, уволен со службы в 1906 г., входил в окружение Распутина, в 1916 г, обвинен в шпионаже, в феврале 1917 г, приговорен к полутора годам заключения, после Октябрьской революции пытался бежать в Финляндию, расстрелян. — 338
Манус Игнатий Порфирьевич (1861-1918), действительный статский советник, купец 1-й гильдии, биржевой деятель, друг Г. Распутина. — 338, 441, 463
Манухина Татьяна Ивановна (1885/1886-1962), урожденная Крундишева, журналистка, соавтор книги «Путь моей жизни» митрополита Евлогия (Георгиевского), с 1921 г, в эмиграции, проживала во Франции. — 391, 394
Мария Ивановна, сестра А.И. Троицкой. — 62
Мария Павловна Романова (1854-1920), урожденная Мария Александрина Элизабета Элеонора принцесса Мекленбург-Шверинская, великая княгиня, жена великого князя Владимира Александровича с 1854 г., с 1920 г, в эмиграции. — 197
Мария Феодоровна (1847-1928), императрица, дочь Кристиана, принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана IX, короля Дании, супруга императора Александра 111 (с 1866), мать императора Николая 11, в эмиграции в Дании. — 220, 221, 233, 235, 239, 498, 501, 696
Маркелл (Поппель Маркелл Онуфриевич, 1825-1903), епископ, родился в Австро-Венгрии, униатский священник, переехал в Россию в 1866 г., в 1875 г, присоединен к Православию и рукоположен во епископа Люблинского, с 1878 г, епископ Подольский и Брацлавский, в 1882-1889 гг. епископ Полоцкий и Витебский, с 1889 г. присутствующий в Святейшем Синоде, немало потрудился в деле открытия храмов и воссоединения униатов с Православной Церковью. — 60, 80, 93
Марков Георгий (Джордж Роберт) Владимирович (1925-2014), муж Т.В. Хмелевской, сын русских эмигрантов, родился в Торонто (Канада),
760
выпускник Университета Торонто со степенью бакалавра, специалист по электротехнике. — 687
Марков Николай Евгеньевич (1866-1945), российский политический деятель, член монархических организаций, депутат Государственной Думы 111 и IV созывов, с 1912 г. фактический глава Союза русского народа, с 1920 г. в эмиграции, до 1927 г. председатель Высшего монархического совета. — 586
Марков Петр Георгиевич (род. в 1954), правнук протопресвитера Г.И. Шавельского, сын Т.В. и Г.В. Марковых, ученый-химик, степень магистра получил в Университете штата Колорадо, степень доктора — в Университете штата Коннектикут, служил профессором химии в Университете Сент-Джозефа в г. Вест-Хартфорд (штат Коннектикут), в настоящее время на пенсии, живет в г. Виндзор (штат Коннектикут), имеет дочь Николь и сына Эрика. — 687
Марков Сергей Леонидович (1878-1918), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генштаба (1904), участник Русско-японской и Первой мировой войн, в 1917 г. генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего, в 1917г. уволен со службы, выехал на юг, один из руководителей Белого движения, смертельно ранен в бою. — 476, 477, 479, 555, 556
Марков Стивен (Степан) Георгиевич (род. в 1952), правнук протопресвитера Г.И. Шавельского, сын Т.В. и Г.В. Марковых, родился в Кливленде, окончил Итака-колледж (штат Нью-Йорк) со степенью бакалавра искусств, генеральный директор компании OptAmize Marking Group, живет в городе Бока-Ратон (штат Флорида), имеет двух сыновей — Алекса и Иана. — 687
Маркова Екатерина Георгиевна (род. в 1955), правнучка протопресвитера Г.И. Шавельского, дочь Т.В. и Г.В. Марковых, родилась в Эндикоте (штат Нью-Йорк), окончила Хартвик-колледж (г. Онеонта, штат Нью-Йорк) со степенью бакалавра по уходу за больными, степень магистра по бизнес-администрированию получила в Нортуэстернском университете (Бостон, штат Массачусетс), живет в Нескадеро (штат Калифорния), работает консультантом по вопросам здравоохранения. — 687
Маркова Ирина Георгиевна (род. в 1956), правнучка протопресвитера Г.И. Шавельского, дочь Т.В. и Г.В. Марковых, родилась в Эндикоте (штат Нью-Йорк), окончила Университет Сент-Лоуренс (г. Кантон, штат Нью-Йорк) со степенью бакалавра по экономике, работает консультантом по вопросам кибербезопасности информационных технологий, живет в г. Колчестер (штат Коннектикут). — 11, 687, 702
Марковский Иван С. (1885-1972), болгарский православный библеист, преподавал Священное Писание Ветхого Завета в Софийской духовной семинарии (1912-1921), в 1921-1924 гг. исполняющий должность помощника секретаря Священного Синода БПЦ, профессор Священного Писания Ветхого Завета в Софийской духовной академии, декан богословского факультета Софийского университета. — 569, 571
Марковский Иван, выпускник Витебской духовной семинарии (1889). — 48
Мартос Николай Николаевич (1858-1933), генерал от инфантерии (1913), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Русско-турецкой, Русско-китайской и Русско-японской войн, в 1914 г. взят в плен в Восточной Пруссии, в 1918 г. отправлен в Москву, с 1919 г. в Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал, служил чиновником военного ведомства в Загребе. — 363, 364, 678
Массалитинов Николай Осипович (1880-1961). актер, режиссер, народный артист Болгарии (1848), окончил Московское императорское
761
театральное училище, с 1907 г. в Московском художественном театре, с 1919 г. в эмиграции, в 1924 г. создал частную театральную школу в Берлине. в 1925-1944 гг. главный режиссер Народного театра в Софии, в 1926 г. создал школу при Народном театре, преобразованную в 1948 г. в институт. — 577
Матюшевский Алексий Михайлович (около 1867 — около 1917). протоиерей, окончил Симбирскую духовную семинарию (1887). КазДА (1891), кандидат богословия, настоятель Николаевского кафедрального собора в Витебске (с 1902 г., в 1911-м в той же должности), самарский епархиальный наблюдатель церковных школ (1916). — 649, 650
Махаев Николай Константинович (1883-1966), выпускник МДА (1908), преподаватель русского языка в Витебской духовной семинарии и гимназиях г. Витебска в 1909-1914 г., затем до 1919 г. в Херсоне, в 1919 г. вернулся в Витебск, с 1920 г. жил с семьей и работал в Крыму. — 494
Махароблидзе (Махараблидзе) Ексакустодиан Иванович (1880-е — 1960). начальник канцелярии протопресвитера военного и морского духовенства, в эмиграции секретарь Зарубежного ВЦУ, секретарь Архиерейского Синода, редактор журнала «Церковные ведомости», в последние годы жизни секретарь епархиального управления Германской епархии. — 681
Махно Нестор Иванович (1888-1934), анархист, лидер повстанческих отрядов, периодически сражался на стороне большевиков, в 1921г. эмигрировал в Румынию, затем проживал во Франции. — 502
Медведев Семен Петрович, крестьянин Витебской губернии. — 70-73
Медведь Роман Иванович (1874-1937), священноисповедник, протоиерей, окончил СПбДА, кандидат богословия, рукоположен во иерея в 1900 г., с 1907 г. настоятель Адмиралтейского Свято-Владимирского собора в Севастополе, благочинный береговых команд Черноморского флота. в 1918 г. переехал в Москву, неоднократно арестовывался, в 1931 г. осужден на 10 лет лагерей, в 1936 г. вернулся из лагеря инвалидом, жил в Малоярославце, окормлял духовных чад. в 1937 г. принял монашеский постриг с именем Иосиф, канонизирован Московским Патриархатом в 2000 г. — 285, 286, 348, 684
Мейендорф Богдан (Феофил) Егорович (1838-1919), барон, генерал от кавалерии (1898), генерал-адъютант (1902), участник Русско-турецкой войны, в Русско-японскую войну командовал 1-м армейским корпусом, с 1906 г. состоял при императоре, с 1917 г. в отставке. — 203, 683
Меликов, князь, полковник, возможно, Меликов Иван Леванович 2-й (1855-?), по состоянию на 1897 г. служивший при штабе Кавказского военного округа в чине штабс-капитана. — 289
Меллер-Закомельский Александр Николаевич (1844-1928), барон, генерал от инфантерии, участник усмирения польского восстания, походов на Хиву и Фергану, участник Русско-турецкой войны, в декабре 1906 г. восстанавливал порядок на Сибирской и Забайкальской железных дорогах, в 1906-1909 гг. временно исполнял должность губернатора Прибалтийского края, в 1909-1917 гг. член Государственного Совета, с 1918 г. в эмиграции, умер в Ницце. — 207
Мельников Николай Михайлович (1882-1972), политический деятель, окончил Московский университет, в 1917 г. окружной комиссар Временного правительства, с 1918г. заместитель председателя Донского правительства, затем председатель Совета министров юга России, с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции, работал бухгалтером на заводе, в 1922 г. возглавил Донское правительство в эмиграции. — 545
762
Менгден Георгий Георгиевич (1861-1917), граф, генерал-лейтенант (1916), в 1898-1908 гг. заведовал великокняжеским двором Сергея Александровича и Елизаветы Феодоровны, командир Кавалергардского полка в 1908-1912 гг., в 1912-1914 гг. командир 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, в 1914-1916 гг. состоял в распоряжении главнокомандующего Западным фронтом, во время Февральской революции арестован в Луге, убит солдатами. — 354
Менелик II (1844-1913), царь Эфиопии с 1889 г., боролся за централизацию Эфиопского государства, в 1909 г. фактически отошел от дел. — 196, 197
Мерзляков († 1944), бывший учитель сербско-русской гимназии. — 605, 606
Мефодий († 885), св. равноапостольный. — 189, 592
Мефодий (Герасимов Маврикий Львович. 1856-1932), митрополит, в 1894 г. рукоположен во епископа Бийского, викария Барнаульской епархии. с 1898 г. епископ Забайкальский и Нерчинский, с 1912 г. епископ Томский и Алтайский, с 1914г. — Оренбургский и Тургайский, с 1918г.в сане архиепископа, с 1919 г. в эмиграции, под юрисдикцией Архиерейского Синода РПЦЗ, с 1920 г. архиепископ Харбинский, с 1929 г. в сане митрополита. — 319
Мефодий (Жерев Орфан Стоилов, 1909-1993), архимандрит, в 1933 г. окончил богословский факультет Софийского университета, в 1936 г. рукоположен во иеромонаха, с 1939 г. в сане архимандрита, был протосингелом Сливенской и Софийской епархий, в 1948-1950 гг. настоятель подворья БПЦ в Москве, в 1957-1972 гг. настоятель русской церкви Святителя Николая в Софии, в 1972-1977 гг. настоятель Рыльского монастыря, в 1977-1980 гг. возглавлял культурно-просветительский отдел при Священном Синоде БПЦ, автор ряда книг и брошюр, в том числе книги «Отец Иоанн Кронщадски. 1829-1908» (1938). — 672, 691
Мещерский Константин Иванович (1888-1966), митрофорный протоиерей, служил в Москве (кроме 1940-1944 гг., когда служил на Украине). входил в состав делегации РПЦ, посетившей Болгарию в 1945 г. — 619
Мигай Иоанн, протоиерей, ректор Могилевской духовной семинарии, настоятель кафедрального собора в Могилеве. — 436
Мигдисов, врач, участник Русско-японской войны. — 197
Микаберидзе Арсений Иванович, поручик 33-го Восточно-Сибирского полка, участник Русско-японской войны, был контужен, в 1909 г. штабс-капитан 153-го Бакинского пехотного полка, участник Первой мировой войны, в 1914 г. ранен (был в чине капитана). — 161, 287
Миклашевский, врач г. Городка Витебской губернии. — 103
Милица Николаевна Романова (1866-1951), черногорская княжна, дочь короля Черногории Николая, жена великого князя Петра Николаевича, сестра великой княгини Анастасии Николаевны, в 1917 г. выехала в Крым, в эмиграции во Франции, Италии, Египте. — 339, 401, 407, 409, 498, 679
Миловзоров А.Н., священник, преподавал в Витебской духовной семинарии. — С. 52
Миловзоров Николай Макарович, преподаватель, выпускник Рязанской духовной семинарии (1877), МДА (1881), кандидат богословия, занимал должности преподавателя основного, догматического и нравственного богословия, еврейского языка (1881-1895) в Витебской духовной семинарии, с 1895 г. преподавал в Рязанской духовной семинарии, в 1911 г. служил на том же месте. — 36, 37, 52, 567
763
Милорадович Григорий Александрович (1839-1905), граф, писатель, автор исторических книг и мемуаров, был Черниговским губернским предводителем дворянства. — 213, 672
Милюков Павел Николаевич (1859-1943), политический деятель, публицист, лидер Конституционно-демократической партии, министр иностранных дел Временного правительства (1917). С 1918 г. в эмиграции, жил во Франции. В 1921-1940 гг. — редактор газеты «Последние новости». — 458, 686
Минервин Николай Стефанович, кандидат богословия, выпускник МДА (1886), помощник инспектора Витебской семинарии. — 34, 54, 57
Миркович Татьяна Михайловна, дочь помощника начальника главного штаба, во время Русско-японской войны сестра милосердия. — 196
Миронов, участник Русско-японской войны, служил в 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, помощник протопресвитера Г.И. Шавельского. — 171, 173, 177, 199
Миртов Дмитрий Павлович (1867-1941), богослов, философ, окончил СПбДА, кандидат богословия (1891), магистр богословия (1900), доктор богословия (1914), с 1894 г. исполняющий должность доцента СПбДА по кафедре истории философии, с 1900 г. доцент, с 1902 г. экстраординарный профессор, с 1914 г. ординарный профессор, в 1906-1908 гг. редактор «Церковного вестника», с 1919 г. преподаватель, затем профессор Петроградского университета, в 1921-1922 гг. преподавал в Педагогической академии, в 1934 г. выслан в Казань. — 121, 132
Миртов Петр Алексеевич (1871-1925), протоиерей, руководитель Всероссийского Александро-Невского Братства трезвости. В 1917 г. принял участие в создании «Союза церковного единения». Участник Поместного Собора 1917-1918 гг. — 687
Митерев Дмитрий Петрович (1875-?), военный священник, в 1917г. служил в 97-м пехотном Лифляндском полку в Двинске. — 299
Митрофан (Абрамов Николай Иванович, в схиме Макарий, 1876-1944), епископ, в 1916 г. рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, в 1920 г. эмигрировал, жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Участвовал в Карловацком Всезарубежном Соборе 1921 г. В 1922 г. перешел в Сербскую Православную Церковь. — 538
Митрофан (Симашкевич Митрофан Васильевич, 1845 — после 1928), митрополит, в 1906 г. рукоположен во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, с 1907 г. епископ Пензенский и Саранский, с 1914 г. в сане архиепископа, с 1915г. архиепископ Донской и Новочеркасский. в 1922 г. в сане митрополита, в 1926 г. уклонился в григорианский раскол. — 506, 507, 509-511, 513, 516, 518-520, 531-532, 534, 536, 539, 540, 681
Михаил (Ермаков Василий Федорович, 1862-1929), митрополит, в 1899 г. рукоположен во епископа Новгород-Северского, викария Черниговской епархии, с 1899 г. епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. с 1903 г. епископ Омский и Семипалатинский, с 1905 г. епископ Гродненский и Брестский, с 1912 г. в сане архиепископа, с 1921 г. в сане митрополита, назначен Патриархом Тихоном экзархом Украины с оставлением прежнего титула, с 1926 г. митрополит Киевский и Галицкий. — 691
Михаил (Космодамианский Михаил Иванович, 1858-1925), епископ, в 1911 г. рукоположен во епископа Александровского, викария Ставропольской епархии, эмигрировал, жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, находился в ведении Архиерейского Синода РПЦЗ. — 508, 516, 517, 538
764
Михаил (Чавдаров Дмитрий Тодоров, 1884-1961), митрополит. Учился в КДА, в 1911 г. пострижен в монашество, в 1924 г. рукоположен во епископа, до 1927 г. был викарием Варненской епархии. С 1927 г. митрополит Доростольский и Червенский. Председатель Болгарского Красного Креста в Софии и в Русе. В 1948-1949 гг. наместник-председатель Св. Синода БПЦ. — 662, 665
Михаил Александрович Романов (1878-1918), великий князь, брат императора Николая II. генерал-лейтенант, член Государственного Совета. участник Первой мировой войны, командовал Кавказской туземной конной дивизией, 2-м кавалерийским корпусом. После отречения Николая II согласился принять престол в случае соответствующего народного волеизъявления. В 1918 г. выслан в Пермь, где был расстрелян большевиками. Канонизирован РПЦЗ. — С. 324, 441, 442, 469
Михаил В., священник с. Лесохино Витебской епархии. — 81
Михаил Николаевич Романов (1832-1909), великий князь, сын императора Николая I, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер, председатель Государственного Совета в 1881-1905 гг., был женат на Ольге Феодоровне, герцогине Баденской. — 424
Михаил, церковный сторож в с. Усмынь. — 73
Михайлов, купец, староста церкви 4-го Гренадерского полка (Петропавловской). — 279
Михайловский, чиновник в г. Молодечно. — 700
Михневич Николай Петрович (1849-1927), генерал от инфантерии (1910), участник Русско-турецкой войны, с 1892 г. профессор Николаевской военной академии Генштаба, в 1904-1907 гг. начальник Николаевской академии Генштаба, в 1911-1917 гг. начальник Главного штаба, с 1917 г. в отставке, с 1918 г. на преподавательской работе в РККА. — 208, 211, 675
Молотков Арсений Федорович (1860-?). священник 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, награжден наперсным золотым крестом на георгиевской ленте за участие в Русско-японской войне, до 1904 г. служил в Брянске (тогда Орловской губернии), с 1905 г. служил в Александро-Невской церкви на Успенском военном кладбище в Парголово, близ Петербурга. — 165
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), советский политический деятель — член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС в 1926-1957 гг. В 1941-1942 и в 1946-1953 гг. — заместитель председателя, в 1942-1946 и в 1953-1957 гг. — первый заместитель председателя СНК (Совета министров) СССР. В 1962 г. уволен на пенсию и исключен из партии. В 1984 г. восстановлен в КПСС. — 690
Морев Иоанн Васильевич (1861-1935), протоиерей (1902), выпускник СПбДА, магистр богословия (1904), настоятель Сергиевского собора в Санкт-Петербурге, с 1912 г. помощник протопресвитера военного и морского духовенства, духовный писатель. — 234, 239, 260, 261, 295, 320, 326
Морозов Федор Евдокимович (около 1856 — после 1916), протоиерей (1893), в 1866-1890 гг. священник Рязанской епархии, законоучитель. с 1890 г. священник Владикавказской епархии, миссионер, военный священник, в 1893-1895 гг. настоятель собора Новогеоргиевской крепости, в 1895 г. священник крейсера «Память Меркурия», в 1895-1897 гг. — 175-го пехотного Остропенского полка, с 1897 г. благочинный 43-й пехотной резервной бригады, в 1915 г. настоятель Георгиевской общины Красного Креста в Полоцке (был в плену с августа по ноябрь). В 1911-1914И 1916 гг. вновь настоятель собора Новогеоргиевской крепости. — 277
765
Москвин Николай Федорович, протоиерей, в 1914 г. служил в 8-м туркестанском стрелковом полку, в 1905 г. — в церкви при управлении Ферганского военного начальника в г. Ново-Маргелане. — 334
Мосолов († около 1902), старший сын Е.И. Мосоловой, офицер Гвардейской конно-артиллерийской бригады. — 150
Мосолов Николай, младший сын Е.И. Мосоловой. — 150
Мосолова Екатерина Ивановна, прихожанка Суворовской церкви в Санкт-Петербурге. — 150, 683
Мотт Джон Рэйли (1865-1955), экуменический деятель, один из основателей и генеральный секретарь Всемирной студенческой христианской федерации (ВСХФ, 1895-1928), в 1915-1928 гг. генеральный секретарь Международного комитета ИМКА, в 1926-1937 гг. президент Всемирного комитета ИМКА. Один из инициаторов создания РСХД и издательства YMCA-Press в Париже, организатор Всемирной миссионерской конференции (1910), ставшей началом экуменического движения, с 1948 г. почетный президент Всемирного Совета Церквей. — 568
Моховой Константин Георгиевич, эмигрант, проживал в Болгарии. — 614, 664, 665
Мрозовский Иосиф Иванович (1857-1934), генерал от артиллерии, участник Китайского похода, в Русско-японскую войну командир 18-й артиллерийской, затем 9-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, в Первую мировую войну командовал корпусом, в 1915 г. назначен командующим Московским военным округом, в 1917 г. уволен от службы, после Октябрьской революции эмигрировал во Францию. — 158, 164
Мудролюбов Петр Васильевич, действительный статский советник. с 1915 г. обер-секретарь Святейшего Синода, писатель, сотрудник «Церковных ведомостей», приверженец Г. Распутина. — 446, 450
Мусин-Пушкин Василий Владимирович (1894-1959), граф, протоиерей, участник Первой мировой войны и Белого движения, член Ставропольского Собора (1919) и ВВЦУ на юго-востоке России, с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции, затем переехал в США, где принял священный сан в Русской Зарубежной Церкви. — 508, 516, 539, 554, 681
Мусхелов Ефрем Соломонович (1852-?), полковник, участник Русско-японской войны, командир 34-го Восточно-Сибирского полка, георгиевский кавалер, впоследствии генерал-майор. — 165, 178
Мухин Михаил Константинович, выпускник СПбДА (1889), кандидат богословия, воспитатель детей великого князя Константина Константиновича. ранее служил псаломщиком в церкви Мраморного дворца, впоследствии столоначальник при конторе двора великой княгини Александры Иосифовны, статский советник. — 252
Мышлаевский Александр Захарович (1856-1920), генерал от инфантерии (1912), профессор Николаевской академии Генерального штаба, в 1908-1909 г. начальник Главного штаба, в 1909-1913 гг. командир 2-го Кавказского корпуса, в Первую мировую войну помощник главнокомандующего Кавказской армией, с 1915 г. в отставке, затем вернулся на службу, был председателем Комитета по делам металлургической промышленности, в 1917 г. — командующий войсками Кавказского военного округа, автор военно-исторических трудов, организатор Военно-исторического общества. — 149, 288, 289
Надеждин Николай Николаевич, секретарь главного священника 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны. — 184-186
Налимов Семен Александрович, петербургский священник, выпускник СПбДА (1885), законоучитель Николаевского сиротского института и настоятель Покровской церкви при этом институте в 1888-1904 гг., брат профессора протоиерея Т.А. Налимова. — 133
766
Налимов Тимофей Александрович (1862-1925), протоиерей, профессор СПбДА по кафедре патристики в 1887-1900 гг. и 1917-1918 гг., в 1900 г. рукоположен во священника, до 1923 г. служил в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в 1922 г. был организатором «Петроградской автокефалии», в 1924 г. подвергался кратковременному аресту по делу православных братств. — 121
Наполеон I Бонапарт (1769-1821), французский император в 1804-1814 и в 1815 гг. — 296, 308, 603
Наталия Никомидийская († ок. 311), мученица. — 672
Нарбут Ольга Ивановна, жена псаломщика С.Д. Нарбута. — 64
Нарбут Степан Данилович, псаломщик церкви в с. Хвошно Витебской епархии. — 64-68
Наум Охридский, равноапостольный. — 592
Науменко Вячеслав Григорьевич (1883-1979), генерал-лейтенант Генштаба, участник Первой мировой и Гражданской войн, с 1918 г. в Добровольческой армии, первопоходник, походный атаман Кубанского казачьего войска (1919), командир 2-го Кубанского корпуса, в эмиграции в Греции, затем в Сербии, в 1920-1938 гг. войсковой атаман в зарубежье. во время Второй мировой войны исполнял должность начальника Главного управления казачьих войск, после войны жил в США. — 561
Нафан, пророк. — 213
Нафанаил (Троицкий Николай Захарьевич, 1864-1933), митрополит, в 1904 г. рукоположен во епископа Козловского, викария Тамбовской епархии, с 1908 г. епископ Уфимский и Мензелинский, с 1912 г. — Архангельский и Холмогорский, с 1918 г. в сане архиепископа, с 1921 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский, с 1924 г. в сане митрополита, в 1927 г. временно управлял Воронежской епархией, в том же году уволен на покой. — 447, 448
Невдачин Иван Иванович, протоиерей, с 1896-1897 гг. служил в Адмиралтейском соборе, с 1900 г. протоиерей, с 1900 по 1909 г. священник Преображенского всей гвардии собора, с 1909 г. настоятель Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка, с 1911 г. настоятель собора в Кронштадте. — 241, 245-247, 249-253, 330, 675
Незнамов Александр Александрович (1872-1928), генерал-майор (1915), военный теоретик и историк, участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1908 г. профессор Академии Генштаба, после революции служил в РККА, в 1918-1925 гг. профессор Военно-инженерной академии РККА, автор книги «Современная война». — 149, 426
Нейкирх, служащий, проживал в Болгарии. — 605
Некрасов Константин Герасимович (1864-1917), генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн, в 1908-1915 гг. командир лейб-гвардии Павловского полка, с 1915г. командовал дивизией, корпусом, убит на фронте солдатами. — 311
Некрасов, учитель Батумского реального училища. — 543-546
Нектарий († 1886), архидиакон Витебского кафедрального собора. — 398, 399
Нектарий Оптинский (Тихонов Николай Васильевич) (1853-1928), преподобный. — 689
Неофит (Караабов Никола Димитров, 1868-1971), митрополит Видинский Болгарской Православной Церкви, в 1900 г. окончил СПбДА, в 1905 г. принял монашество, в 1909 г. рукоположен во епископа, с 1912г. был представителем БПЦ в Константинополе, с 1914 г. митрополит Видинский, с 1921 по 1971 г. постоянный член Св. Синода БПЦ, в 1930-1944 гг. — наместник-председатель Св. Синода — 565, 682, 626, 682
767
Нератов Анатолий Анатольевич (1863-1938), дипломат, товарищ министра иностранных дел (1910). в Гражданскую войну член Особого совещания при главнокомандующем Добровольческой армией, в 1920 г. правительством П.Н. Врангеля назначен главой российской дипломатической миссии в Константинополе, затем жил во Франции. — 561
Нестеров Михаил Григорьевич, управляющий имением с. Усмынь Витебской губернии. — 76, 82, 85
Нестерова Евдокия Васильевна, жена управляющего имением с. Усмынь Витебской губернии. — 82
Нестор (Анисимов Николай Александрович. 1884-1962). камчатский миссионер, с 1916 г. епископ Камчатский и Петропавловский, с 1921 г. в эмиграции, с 1933 г. архиепископ, с 1944 г. под юрисдикцией Московского Патриархата, с 1956 г. митрополит Новосибирский и Барнаульский, с 1960 г. — Кировоградский и Николаевский. — 612, 613
Нечволодов Александр Дмитриевич (1864-1938), генерал-лейтенант (1915), общественный деятель, историк, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1889), участвовал в Русско-японской войне (организатор тайной разведки при штабе Маньчжурской армии), действительный член Императорского русского военно-исторического общества, участник Первой мировой войны (командовал бригадой. 19-й пехотной дивизией), георгиевский кавалер, эмигрировал во Францию, работал в газете и издательстве. — 402
Нидермиллер фон Николай Егорович (1849 — после 1916), генерал от инфантерии (1906), выпускник Николаевской академии Генштаба (1878), участник Русско-турецкой войны, Русско-японской войны, начальник Железнодорожного отдела полевого штаба наместника на Дальнем Востоке, с 1906 г. в отставке, в «Летописи войны 1914-1916 гг.» упоминается как находящийся на действительной службе. — 190
Никита, денщик диакона М.А. Антоновского во время Русско-японской войны. — 198
Никитин Владимир Николаевич (1848-1917), подполковник, впоследствии генерал-адъютант, участник Русско-турецкой войны, с 1904 г. начальник артиллерии 3-го Сибирского армейского корпуса, с 1916 г. комендант Петропавловской крепости, обвинялся в связях с Распутиным, расстрелян революционерами. — 156, 157
Никитин Петр Федотович, преподаватель начальной школы при Витебской семинарии. — 46, 47
Никифоровский Дмитрий Тарасьевич (1870-1930), одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии (1891), выпускник СПбДА (1896), кандидат богословия, в 1896-1905 гг. преподавал всеобщую и русскую историю в Витебской семинарии, затем служил инспектором народных училищ г. Невеля, с 1910 г. — городов Невеля, Дриесы и Себежа с их уездами, в 1912-1917 гг. был директором народных училищ Астраханской губернии, похоронен в Саратове. — 34, 55, 58, 59, 83
Никифоровский Иосиф Васильевич, выпускник Витебской духовной семинарии (1890), учитель школы в с. Хвошно Витебской губернии. — С. 64
Никифоровский Петр Тарасьевич (1867-1937), священник, выпускник Витебской духовной семинарии (1887), затем надзиратель Витебской семинарии, псаломщик с. Загорье, с 1917 г. священник в с. Пустошка Себежского уезда (ныне Псковская обл.), расстрелян по приговору «тройки» УНКВД Калининской области. — 34
Никишин Иаков, протодиакон, впоследствии архидиакон при экзархе БПЦ митрополите Стефане I. — 629
768
Никодим (Боков Николай Павлович, 1850-1914), епископ, в 1895 г. рукоположен во епископа Сарапульского, викария Вятской епархии, с 1900 г. епископ Приамурский и Благовещенский, с 1906 г. — Рязанский и Зарайский, с 1911 г. — Полоцкий и Витебский, с 1913 г. — Астраханский и Енотаевский. — 649, 650
Никодим (Пиперов Николай Николов. 1895-1980). архиерей Болгарской Православной Церкви, окончил Софийскую духовную семинарию и Оксфордский университет со степенью бакалавра богословия, преподавал в Пловдивской духовной семинарии (в 1941-1947 гг. ректор), игумен Бачкова монастыря в 1927-1929 гг., в 1939 г. рукоположен во епископа Стобийского, с 1947 г. митрополит Сливенский. — 626
Николаевский Николай Васильевич (1837 — не ранее 1918), митрофорный протоиерей, в 1893-1918 гг. настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка. — 325
Николаевский Павел Федорович (1841-1899), протоиерей, доктор церковной истории, профессор СПбДА. — 107
Николай (Зиоров Михаил Захарович, 1851-1915), архиепископ, окончил МДА со степенью кандидата богословия, в 1891 г. рукоположен во епископа Алеутского и Аляскинского, с 1898 г. епископ Таврический и Симферопольский, с 1905 г. назначен архиепископом Тверским и Кашинским, но по состоянию здоровья ушел на покой, с 1908 г. архиепископ Варшавский и Привисленский, с 1912 г. член Государственного Совета. — 276, 277, 644
Николай Чудотворец († ок. 335), архиепископ Мир Ликийских, святитель. — 266, 306
Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич, 1892-1961), митрополит, выпускник СПбДА (1914), доктор богословия (1949), рукоположен во епископа Петергофского, викария Петроградской епархии в 1922 г., с 1935 г. в сане архиепископа, с 1936 г. управляющий Новгородской и Псковской епархиями, с 1940 г. архиепископ Волынский и Слуцкий, с 1941 г. в сане митрополита, в том же году поставлен митрополитом Киевским и Галицким, с 1944 г. митрополит Крутицкий, с 1947 г. митрополит Крутицкий и Коломенский, председатель Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, с 1960 г. освобожден от управления епархией и должности по требованию власти (председателя Совета по делам РПЦ А.В. Куроедова). — 623
Николай I Павлович (1796-1855), российский император (1825-1855) — 195
Николай II Александрович (1868-1918), российский император (1894-1917), св. страстотерпец, расстрелян вместе с семьей большевиками в Екатеринбурге, причислен к лику святых РПЦЗ в 1981 г. и РПЦ в 2000 г. — 102, 249, 284, 305, 321, 322, 337, 349, 351, 360, 365, 367, 401-404, 406, 407, 410, 413-417, 420, 421, 433, 440, 463, 465, 467, 576, 652, 653, 696
Николай Константинович Романов (1850-1918), великий князь, сын великого князя Константина Николаевича, внук императора Николая I, в 1874 г. за кражу принадлежавших семье бриллиантов выслан из Санкт-Петербурга, с 1881 г. жил в Ташкенте, занимался предпринимательством. — 332, 679
Николай Миркович Негош (1841-1921), с 1860г. князь Черногории, с 1910 г. король Черногории, вел активную политику сближения с Россией и объединения славян на Балканах, после оккупации Черногории Австро-Венгрией в 1916 г. эмигрировал во Францию. — 408
Николай Михайлович Романов (1859-1919), великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоров-
769
ны, внук императора Николая I, генерал-адъютант, с 1892 г. председатель Русского географического общества, с 1910 г. председатель Русского исторического общества, в 1910 г. удостоен степени доктора философии Берлинского университета, в 1915 г. удостоен степени доктора русской истории Московского университета, расстрелян большевиками. — 272, 441-443
Николай Николаевич Романов (Младший, 1856-1929), великий князь, сын великого князя Николая Николаевича, внук императора Николая I. генерал от кавалерии, участник Русско-турецкой войны, в 1905-1914 гг. командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, в 1914-1915 гг. Верховный главнокомандующий, в 1915-1917 гг. главнокомандующий войсками Кавказского фронта, был женат на черногорской княжне Анастасии Николаевне, с 1919 г. в эмиграции в Италии, затем во Франции. — 7, 236-238, 248, 267, 270-273, 301, 322, 328, 337-339, 342-344, 351, 354-360, 362, 364, 369, 378, 395, 401-410, 414, 416, 418, 429, 432-434, 438, 440, 442, 464, 497-500, 653, 679, 681, 698
Николай Николаевич Романов (Старший, 1831-1891), великий князь, сын императора Николая I, генерал-фельдмаршал, участник Крымской войны. В годы Русско-турецкой войны (1877-1878) командующий Дунайской армией. — 324, 369, 574
Никольский Владимир Павлович (1873-1960), генерал-майор (1915), окончил Николаевскую академию Генштаба (1899), в 1913-1917 гг. начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, в 1918 г. находился в Киеве, после Октябрьского переворота эмигрировал, в конце 1930-х гг. проживал в Софии. — 471, 497, 498, 591
Никольский Николай Константинович (1863-1936), церковный историк, окончил СПбДА, магистр богословия (1893), доктор богословия (1899), с 1893 г. доцент, с 1898 г. экстраординарный профессор, в 1899-1909 гг. ординарный профессор СПбДА, с 1909 г. профессор Психоневрологического института и приват-доцент Санкт-Петербургского университета, с 1900 г. член-корреспондент Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности, с 1916 г. академик, после революции был директором Книжной палаты (Института книговедения), директором библиотеки Академии наук, с 1928 г. председатель комиссии по изданию памятников древнерусской литературы. — 119, 217
Никон (Бессонов Николай Николаевич, 1868-1919), бывший епископ, окончил МДА, кандидат богословия, был ректором Благовещенской и Иркутской духовных семинарий, в 1906 г. рукоположен во епископа Балтского, викария Подольской епархии, с 1909 г. епископ Кременецкий, с 1913 г. епископ Енисейский и Красноярский, в 1917г. снял сан, монашество и женился, в том же году возглавил министерство исповеданий Украины, потом работал театральным критиком. — 318, 319
Никонович Иван Николаевич, псаломщик храма в с. Азарково Витебской губернии. — 104, 108, 129
Нил Сорский (Майков, 1433-1508), преподобный. — 137
Нилов Иван Петрович (1892-1933), журналист, педагог, выпускник историко-филологического факультета Киевского университета, преподаватель русского языка и литературы в русской гимназии в Софии с 1925 г. и Свободного университета в Софии, печатался в русскоязычных софийских газетах. — 578, 580
Нилов Константин Дмитриевич (1856-1919), адмирал (1912), генерал-адъютант, участник Русско-турецкой войны, в 1890-1903 гг. адъютант генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, в
770
1903-1908 гг. командир гвардейского экипажа, в 1903-1905 гг. командовал практическим отрядом обороны побережья Балтийского моря, с 1905 г. флаг-капитан императора, арестован большевиками, погиб в заключении. — 286, 339, 411, 419, 434, 442, 458, 467
Нина (Боянус Вера Карловна, 1875 или 1876-1953), игумения (1914), в 1898 г. поступила в Вировский Спаса Всемилостивого монастырь, в 1899 г. пострижена в монахини, с 1904 г. в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре, в 1904-1905 гг. исполняла обязанности настоятельницы и начальницы женского духовного училища, с ноября 1905 по 1916 г. была начальницей училища, после революции уехала в Самарскую губернию, где было имение отца (известного врача), впоследствии работала врачом широкого профиля. — 670, 691
Новиков Александр Васильевич (1864 — после 1932), генерал-лейтенант (1913), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Первой мировой войны, в 1917 г. уволен от службы по болезни, с 1918 г. в РККА, командовал Западной (впоследствии 16-й армией), с 1919 г. инспектор кавалерии Полевого штаба РВСР. в 1930 г. арестован, в 1931 г. приговорен к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна. — 356, 363
Новицкий Георгий Исаакович (1889-1966), второй муж М.Г. Шавельской, родился в Ярославле, в 1924 г. эмигрировал в США, работал инженером, был общественным деятелем русской эмиграции — президентом Российского детского благотворительного общества. — 687, 693
Новицкий Яков Андреевич († около 1921), протоиерей, ректор Витебской семинарии (1886-1888), Курской семинарии (1888-1919). — 28, 49, 50
Ножиков, участник Русско-японской войны, погиб при обороне Порт-Артура. — 167
Ножикова Ольга Платоновна, с 1904 г. жена Стенбок-Фермора А.В. — 166, 167
Ноздровский Василий, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, выпускник 1891 г. — 39
Нокс Альфред Уильям (1870-1964), английский генерал, в 1911-1918 гг. военный атташе при посольстве Великобритании в России, во время Первой мировой войны находился в русской действующей армии, в 1918-1920 гг. возглавлял британскую военную миссию в Сибири, депутат британского парламента от Консервативной партии в 1924-1945 гг. —466
Носков, регент Придворной певческой капеллы. — 397
Оболенский Алексей Иванович (1881-1936), князь. — 150
Образский Стефан, выпускник Витебской духовной семинарии (1877), священник храма в с. Церковище Витебской епархии. — 70
Обронпальский, ксендз, помещик Лепельского уезда Витебской губернии. — 90, 93
Овсянкин Алексей, одноклассник протопресвитера Г.И. Шавельского в духовном училище и семинарии. — 21, 54
Овсянкин П.Д., чиновник канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. — 386, 387
Огановский Петр Иванович (1851 — после 1918), генерал от инфантерии (1910), выпускник Николаевской академии Генштаба, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, командир 2-й бригады 2-й Сибирской пехотной дивизии (1904-1905), генерал-квартирмейстер 1-й Маньчжурской армии (1906-1906), впоследствии командовал пехотными бригадами, дивизиями, в Первую мировую войну — 4-м армейским корпусом. — 191
771
Огарев Петр Николаевич (1849-1917), тайный советник, сенатор. — 262, 263
Одельский Николай, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище. — 21
Одинцов Сергей Иванович (1874-1920), полковник (1911), выпускник Николаевской академии Генштаба (1902), участник Русско-японской войны, начальник офицерской школы авиации в Севастополе, участник Первой мировой войны, командовал Приамурским драгунским полком, 3-й Кавказской кавалерийской дивизией, после Октябрьской революции в РККА, в 1919-1920 гг. командовал 7-й армией под Петроградом. — 283
Окиншевич Кирилл Емельянович, протоиерей, клирик Ставропольской епархии, член Ставропольского Собора 1919 г. — 517
Околович Иван, воспитанник Витебского духовного училища, старший брат Степана Околовича, возможно, ошибка в имени: в списке учащихся значится Василий Околович, выпускник 1884 г. — 40
Околович Степан, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище и семинарии. — 31, 32, 38, 40, 41, 44, 45, 53, 54, 59
Окунев Всеволод Николаевич (1870-1937), протоиерей, выпускник СПбДА (1902), священник лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка, в 1895-1904 гг. настоятель церкви Святого Михаила Архангела при учебно-воспитательном заведении великого князя Михаила Николаевича для детей артиллерийских офицеров, в 1905 г. служил в Преображенском всей гвардии соборе, с 1914 г. настоятель церкви Святого Мирония лейб-гвардии Егерского полка (закрыта в 1930), позднее служил в Троице-Измайловском соборе Ленинграда, в марте 1935 г. выслан в Кустанай, расстрелян по приговору «тройки» УПКВД по Кустанайской области. — 348
Оленин Лев Андреевич, учитель русской гимназии в Софии. — 573, 574, 577
Олив Елизавета Сергеевна (1880-1937), фрейлина, духовная дочь протопресвитера Г.И. Шавельского, после Октябрьской революции сослана в г. Тарусу Калужской области, расстреляна по приговору «тройки» НКВД. — 342, 343
Олтаржевский Станислав Иванович (1861-?), капитан (1900), участник Русско-японской войны, за боевые отличия 14 января 1905 г. произведен в подполковники, в марте 1913 г. служил в 24-м Сибирском стрелковом, участник Первой мировой войны, в апреле 1915 г. произведен в полковники, в 1916 г. в том же чине и полку. — 179, 182
Ольга Александровна Романова (1882-1960), великая княгиня, дочь императора Александра III, в 1901-1915 гг. в браке с принцем Петром Александровичем Ольденбургским, с 1916 г. в браке с офицером Н.А. Куликовским, во время Первой мировой войны была сестрой милосердия, с 1920 г. в эмиграции в Дании, с 1948 г. — в Канаде. — 248, 273, 344, 345, 354, 501
Ольга Константиновна Романова (1851-1926), великая княжна, королева Греции, старшая дочь великого князя Константина Николаевича, племянница императора Александра II, супруга Георгия I, короля Греции, в годы Первой мировой войны находилась в России, работала в госпиталях. — 262, 264
Ольга Николаевна (1895-1918), великая княжна, страстотерпица, дочь императора Николая II, расстреляна большевиками в Екатеринбурге. — 339
Ольденбургская Евгения Максимилиановна (1845-1925), принцесса, дочь герцога Лейхтенбергского, жена принца А.П. Ольденбургского, покровительница ряда благотворительных организаций, почетный член
772
Академии наук с 1895 г., после революции эмигрировала, умерла во Франции. — 220
Ольденбургский Петр Александрович (1868-1924), принц, сын Александра и Евгении Ольденбургских, в 1901-1916 гг. в браке с сестрой императора Николая II Ольгой Александровной, в 1917г. эмигрировал во Францию. — 273, 331, 354
Орановский Владимир Алоизович (1866-1917), генерал от кавалерии (1914), в Русско-японскую войну генерал-квартирмейстер 1-й Маньчжурской армии, в Первую мировую войну начальник штаба Северо-Западного фронта (1914-1915), командир 1-го кавалерийского корпуса (1915-1917), убит солдатами. — 183, 189, 190, 194
Оранская Наталья Николаевна, вдова генерал-лейтенанта. — 70, 76
Оранская Софья, дочь Н.Н. Оранской — 76.
Ориген (185-253 или 254), учитель Церкви, пресвитер, богослов, автор многочисленных сочинений догматического, апологетического и экзегетического характера. Сочинения Оригена пользовались в Церкви большим авторитетом. Однако некоторые мнения этого богослова были развиты его последователями до состояния ереси, что стало причиной посмертного анафемствования Оригена на Поместном Соборе в Константинополе в 553 г. Осуждение Оригена подтверждено 5-м и 6-м Вселенскими Соборами. — 118
Орлов Александр И., одноклассник протопресвитера Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, впоследствии секретарь Екатеринославской духовной консистории. — 55
Орлов Владимир Николаевич (1868-1927), князь, генерал-лейтенант (1915), с 1906 г. начальник походной канцелярии Его Величества, с 1915 г. на Кавказском фронте, в 1917 г. уволен от службы, эмигрировал во Францию. — 342, 343, 381, 403-410, 418, 419, 427, 431, 438, 679
Орлов Михаил Иванович (1864-1920), протоиерей, профессор, окончил СПбДА, кандидат богословия (1889). в 1890 г. рукоположен в сан иерея, в 1899 г. удостоен ученой степени доктора богословия, с 1899 г. доцент. с 1901 г. экстраординарный профессор кафедры греческого языка, истории и сравнительного языкознания СПбДА, в 1908 г. удостоен степени доктора богословия, с 1909 г. ординарный профессор СПбДА. — 121, 143, 144, 671
Орлов Николай Александрович (1855 — после 1917), генерал-лейтенант, участник Русско-китайской и Русско-японской войн, профессор Николаевской академии Генерального штаба по кафедре военного искусства. автор учебных руководств и военно-исторических трудов. — 149 Орлов Николай Андреевич (1892-1964), пианист, с 1917 г. профессор Московской консерватории, с 1921 г. проживал во Франции, с 1948 г. — в Великобритании. — 577
Орлов, артист, брат Н.А. Орлова. — 577
Орлов, капитан, участник Русско-японской войны, заведующий хозяйством штаба 1-й Маньчжурской армии. — 199, 201
Орнатский Философ Николаевич (1860-1918), священномученик, протоиерей, окончил СПбДА, кандидат богословия, в 1885 г. рукоположен во священника, служил в храме при приюте принца Ольденбургского, в храме Святого Андрея Критского, в 1893-1917 гг. был гласным городской думы от духовенства, долгое время был председателем петербургского Общества распространения религиозно-нравственного просвещения, стараниями о. Философа было возведено 12 храмов, создавал приюты, ночлежные дома, богадельни, вел активную проповедь среди рабочих, призывая их к верности императору, с 1913г. настоятель Казанского собора, расстрелян коммунистами вместе с сыновьями
773
Николаем и Борисом, причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г. — 6, 112, 325
Осип, повар Витебской духовной семинарии. — 32, 47
Основский Петр Васильевич, выпускник Витебской семинарии (1889). — 48
Острожский Константин Иванович (1460-1530), великий гетман Литовский с 1497 г., покровитель Православной Церкви. — 107
Остроухов Илья Семенович (1858-1929), художник, коллекционер, с 1903 г. член Союза русских художников, с 1906 г. действительный член Петербургской академии художеств, в 1898-1903 гг. член совета Третьяковской галереи, в 1905-1913 гг. попечитель Третьяковской галереи, участвовал в реставрации соборов Московского Кремля и ряда других храмов. с 1905 г. член-корреспондент, с 1906 г. действительный член Императорского московского археологического общества, составил крупную коллекцию живописи, икон, старинной утвари, создал музей, фонды которого после смерти Остроухова разошлись по различным музеям. — 217
Охотников Александр Аполлонович (1872-?), врач 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны, автор статей в «Военно-морском журнале» (1906). — 171-173, 175, 177, 179, 182, 183
Павел, апостол. — 119, 222, 617, 659
Павел (Константинов Петр, 1882-1940), митрополит Старозагорский (1923) БПЦ. Окончил СПбДА, в 1907 г. пострижен в монашество в 1917-1923 гг. ректор Софийской духовной семинарии. В 1921 г. рукоположен во епископа Драговитийского, с 1923 г. митрополит Старозагорский. В 1928-1932 и в 1937-1940 гг. — постоянный член Св. Синода. Автор множества проповедей и бесед на богословские и духовно-нравственные темы. — 566
Павел (Преображенский Павел Григорьевич, 1843-1911), епископ, окончил КДА, кандидат богословия, с 1900 г. кафедральный протоиерей Киево-Софийского собора, в 1908 г. рукоположен во епископа Чигиринского, первого викария Киевской епархии. — 281, 282
Павел Александрович Романов (1860-1919), великий князь, сын императора Александра II, муж греческой принцессы Александры Георгиевны, генерал от кавалерии (1913), с мая 1916 г. командир гвардейского корпуса, в ноябре 1916 г. назначен генерал-инспектором гвардейской кавалерии, после Февральской революции отстранен от должности, расстрелян большевиками, канонизирован РПЦЗ. — 364, 441, 442
Павел Алексеевич, крестьянин с. Азарково Витебской губернии. — 102, 108-110, 129
Паисий (Анков Александр Райков, 1888-1974), митрополит Врачанский БПЦ, доктор богословия. В 1923 г. рукоположен во епископа Знепольского. С 1930 г. митрополит Врачанский — 601, 625, 628, 662
Паисий (Виноградов Петр, 1837-1907), епископ, окончил МДА, кандидат богословия, с 1872 г. преподаватель и с 1882 г. ректор Витебской духовной семинарии, с 1891 г. викарный епископ Владимиро-Волынский, с 1902 г. викарный епископ Кременецкий, с 1902 г. епископ Туркестанский и Ташкентский, в 1906 г. уволен на покой по прошению, с 1907 г. настоятель Иоанно-Предтеченского монастыря Астраханской епархии, где и был похоронен. — 28, 43, 48, 50, 666
Палладий (Раев-Писарев Павел Иванович, 1827-1898). митрополит, в 1866 г. рукоположен во епископа Ладожского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1869 г. епископ Вологодский, с 1873 г. — Тамбовский. с 1876 г. — Рязанский, с 1881 г. в сане архиепископа, с 1882 г. ар-
774
хиепископ Казанский и Свияжский, с 1887 г. архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, с 1892 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и первенствующий член Святейшего Синода. — 106, 449, 633
Палладий (Соколов Павел Ильич, 1850-1919), архиепископ, с 1891 г. протоиерей, ректор Тамбовской духовной академии, е 1899 г. помощник председателя, затем председатель Училищного совета при Святейшем Синоде, в 1919 г. рукоположен во епископа Астраханского и Енотаевского, тогда же возведен в сан архиепископа, на кафедре не был. — 642, 643
Пальмов Иван Савельевич (1855-1920), крупный ученый-славист, историк Церкви, профессор, окончил СПбДА, доктор церковной истории (1904). член-корреспондент Петербургской академии наук (1913), академик Российской академии наук (1916). — 6, 121, 122
Поп-Пандов Дмитрий Пантелеевич, товарищ Г. И. Шавельского по СПбДА. — 121
Парманин Николай Александрович (1886-?), педагог, выпускник Харьковского университета (1912), окончил педагогические курсы (1914), участник Всероссийского съезда по библиотечному делу (Петербург, 1911). автор книги «Как руководить чтением беллетристики в библиотеке (Харьков, 1919), в эмиграции в Чехословакии и Болгарии, в 1922-1926 гг. член Союза русских педагогов в Чехословакии, директор Шуменской гимназии в Болгарии, в середине 1930-х гг. затем директор русской гимназии в Софии. — 578-580
Парфен, служитель Витебского духовного училища. — 24, 26
Парфений (Стоянов Стоян Стаматов, 1907-1982), епископ БПЦ, богослов, доктор философии, доктор церковно-канонического права. В 1929 г. пострижен в монашество, в 1945 г. рукоположен во епископа Левкийского, с 1966 г. первый викарий Патриарха Болгарского. — 626
Паша (Параскева) Дивеевская (Ирина Ивановна, 1795-1915), блаженная, из крестьян Тамбовской губернии, пострижена в одном из киевских монастырей, жила в пещерах недалеко от Сарова, с 1884 г. жила в Дивееве, в 2004 г. причислена к лику святых Московским Патриархатом. — 501
Пащенко Алексей Григорьевич (1869-1909), генерал-майор (1909), выпускник Михайловской артиллерийской академии (1898), подполковник (1902), командир 2-й батареи 9-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской дивизии в 1904-1905 гг., участник Русско-японской войны (был ранен, контужен), за боевые заслуги в 1905 г. возведен в чин полковника, георгиевский кавалер, командовал дивизионами, в 1909 г. — 3-й артиллерийской бригадой. — 158, 174, 683
Пащенко Михаил Григорьевич, см. Пащенко Алексей Григорьевич (имя Михаил ошибочно).
Пемуров, врач 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны. — 171, 172, 177
Перехвальский Дмитрий Николаевич (1854-1904), капитан, сын священника с. Покровское Данковского уезда, окончил 4 класса Рязанской духовной семинарии и Одесское пехотное юнкерское училище, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в 1903 г. капитан 13-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, в Русско-японскую войну командир 4-й роты 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, погиб в бою. — 177
Пестич Евгений Филимонович (1866-1919), генерал-майор (1910), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн, начальник штаба 13-го армейского корпуса, в 1914 г. взят в плен в Восточной Пруссии, содержался в кре-
775
пости Кенигштайн, вернувшись из Германии, участвовал в Белом движении в составе ВСЮР, погиб в уличных боях в Киеве. — 363, 678
Петерсон Анна Карловна, фрейлина великой княгини-черногорки Анастасии Николаевны, уволенная ею. — 408
Петков Стоян, см. Андрей (Петков).
Петлюра Симон Васильевич (1879-1926), украинский политический и военный деятель, глава директории Украинской народной республики в 1919-1920 гг., в 1918 г. организовал восстание против Скоропадского, занял Киев, с 1919 г. фактически диктатор Украины, участвовал в советско-польской войне на стороне Польши, с 1920 г. в эмиграции, убит в Париже евреем в отместку за погромы и убийство своих родственников. — 533, 534
Петр, апостол. — 559, 560, 568
Петр I Алексеевич, Великий (1672-1725), царь Московский (с 1682), император Всероссийский с 1721 г. — 394, 487
Петр (Лосев), епископ. — 683
Петр Николаевич Романов (1864-1931), великий князь, сын великого князя Николая Николаевича и внук императора Николая I, генерал-лейтенант. генерал-адъютант, в Первую мировую войну генерал-инспектор инженерных войск, был женат на черногорской княжне Милице Николаевне, серьезно увлекался живописью, архитектурой (преимущественно церковной, автор эскизов нескольких церквей и собственного дворца в Крыму), в эмиграции в Италии, затем во Франции. — 271, 272, 354, 355, 399, 401, 408, 432, 438, 498
Петр П., священник, предшественник Г.И. Шавельского в храме с. Бедрица Лепельского уезда Витебской епархии. — 89, 91-93
Петров Александр Карпович (1856 — не ранее 1918), генерал от инфантерии (1916), герой Русско-турецкой войны, георгиевский кавалер (1878), с 1898 г. полковник, с 1899 г. командир 107-го Тенгинского полка, с марта 1904 г. по январь 1905 г. командир 139-го Моршанского полка 35-й пехотной дивизии, участник Русско-японской войны, за боевые заслуги произведен в чин генерал-майора 6 декабря 1904 г. и награжден золотым оружием, в 1905-1909 гг. комендант Зегржской крепости, в 1909-1917 гг. комендант Выборгской крепости, затем в отставке. — 156
Петров Петр Васильевич (1858-1918), воспитатель детей Николая II, преподаватель русского языка с 1903 г., подполковник, тайный советник, чиновник особых поручений, состоял при царевиче Алексее Николаевиче, автор трудов по педагогике. — 411
Петрово-Соловово Борис Михайлович (1869-1925), генерал-майор свиты, во время Первой мировой войны генерал для поручений при Верховном главнокомандующем, в 1917 г. уволен со службы по болезни. — 354, 361, 432, 438
Петряев Александр Михайлович (1875-1933), дипломат, востоковед, с 1916г. работал в ближневосточном отделе МИДа, в 1917г. товарищ министра иностранных дел, в 1919-1920 гг. русский представитель в Софии, с 1932 г. в Югославии, работал в местном МИДе, известен как один из создателей казачьего хора. — 393, 566, 568
Пилат Понтий (I в.), римский правитель Иудеи и Самарии. — 273
Пильц Александр Иванович (1870-1944), государственный деятель, действительный статский советник, в 1910-1916 гг. Могилевской губернатор, с 1916 г. товарищ министра внутренних дел, в 1916-1917 гг. Иркутский генерал-губернатор, в 1917г. отстранен от должности, участник Белого движения, в ноябре 1918 г. — январе 1919 г. участвовал в работе Ясского совещания, в 1919-1920 гг. на разных гражданских должностях
776
во ВСЮР и Русской армии генерала П.Н. Врангеля, в эмиграции был в Болгарии, где занимался педагогической деятельностью, с осени 1923 г. возглавлял бюро «Объединения русских организаций и союзов в Болгарии», погиб во время бомбардировки Софии американской авиацией. — 462, 497, 498, 560, 561, 586, 681
Пилюк Моисей (Мусий) Прокофьевич, один из лидеров кубанского казачьего повстанческого движения в 1920-1921 гг., выходец из станицы Елизаветинской, сотник, член Кубанской краевой рады в 1919-1920 гг., в конце 1919 г. возглавил массовое восстание казаков-черноморцев против А. И. Деникина, в июле 1920 г. назначен председателем комиссии Кубано-Черноморского облревкома по борьбе с «бело-зелеными», в январе 1921 г. бежал с семьей в горы, где возглавил Политотдел Кубанской повстанческой армии, в октябре 1921 г. пойман, осужден, после тюремного заключения вернулся в станицу Елизаветинскую психически больным. — 543, 545
Писемский Алексей Феофилактович (1821-1881), русский писатель, автор романов «Мещане», «Люди сороковых годов», «Былые соколы», «Хищник» и других. — 666
Питирим (Крылов Порфирий Семенович, 1895-1937), архиепископ. В 1928 г. рукоположен во епископа Волоколамского, викария Московской епархии, с 1929 г. епископ Орехово-Зуевский, с 1931 г. епископ Дмитровский, в 1932-1933 гг. — управляющий делами Временного Патриаршего Синода при митрополите Сергии (Страгородском), с 1938 г. архиепископ Великоустюжский и Усть-Вымский, неоднократно арестовывался, расстрелян. — 690
Питирим (Окнов Павел Васильевич, 1858-1919), митрополит, в 1894 г. рукоположен во епископа Новгород-Северского, с 1896 г. епископ тульский и Белевский, с 1904 г. — Курский и Белгородский, с 1905 г. — Курский и Обоянский, с 1909 г. в сане архиепископа, с 1911 г. архиепископ Владикавказский и Моздокский, с 1913 г. — Самарский и Ставропольский, с 1914 г. — Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, с 1915 г. митрополит Петроградский и Ладожский, с 1917 г. на покое. — 329, 341, 366, 411, 445-450, 454-456, 463, 465, 469, 470, 539, 541, 542, 581, 680, 681, 697
Пичета Иоанн (Йован) Христифорович (1844-1920), протоиерей, преподаватель и ректор Полтавской и Витебской духовных семинарий. — 29, 33, 49, 50, 667
Платон (Левшин Петр Георгиевич, 1737-1812), митрополит, окончил Славяно-греко-латинскую академию, был законоучителем наследника Павла Петровича, наместником Троице-Сергиевой лавры, в 1770 г. рукоположен во епископа Тверского и Кашинского с возведением в сан архиепископа, с 1775 г. архиепископ Московский, с 1787 г. митрополит Московский и Коломенский, в 1811 г. уволен от епархиальных дел по болезни. — 366
Платон (Рождественский Порфирий Федорович, 1866-1934), митрополит, в 1902 г. рукоположен во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, с 1907 г. архиепископ Алеутский и Северо-Американский, с 1914г. — Кишиневский и Хотинский, с 1915г. — Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, член Святейшего Синода, с 1917 г. митрополит Тифлисский и Бакинский, экзарх Кавказский, с 1918 г. митрополит Херсонский и Одесский, с 1920 г. в эмиграции, в 1923 г. назначен Патриархом Тихоном управляющим Северю-Американской епархией. В 1926 г. отделился от РПЦЗ, вместе с большинством американского духовенства отказался следовать политике митрополита Сергия (Страгородского). В 1933 г. вместе с подчиненным ему американским епископатом объявил
777
Американскую митрополию автономной. — 4, 475, 484, 506, 507, 533, 544, 545, 581, 613
Платонов Сергей Федорович (1860-1933), русский историк, окончил Санкт-Петербургский университет, с 1890 г. профессор кафедры русской истории Санкт-Петербургского университета, в 1930 г. обвинен в контрреволюционной деятельности, 1,5 года провел в заключении, в 1930 г. сослан в Самару. — 149
Платонов Федор Константинович, петербургский художник-иконописец последней четверти XIX — начала XX в., отец подвижницы благочестия монахини Анастасии (Александры Федоровны Платоновой, 1884-1941). — 141
Плеве Вера Александровна, урожденная Сухомлинова, жена генерала П.А. Плеве, сестра военного министра В.А. Сухомлинова. — 296
Плеве Павел Адамович (1850-1916), генерал от кавалерии (1907), командующий войсками Московского военного округа, участник Первой мировой войны, в 1915-1916 гг. командовал Северным фронтом, в 1916 г. член Государственного Совета. — 296
Плевицкая Надежда Васильевна (1884-1940), урожденная Винникова, певица, исполнительница русских романсов, после Октябрьской революции эмигрировала, жила во Франции и Германии, вместе с мужем генералом Н. Скоблиным сотрудничала с ОГГГУ, осуждена французским судом за соучастие в похищении генерала Е.К. Миллера, умерла в заключении. — 577
Плешков Михаил Михайлович (1856-1927), генерал от кавалерии, окончил Академию Генерального штаба (1884), командир 1-го Сибирского армейского корпуса, участник Первой мировой (успешно командовал корпусом) и Гражданской войн, в 1917 г. отстранен от должности солдатами, в 1918 г. уехал на Дальний Восток, где занимал пост главноначальствующего в полосе отчуждения КВЖД, в 1923 г. сформировал отряд белых офицеров в Китае для службы в армии маршала Чжан Цзо Линя. — 315
Плотников Виктор Васильевич, см. Венедикт (Плотников), архиепископ.
Плотникова Екатерина Михайловна, главная надзирательница гимназии принцессы Ольденбургской, занимала этот пост более 40 лет, была также учительницей прогимназии, награждена Мариинским знаком отличия за заслуги женщин в сфере воспитания и благотворительности. — 220
Плющевский-Плющик Юрий Николаевич (1877-1926), генерал-майор (1919), окончил Николаевскую академию Генштаба (1905), в которой впоследствии преподавал, участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну на штабной работе, с 1917г. исполняющий должность генерала для делопроизводства и поручений управления дежурного генерала при Верховном главнокомандующем, с 1917 г. полковник, генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего, участник Белого движения, с 1918 г. генерал-квартирмейстер Добровольческой армии; в 1919 г. генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего ВСЮР, в эмиграции жил во Франции, где работал на заводе. — 479, 528
Победоносцев Константин Петрович (1827-1907), государственный деятель, юрист, в 1859-1865 гг. профессор Московского университета. с 1868 г. сенатор, с 1872 г. член Государственного Совета, в 1880-1905 гг. обер-прокурор Святейшего Синода. — 508
Подымов Борис Александрович (1866-1931), генерал-майор (1912), участник Русско-японской и Первой мировой войн, с 1911 г. командир лейб-гвардии Саперного батальона Свиты Его Величества, с июня 1917 г. в отставке по болезни, в эмиграции в Италии. — 326
778
Покровский Василий, священник храма в с. Азарково Витебской епархии. — 98
Покровский Григорий Васильевич (1871-1968), генерал-майор (1915), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1899), участник Первой мировой войны, командовал полком, был начальником штаба корпуса, армии, участник Белого движения во ВСЮР и Русской армии генерала П.Н. Врангеля, в эмиграции во Франции возглавлял Общество офицеров Генерального штаба, до старости работал кулинаром в ресторане. — 543
Покровский Иоанн Алексеевич, протоиерей, служил в кафедральном соборе в Воронеже, затем был священником на крейсере, участник русско-японской войны, священник 12-го Восточно-Сибирского полка, в 1904 г. награжден орденом св. Анны с мечами и бантом и золотым крестом на георгиевской ленте, в Первую мировую войну священник 176-го пехотного Переволоченского полка, затем главный священник Северного фронта. — 368, 678, 686
Покровский Николай Васильевич (1848-1917), археолог, историк, окончил СПбДА (1874), доктор церковной истории (1892), с 1893 г. профессор. организатор и директор (с 1879) Церковно-археологического музея. с 1898г. директор Археологического института. — 105, 106, 108, 110, 113-115, 124, 127, 131, 147, 670
Покровский Николай Николаевич (1865-1930), государственный деятель, с 1906 г. товарищ министра финансов, с 1914 г. член Госсовета; с 30 ноября 1916 по 4 марта 1917 г. министр иностранных дел, после Октябрьского переворота эмигрировал, жил в Ковно. — 457
Покровский Павел, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии. — 39
Покровский Сергей Иванович, преподаватель русской гимназии в Софии. — 580
Покровский Федор Иванович, выпускник СПбДА (1871), кандидат богословия, преподаватель Витебской духовной семинарии, затем инспектор Рижской и Псковской семинарий. — 35-37, 52, 121, 567, 666
Поливанов Алексей Андреевич (1855-1920), генерал от инфантерии (1911), член Государственного Совета (1912-1915), помощник военного министра (1906-1912), военный министр и председатель Особого совещания по обороне (1915-1916), после Октябрьского переворота в РККА, в качестве эксперта участвовал в переговорах между советским правительством и Польшей. — 430, 431, 432, 443, 457, 472
Помяловский Николай Герасимович (1835-1863), русский писатель, автор «Очерков бурсы» (1863), публиковался в «Современнике», «Журнале для воспитания». — 26
Пономарев Александр Иванович (1849-1911), историк, филолог, окончил СПбДА, магистр богословия (1886), доцент, а затем экстраординарный профессор кафедры словесности и истории русской литературы, доктор богословия (1900), с 1901 г. ординарный профессор СПбДА. — 121
Попейко Леонид, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии. — 31, 32, 38
Попов Владимир Владимирович (1889-1970), юрист, общественный и церковный деятель, выпускник Новороссийского университета, служил в Одесской судебной палате, с 1915 г. товарищ прокурора Сумского, затем Одесского окружного суда, эмигрировал в Болгарию, организатор и секретарь Русского епархиального совета, секретарь Российского земско-городского комитета (Земгор) в Софии, в 1926 г. переехал во Францию, состоял секретарем в Общей канцелярии великого князя Николая Николаевича, сотрудник и доверенное лицо генералов А.П. Кутепо-
779
ва, Е.К. Миллера, А.А. Лампе, начальник канцелярии и казначей 1-го отдела Русского общевоинского союза (РОВС) (до середины 1960-х), в 1956-1970 гг. председатель Союза бывших русских судебных деятелей. — 591
Попов Михаил Степанович (1865 — не ранее 1935), священник, обновленческий «архиепископ», окончил СПбДА (1902), сокурсник Г.И. Шавельского, служил священником в Великом Устюге и Санкт-Петербурге, с 1922 г. в обновленческом расколе, где был пострижен в рясофор и рукоположен во «епископа», в 1931 г. уволен на покой по болезни. — 110, 111, 126, 127, 669
Попов Николай И., прокурор Полоцкого окружного суда, товарищ Г.И. Шавельского по Витебской духовной семинарии, выпускник 1889 г. — 494
Попов Николай Ферапонтович, выпускник СПбДА (1863), кандидат богословия, преподаватель Витебской духовной семинарии. — 36, 41, 42, 60
Попов Пантелеймон Михайлович, сын священника Михаила Попова. — 127
Попов Петр Алексеевич, управляющий имением в с. Усмынь Витебской губернии. — 309
Попов Порфирий, священник Иркутской епархии, участник Русско-японской войны, служил в подвижном походном госпитале №16, удостоен ордена Святой Анны 3-й степени. — 165
Попов Христо, редактор «Церковного Вестника» (Болгария), секретарь Священного Синода БПЦ. — 613
Попов, капитан 1-го ранга, служащий Морского министерства, скорее всего, Попов Андрей Андреевич (1866 — после 1917), капитан 1-го ранга (1911), выпускник Морского училища (1887), старший офицер 1-го ранга крейсера «Баян» в период обороны Порт-Артура (1904), старший офицер учебного судна «Верный» (1905-1906), командир миноносца «Заветный» (1906), флагманский интендант штаба командующего 1-м отрядом минных судов Балтийского моря (1907-1908), командир эсминца «Донской казак» (1908-1909), исполняющий должность начальника Морского музея имени Петра Великого (1911-1917). — 676
Попова Елена Александровна, двоюродная сестра И.М. Забелиной, жены протопресвитера Г.И. Шавельского. — 84
Поп-Пандов Дмитрий Пантелеевич, выпускник СПбДА (1897), впоследствии член Белградского народного собрания. — 121
Попруженко Михаил Георгиевич (1866-1944), историк и филолог, заслуженный профессор Новороссийского университета (1916), секретарь Одесского общества истории и древностей, заведующий Одесской публичной библиотекой, с 1919 г. в Болгарии, профессор истории русской литературы Софийского университета (1920-1941), почетный доктор Софийското университета (1939), член-корреспондент (1923) и академик (1941) Болгарской академии наук. — 591
Поснов Михаил Эммануилович (1873-1931), историк Церкви, окончил КДА, кандидат богословия (1898), магистр богословия (1903), доцент КДА по кафедре Священного Писания Нового Завета (1910), доктор церковной истории КазДА (1913), экстраординарный профессор по кафедре истории древней церкви (1913), ординарный профессор (1919), эмигрировал в Болгарию, профессор Софийской духовной семинарии (1920-1924), профессор богословского факультета Софийского университета по кафедре истории древней церкви (1924-1931), профессор исторического факультета Софийското университета (1928-1931). — 569, 660
780
Поспелов Сергей Матвеевич (1853 — после 1917), генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, командовал полками, бригадами, начальник 2-й Сибирской стрелковой дивизии (1911-1917), георгиевский кавалер, с августа 1917 г. в отставке по болезни. — 314, 685
Потоцкий Николай Платонович (1844-1911), генерал от артиллерии (1906), заслуженный профессор (1901) и член конференции Михайловской артиллерийской академии, член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления, с 1906 г. в отставке. — 149
Потто Василий Александрович (1836-1911), генерал-лейтенант, генерал от кавалерии (посмертно), выдающийся военный историк Кавказа, автор труда «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» (1899) и многих других. — 579, 688
Потто Федор Александрович (1868-?), полковник (1910), выпускник 3-го Александровского училища, офицер-воспитатель Владикавказского кадетского корпуса, участник Первой мировой войны, командир 261-го пехотного Ахульгинского полка (1914-1916). — 688
Потто Федор Васильевич, полковник, воспитатель русской гимназии в Софии. — 579
Прасковья, повивальная бабка с. Дубокрай. — 12
Прейс Максим Карлович, инспектор Смольного института, автор-составитель книги «Синтаксис немецкого языка для старших классов средних учебных заведений» (СПб., 1885). — 220
Преображенский Михаил Алексеевич, выпускник МДА (1878), преподаватель Витебской духовной семинарии. — 38
Пржевальский Михаил Алексеевич (1859-1934), генерал от инфантерии (1916), двоюродный брат известного путешественника Н.М. Пржевальского, участник Первой мировой войны (командир Кубанской пластунской бригады, 2-го туркестанского армейского корпуса, главнокомандующий Кавказским фронтом) и Белого движения (командующий добровольческими войсками на Кавказе), с 1920 г. в эмиграции в Югославии. — 170
Прозоровский Рафаил Арсениевич, протоиерей, священник 4-го Несвижского гренадерского полка (стоявшего в Москве), участник Всероссийского съезда военного и морского духовенства (1-10 июля 1914), председатель 6-й секции. — 280
Протасов Николай Александрович (1799-1855), граф, генерал от кавалерии, член Государственного Совета, обер-прокурор Святейшего Синода (с 1836). — 456
Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1917), государственный и политический деятель, действительный статский советник, депутат 111 и IV Государственной Думы, октябрист, с 1916г. управлял Министерством внутренних дел. после Февральской революции арестовывался Временным правительством, расстрелян большевиками. — 411, 418, 443, 465, 679
Прохор Лаврентьевич, крестьянин с. Азарково Витебской губернии. — 101, 109
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920), политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы II-IV созывов, один из организаторов Союза русского народа, организатор Союза Михаила Архангела, один из участников убийства Распутина, при Временном правительстве находился в заключении, в 1918 г. выехал на юг России, поддерживал А.И. Деникина, издавал журнал «Благовест», умер от тифа в Новороссийске. — 464
Пустовойтенко Михаил Савич (1865-?), генерал-лейтенант, окончил Николаевскую академию Генштаба (1894), в Первую мировую войну
781
генерал-квартирмейстер штаба армий Юго-Западного фронта, затем на той же должности в штабе Северо-Западного фронта, с 1915 г, исполняющий должность генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего, с 1917 г. командовал корпусом, в начале 1918 г. эмигрировал. — 439
Путилин Сергей Тихонович (1868-1950), протоиерей, выпускник СПбДА (1893), кандидат богословия, священник 45-го драгунского Северского полка, благочинный Кавказской кавалерийской дивизии, служил в кронштадской морской Богоявленской церкви в 1900-1919 гг., в 1917 г. поддержал Февральскую революцию, в 1919 г. отказался от сана, в 1921 г. был одним из организаторов Кронштадского восстания, в эмиграции в Финляндии, похоронен на Пикольском кладбище в Хельсинки. — 290, 291, 325
Пуцык Иван, крестьянин д. Азарково. — 98.
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), великий русский поэт. — 684
Пщелко Александр Романович (1869-1943), белорусский и русский прозаик, публицист, этнограф, педагог, адвокат, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии (выпускник 1891 г.), служил псаломщиком. Преподавал, с 1907 г. после окончания Юрьевского университета служил в окружном суде в Вильно, затем мировым судьей в Себеже, адвокатом при Полоцком губернском суде, с 1918 г. на педагогической и журналистской работе в Городке Витебской губернии, с 1927 г. работал в поселке Старая Торопа Тверской области. — 53
Пятибоков Иоанн Матвеевич (1820-1895/1896), протоиерей, с 1848 г. священник Костромского егерского полка, в Крымскую войну протоиерей Могилевского полка, герой Крымской войны, кавалер ордена Святого Георгия IV степени. — 678
Радугин Михаил Иванович (1861-?), военный священник, выпускник Рязанской духовной семинарии, служил в Гродно в 104-м пехотном Устюжском полку с 1887 г., затем в 101-м пехотном Пермском полку, был благочинным 26-й пехотной дивизии, с 1902 по 1911 г. был также священником церкви Гродненского военно-местного лазарета, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, в числе наград имел золотой наперсный крест на георгиевской ленте. — 276, 278
Раев Николай Павлович (1857-1919), церковный деятель, действительный статский советник, с 1885 г. служил по ведомству Министерства народного просвещения, с 1905 г. член совета Министерства народного просвещения, директор Высших женских историко-литературных и юридических курсов, последний обер-прокурор Святейшего Синода (1916-1917), уехал на Кавказ, где жил при митрополите Питириме (Окнове). — 446, 449, 450, 465, 541, 681
Ракич, жена сербского посланника в Софии Милана Ракича (1876-1938), известного сербского поэта и дипломата, академика Сербской академии наук (1934). — 591
Распутин Григорий Ефимович (1869-1916), крестьянин Тобольской губернии, обладал способностью останавливать кровь у больного гемофилией царевича Алексея, вследствие чего вошел в доверие к царской семье и получил влияние на государственные и церковные дела, убит заговорщиками. — 9, 304, 306, 312, 329, 337-345, 366, 389, 401-403, 406, 407, 409-412, 418-420, 429-431, 433, 441, 442, 444-451, 455, 457, 461-465, 499, 501, 541, 677, 680, 681, 685, 697, 698
Рачинский Сергей Александрович (1836-1902). педагог, магистр ботаники (1859), профессор Московского университета, с 1867 г. жил в с. Татево Смоленской губернии, где основал школу, в которой преподавал. — 137
782
Редько Алексей Ефимович (1862 — не ранее 1917), генерал-лейтенант (1914), участник Русско-японской и Первой мировой войн, командир 8-й Сибирской стрелковой дивизии в 1914-1917 гг., с апреля по июль 1917 г. командовал 3-м армейским корпусом, покинул пост по требованию солдат. — 318
Резвой Орест Павлович (1811-1904), генерал от артиллерии, начальник Михайловского артиллерийского училища, в 1878-1904 гг. член Военного совета. — 197
Рейс (Рейсс) Элеонора Каролина Гаспарина Луиза (1860-1917), царица Болгарии, вторая жена болгарского царя Фердинанда с 1908 г., в Русско-японскую и Первую мировую войны сестра милосердия. — 197
Ремизов Иоанн Сергеевич, протоиерей, военный священник с 1878 г., рукоположен в 1877 г. в Астраханской епархии, был благочинным Закаспийской области, во время Русско-японской войны священник 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, за отличие в боях награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й ст. с мечами, орденом Святого Владимира 4-й ст. и золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, в Первую мировую войну вновь на фронте со своим полком, в 1921-1922 гг. настоятель церкви Святителя 'Тихона Задонского на Крестовском острове в Петрограде. — 195, 202
Ренненкампф Павел Карлович фон (1854-1918), генерал от кавалерии, участник Русско-китайской, Русско-японской (начальник Забайкальской казачьей дивизии) и Первой мировой войн (командир 10-й армии Северо-Западного фронта), с 1915 г. в отставке, после Февральской революции заточен в Петропавловскую крепость, освобожден после Октябрьской революции, уехал в Таганрог, расстрелян за отказ служить в РККА. — 203, 207, 275, 295, 296, 351, 363, 400, 421, 422
Ридингер Анна Борисовна (1900-1918), дочь Б.Н. Ридингера. — 683
Ридингер Борис Николаевич (1867-1912), барон, владелец имения Куоккала (ныне Репино) под Санкт-Петербургом. — 133, 134, 683
Ридингер Владимир Николаевич, имя ошибочно, см. Ридингер Б.Н.
Ридингер Лидия Ивановна (1869-1931), старшая дочь известного художника И.В. Шишкина, жена Б.Н. Ридингера. — 133, 134
Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924), российский политический и общественный деятель, лидер партии октябристов, действительный статский советник, председатель Государственной Думы III и IV созывов, во время Февральской революции возглавил Временный комитет Государственной Думы, в годы Гражданской войны находился на Дону при Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. — 469
Родзянко Павел Владимирович (1854-1932), генерал-майор, шталмейстер Императорского двора, участник Русско-японской войны (создал летучий лазарет, с которым участвовал в сражениях), старший брат председателя Государственной Думы М.В. Родзянко, с 1920 г. в эмиграции. — 77, 171
Рождественский Александр Васильевич (1872-1905), священник, выпускник СПбДА (1897), кандидат богословия, иерей (1897). основатель Александро-Невского общества трезвости в Санкт-Петербурге. — 128
Рождественский Александр Павлович, регент хора Суворовской церкви в Санкт-Петербурге. — 396, 397
Рождественский Александр Петрович (1864-1930), протоиерей, выпускник и профессор СПбДА, магистр богословия (1896), доктор богословия (1901). участвовал в работе над «Толковой Библией» и «Право-
783
славной Богословской энциклопедией», член Поместного Собора 1917-1918 гг.. Ставропольского Поместного Собора 1919 г., был членом ВЦУ на юго-востоке России, с 1920 г. жил в Болгарии, служил профессором Священного Писания в Софийской духовной семинарии. Умер в Чехословакии. — 121, 128, 239, 475, 507, 539, 561, 566, 568, 583, 584, 681
Рождественский Николай Федорович (1863-1920), протоиерей, участник обороны Порт-Артура на судне «Монголия», старший священник 43-го Сибирского стрелкового полка и благочинный 11-й Сибирской стрелковой дивизии, с 1907 г. старший священник 3-й Сибирской пехотной резервной бригады, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны (с 1914 г. священник 164-го Закатальского полка) и Белого движения, главный священник 2-й армии Восточного фронта, помощник главного священника армии и флота Колчака, тяжело заболел и умер при отступлении. — 266, 267, 268
Розанов Василий Васильевич (1856-1919), философ, религиозный мыслитель, писатель, публицист. — 291
Розанов Леонид Алексеевич (1874-1936), митрофорный протоиерей, в 1905 г. священник 41-го пехотного Селенгинского полка и 11-й пехотной дивизии (в г. Дубно Волынской губернии), служил в лейб-гвардии Егерском полку, в 1911 г. священник 16-го стрелкового полка (Одесса), участник Первой мировой войны (священник штаба 4-й стрелковой бригады) и Гражданской войны (священник Корниловской дивизии), впоследствии в эмиграции в Галлиполи (1921-1922), затем в Германии, умер в Берлине. — 283
Розов Константин Васильевич (1874-1923), архидиакон, клирик Успенского собора Московского Кремля. — 308-311, 399, 488
Роман Петрович Романов (1896-1978), великий князь, сын великого князя Петра Николаевича и великой княгини Милицы Николаевны, выпускник Николаевской инженерной академии, участник Первой мировой войны, после Октябрьского переворота в эмиграции в Италии, Египте. — 408, 498
Романовский Иван Павлович (1877-1920), генерал-лейтенант (1919), выпускник Николаевской академии Генштаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн, в Гражданскую войну начальник штаба ВСЮР, был непопулярен в Добровольческой армии, где его считали виновником поражений, в 1920 г. отстранен от должности, убит в Стамбуле бывшим сотрудником контрразведки Добровольческой армии. — 477, 502, 504, 505, 523, 524, 528, 530, 548-555, 557
Ронжин Сергей Александрович (1869-1929), генерал-лейтенант (1919), выпускник Николаевской академии Генштаба (1897), в Первую мировую войну начальник военных сообщений при Верховном главнокомандующем (с 1914), исполняющий должность главного начальника военных сообщений, с 1917 г. в резерве, участник Белого движения на юге России в рядах ВСЮР, в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. — 434, 443
Ростовцев Федор Иванович (1878-1933), генерал-майор (1917), в Р*усско-японскую войну старший адъютант штаба 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии в чине штабс-капитана, полковник (1912), участник Первой мировой войны, штаб-офицер для поручений при командующем 11-й армией (1915), командир 136-го пехотного Таганрогского полка (1916), начальник штаба 7-го армейского корпуса (1917), награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, участник Белого движения в составе ВСЮР, состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего (1919). в эмиграции во Франции, член учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже. — 207, 208
784
Рубинов Алексей Петрович, священник, выпускник Вологодской духовной семинарии и СПбДА (1903). — 115, 116
Рубинштейн Дмитрий Львович (1876-1936), купец 1-й гильдии, юрист (кандидат юридических наук), банкир, директор-распорядитель правления Русско-французского банка, банка «Юнкер», директор правления общества Петро-Марьевского и Варвароплесского объединения каменноугольных копей, страхового общества «Волга», владелец значительной части акций газеты «Новое время», был тесно связан с Распутиным, в 1916 г. по обвинению в пособничестве неприятелю выслан во Псков, но вскоре освобожден. — 441, 463
Рублевский Иоанн Михайлович (1871-?), священник 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны, награжден орденом Святой Анны 2-й степени с мечами и золотым наперсным крестом на георгиевской ленте. — 168, 169
Руженцова (урожд. Григорович) — жительница г. Витебска. — 21
Рузский Николай Владимирович (1854-1918), генерал от инфантерии, участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командовал 3-й армией Юго-Западного фронта, затем Северо-Западным фронтом и Северным фронтом, член Госсовета, в его ставке император Николай II подписал отречение от престола, с 1917 г. в отставке по болезни, убит большевиками в Пятигорске. — 351, 404, 422-425, 467
Румянцев Николай Кузьмич (1894-1977), полковник (1919), подполковник гренадерского полка, в Добровольческой армии в Корниловском ударном полку, первопоходник, во ВСЮР в 1-м Корниловском полку, с сентября 1919 г. помощник командира 3-го Корниловского полка, в Русской армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма, служил в Корниловском полку в Галлиполи, в эмиграции в Болгарии, организатор роты молодой смены имени генерала Кутепова при III отделе РОВС, в 1936 г. начальник Национальной организации русских разведчиков, воспитатель в русских гимназиях за рубежом, после 1945 г. жил в США. — 607, 608
Русев Иван Атанасов (1872-1945), генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900), участник государственного переворота 1923 г., министр внутренних дел Болгарии (1923-1926), депутат народного собрания в 1923-1934 гг. и в 1940-1944 гг., после прихода к власти в Болгарии коммунистов расстрелян. — 603
Русецкий Григорий Антонович (1875^1945), выпускник Минской духовной семинарии и СПбДА (1900), известный педагог, преподаватель русского и церковно-славянского языков, инспектор народных училищ Минской губернии, в 1906-1913 гг. временно возглавлял Пинскую женскую гимназию, затем директор Невельской учительской семинарии (впоследствии педагогический техникум), по крайней мере до 1925 г., создатель учительской библиотеки и Музея наглядных пособий в Пинске, погребен на Волковом кладбище Санкт-Петербурга. — 131, 132 Рыбаков Владимир Александрович (1869-1934), протоиерей, выпускник Самарской духовной семинарии и СПбДА (1911), священник с. Ивантеевка Самарской губернии (1894-1904), бесприходный священник в г. Николаевске (1904-1907), настоятель храма Спас-на-Водах в Санкт-Петербурге (1911-1914и 1917-1932), магистр богословия (1914), в Первую мировую войну священник штаба Верховного главнокомандующего, в советское время несколько раз арестовывался, в 1932-1933 гг. служил в Николо-Богоявленском морском соборе, в декабре 1933 г. арестован, после пыток и допросов приговорен к 5 годам ссылки, но в предсмертном состоянии помещен в больницу, где и умер 20 марта 1934 г. — 264, 369, 397, 398
785
Рыжков В.В., дядя жены протопресвитера Г.И. Шавельского. — 95 Рыжкова Мария Николаевна, тетка жены протопресвитера Г.И. Шавельского. — 88, 89
Рябовол Николай Степанович (1883-1919). казачий политик и общественный деятель, участник Первой мировой войны. 2-го Кубанского похода Добровольческой армии, председатель Кубанской войсковой и законодательной рады в 1917-1919 гг., убит в Екатеринодаре при невыясненных обстоятельствах. — 543, 545
Рябовол, есаул, брат Н.С. Рябовола. — 543
Рязанов Александр Алексеевич, флотский врач, эмигрант, преподаватель русской гимназии в Софии. — 579
Саблер (Десятовский) Владимир Карлович (1847-1929), действительный тайный советник, управляющий канцелярией Святейшего Синода (1883-1892). товарищ обер-прокурора Святейшего Синода (1892-1905), член Государственного Совета (1905-1917), обер-прокурор Святейшего Синода (1911-1915), в 1915 г. взял фамилию жены, после Октябрьской революции подвергался преследованиям, арестовывался, в 1926 г. сослан в Тверь, где и скончался. — 240, 264, 308, 329, 338, 341, 342, 386, 387, 395, 412, 414, 430, 431, 444, 536, 653
Саблин Николай Павлович (1880-1937), капитан 1-го ранга (1915). флигель-адъютант, участник Русско-японской войны, старший офицер яхты «Штандарт» (1911-1914), с 1915 г. командир Отдельного батальона Гвардейского экипажа, приближенный императора и императрицы, после Октябрьской революции эмигрировал, умер в Париже. — 243, 339, 406, 685
Савва Охридский, равноапостольный. — 592
Савва (Тихомиров Иван Михайлович, 1819-1896), архиепископ, выпускник МДА, доктор церковной истории (1894), с 1859 г. ректор Московской духовной семинарии, с 1861 г. ректор МДА, в 1862 г. рукоположен во епископа Можайского, викария Московской епархии, с 1866 г. епископ Полоцкий и Витебский, с 1874 г. епископ Харьковский, с 1879 г. епископ Тверской и Кашинский, с 1880 г. в сане архиепископа. — 139
Саввич, юрист, ревизовавший Ведомство путей сообщения. — 457
Савин Николай Иванович, корчмарь в с. Дубокрай. — 15, 18
Савицкий Иван, учащийся Витебской семинарии, регент студенческого хора (в списках выпускников такой студент не значится, есть Василий Савицкий, выпускник 1882 г.). — 48
Савицкий Ипполит Викторович (1863 — после 1922), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1891). начальник штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса (1910-1915), в Первую мировую войну на Кавказском фронте, с 1917 г. в Туркестане, участвовал в Ашхабадском восстании, в 1919 г. назначен генералом А.И. Деникиным командующим войсками Закаспийской области, в том же году отстранен от должности, в 1920 г. эмигрировал, жил в Болгарии. — 334
Савицкий Николай Калинникович (1871-1937), протоиерей, выпускник Витебской духовной семинарии (1892), служил в церкви с. Язно Невельского уезда (1892-1911), в Ильинской церкви г. Велиж (1911-1931), в Покровской кладбищенской церкви г. Велиж (с 1931), заведовал церковно-приходскими школами, был законоучителем Велижской мужской гимназии, расстрелян по приговору «тройки» УНКВД. — 84
Савицкий, инженер на Закаспийской железной дороге в 1911 г. — 336
Савич Никанор Васильевич (1869-1942), политический деятель, депутат Государственной Думы III и IV созывов, член фракции октябристов.
786
товарищ председателя Комиссии государственной обороны, участник Белого движения, в 1919 г. член Особого совещания при главнокомандующем ВСЮ? А.И. Деникине, в правительстве П.Н. Врангеля — государственный контролер, с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции. — 521
Савченко Даниил Наумович (1879-1944), учитель математики русской гимназии в Софии, с 1931 г. исполнял обязанности директора гимназии. — 575, 579, 580
Садов Александр Иванович (1850-1930), филолог, доктор богословия (1895), ординарный профессор СПбДА (до 1909), в 1921 г. преподавал в Харьковском педагогическом институте, в 1921г. был научным сотрудником Российской публичной библиотеки в Петрограде. — 144
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860-1927), российский государственный деятель, гофмейстер, выпускник Александровского лицея, с 1883 г. на дипломатической службе, с 1909 г. товарищ министра иностранных дел. в 1910-1916 гг. министр иностранных дел, с 1916 г. присутствующий член Государственного Совета, в 1918 г. входил в состав Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами юга России А.И. Деникине, в 1919 г. министр иностранных дел Всероссийского правительства А.В. Колчака, в эмиграции во Франции, умер в Ницце. — 337, 415, 416, 443, 457
Самарин Александр Дмитриевич (1868-1932), государственный, общественный и церковный деятель, московский предводитель дворянства (1907-1915), действительный статский советник, член Государственного Совета (1912-1917), обер-прокурор Святейшего Синода (июль-сентябрь 1915), сопредседатель Всероссийского общества Красного Креста (1915-1917), участник Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг., в 1918-1920 гг. председатель совета объединенных приходов Москвы. Неоднократно арестовывался, в 1925-1929 гг. находился в ссылке в Якутии, с 1929 г. жил в Костроме, был регентом церковного хора, в 1931 г. был вновь арестован, умер вскоре после освобождения. — 338, 430, 431, 446, 450
Самочернова Мария Васильевна (1845-?), урожденная Яшерова, двоюродная сестра композитора Балакирева, начальница Полоцкого женского духовного училища с 1889 г. в течение 22 лет, награждена Мариинским знаком отличия и золотой медалью на аннинской ленте. — 108
Самсонов Александр Васильевич (1859-1914), генерал от кавалерии. окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1884), участник Русско-турецкой и Русско-японской войн, с 1909 г. Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа и наказной атаман Семиреченского казачьего войска, в Первую мировую войну командующий 2-й армией Северо-Западного фронта, действовавшей в Восточной Пруссии и попавшей в окружение, при выходе из окружения отстал от своих спутников и застрелился. — 332, 333, 351, 363, 364, 416, 422
Санницкий Мечислав Петрович (около 1854-?), капитан, командир 3-й роты 33-го Восточно-Сибирского полка, участник Русско-японской войны. — 160
Сардаров, инженер, комендант поезда великого князя Николая Николаевича. — 354, 355
Саханский Сергей Петрович (1866-1918), генерал-майор (1913), командир гвардейского полевого жандармского эскадрона (с 1905) комендант Ставки Верховного главнокомандующего с 1914 г., в 1916 г. на той же должности. — 354
Сахаров Владимир Викторович (1853-1920), генерал от кавалерии, выпускник Николаевской академии Генштаба (1878), участник Рус-
787
ско-турецкой войны (старший адъютант штаба 16-й пехотной дивизии). Русско-японской войны (начальник полевого штаба Маньчжурской армии, затем начальник штаба главнокомандующего А.Н. Куропаткина), в Первую мировую войну командующий 11-м армейским корпусом, затем 11-й армией и Дунайской армией, помощник командующего армиями Румынского фронта короля Фердинанда (с 1916), георгиевский кавалер, расстрелян «зелеными» в Крыму. — 278
Сахаров Николай Васильевич (1859-1926), митрофорный протоиерей, в 1898-1899 гг. служил во Введенском соборе Семеновского полка, с 1911 г. священник Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге, участник Первой мировой войны, награжден золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, с 1922 г. в обновленческом расколе, где принял сан «епископа». — 251
Свербеев Сергей Николаевич (1857-1922), дипломат, тайный советник, камергер, последний посол Российской империи в Германии (1912-1914), после Октябрьской революции в эмиграции в Берлине. — 309
Свечин Алексей Алексеевич (1877-1933), капитан 1-го ранга, впоследствии контр-адмирал, приближенный великого князя Николая Николаевича, был женат на Ольге Григорьевне Чухниной (1882-1965), участник Белого движения в Добровольческой армии и ВСЮР, в эмиграции во Франции. — 499-501
Свечин Н.П., капитан 1-го ранга, флигель-адъютант — см. Саблин Н.П.
Свидерский Лука Федорович, выпускник Витебской духовной семинарии и СПбДА (1892), магистр богословия (1914), защитил магистерскую диссертацию «Иоанн Крассовский, Полоцкий униатский архиепископ», преподаватель Новгородской духовной семинарии (конец XIX в.), Донской духовной семинарии (в 1914). — 145
Свиньин, генерал-лейтенант, — фамилия неверна, см. Слёзкин А.М.
Селецкий Димитрий Александрович (1859 — после 1914), протоиерей, выпускник Могилевской духовной семинарии и СПбДА (1893), кандидат богословия, священник церкви Александра Невского в Красном Селе (1894), Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге (1903-1911), с 1911 г. священник церкви Архангела Михаила лейб-гвардии Московского полка. — 246, 247, 251, 252
Семен, сторож храма в с. Азарково. — 129
Семен Ш., священник с. Маклаково Витебской епархии. — 81
Сендецкий Василий Иванович (1838-1907), генерал-лейтенант (1902), герой Русско-турецкой войны (обороны Шипки), начальник 14-й пехотной дивизии в 1902-1904 гг., с 1904 г. член Александровского комитета о раненых. — 151
Серафим (Лукьянов Александр Иванович, 1879-1959), митрополит, с 1914 г. епископ Сердобольский, с 1917 г. временно управляющий Финляндской епархией, с 1918 г. епископ Финляндский и Выборгский, с 1920 г. архиепископ, с 1921 г. глава автономной Финляндской Церкви, в 1923 г. лишен кафедры финским правительством, в 1927-1945 гг. глава Западноевропейской епархии РПЦЗ, с 1945 г. под юрисдикцией Московского Патриархата, с 1946 г. в сане митрополита, в 1949 г. уволен на покой, на некоторое время вновь перешел под юрисдикцию РПЦЗ, с 1956 г. проживал в Гербовецком монастыре в Молдавии. — 590
Серафим (Мещеряков Яков Михайлович, 1860-1933), митрополит, в 1898 г. рукоположен во епископа Острожского, викария Волынской епархии, с 1902 г. епископ Полоцкий и Витебский, с 1911 г. архиепископ Иркутский и Верхоленский, с 1915 г. на покое, с 1922 г. архиепиекоп Кост-
788
ромской и Галичский, уклонился в обновленческий раскол, в 1924 г. принес покаяние, в 1925-1927 гг. находился в заключении на Соловках, с 1927 г. архиепископ Тамбовский, с 1928 г. архиепископ Ставропольский, с 1932 г. в сане митрополита. В 1933 г. расстрелян по приговору «тройки» ОГПУ. — 106, 116, 376. 377. 636. 649, 650, 670, 678, 683. 691
Серафим (Соболев Николай Борисович) (1881-1950), святитель, архиепископ, в 1920 г. рукоположен во епископа Лубенского, с 1921 г. епископ Богучарский, управляющий русскими приходами в Болгарии, с 1934 г. архиепископ, с 1946 г. под юрисдикцией Московского Патриархата, в 1937 г. удостоен ученой степени магистра богословия за сочинение «Новое зрение о Софии Премудрости Божией», направленного против учения протоиерея С. Булгакова, причислен к лику святых на Архиерейском Соборе РПЦ в феврале 2016 г. — 9, 393, 568, 584-592, 602, 629, 660, 682, 689, 690
Серафим (Чичагов Леонид Михайлович. 1856-1937), священномученик, митрополит, в 1890 г. оставил военную карьеру и в 1893 г. возведен в сан иерея, в 1898 г. принял монашество, в 1905 г. рукоположен во епископа Сухумского, с 1906 г. епископ Орловский и Севский, с 1908 г. Кишиневский и Хотинский, с 1912 г. в сане архиепископа, с 1914 г. архиепископ Тверской и Кашинский, с 1918 г. поставлен митрополитом Варшавским и Привисленским, но выехать к месту служения не смог, с 1928 г. митрополит Ленинградский, с 1933 г. на покое, в 1937 г. арестован, расстрелян по приговору «тройки» УНКВД СССР по Московской области, канонизирован Московским Патриархатом в 1997 г. — 446, 448, 453, 454, 677, 680
Серафим, иеромонах, эконом Ставропольской епархии. — 508, 681
Сергей Александрович Романов (1857-1905), великий князь, сын императора Александра II, генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны, с 1887 г. командир лейб-гвардии Преображенского полка, с 1891 г. Московский генерал-губернатор, с 1896 г. командующий Московским военным округом, создатель Императорского православного палестинского общества, убит террористом. — 312
Сергей Георгиевич Лейхтенбергский (1890-1974), герцог, князь Романовский, сын князя Георгия Максимилиановича (Е 1912) и черногорской княжны Анастасии Николаевны Негош, пасынок великого князя Николая Николаевича, капитан 2-го ранга, участник Первой мировой войны, после Октябрьского переворота эмигрировал, умер в Риме. — 271, 498, 499
Сергей Михайлович Романов (1869-1918), великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая I, генерал от артиллерии (1914), в 1915-1917 гг. полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем, убит большевиками в Алапаевске, канонизирован РПЦЗ. — 269, 272, 423, 428, 441, 442
Сергий (Лавров Алексей Петрович, 1878-1937), епископ, в 1913 г. рукоположен во епископа Салмасского в Урмии и назначен начальником Урмийской миссии, с 1916 г. епископ Соликамский, викарий Пермской епархии, в 1917-1918 гг. и в 1923-1927 гг. епископ Семиреченский, в 1918 г. отпал от православия, объявил себя принадлежащим Англиканской церкви, после раскаяния был воссоединен с Православной Церковью, в 1920 г. епископ Кубанский и Екатеринодарский. Дважды вступал в брак. В 1927 г. присоединился к обновленческому расколу, в 1929 г. снял сан, неоднократно арестовывался и ссылался, в 1934 г. сослан в Тобольск, где в 1937 г. расстрелян по приговору «тройки» УНКВД по Омской области. — 539
Сергий (Петров Степан Алексеевич, 1864-1935), архиепископ, в 1899 г. рукоположен во епископа Бийского, викария Томской епархии, с
789
1901 г. епископ Омский и Семипалатинский, с 1903 г. епископ Ковенский, викарий Литовской епархии, с 1907 г. епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии, с 1913 г. епископ Сухумский, с 1920 г. епископ Черноморский и Новороссийский, эмигрировал в Сербию, находился под юрисдикцией РПЦЗ. — 512, 536, 537
Сергий (Соболев Михаил Борисович) († 1948), иеромонах, впоследствии архимандрит, брат архиепископа Серафима (Соболева), окончил Рязанскую духовную семинарию, эмигрировал в Болгарию, архимандрит (1923), настоятель Ямбольского Спасского (Александро-Невского) монастыря (до 1936), настоятель Кокалянского монастыря Михаила Архангела, с 1945 г. в подчинении Московского Патриархата. — 568
Сергий (Сребрянский Митрофан Васильевич, 1870-1948), св. исповедник, архимандрит, с 1897 г. настоятель Покровского храма 51-го драгунского Черниговского полка в городе Орле, участник Русско-японской войны, с 1908 г. духовник Марфо-Мариинской обители милосердия, в 1919г. вместе с женой принял монашеский постриг, возведен в сан архимандрита. Неоднократно арестовывался и ссылался. Последние годы провел в с. Владычно Калининской (Тверской) области, причислен к лику святых Московским Патриархатом в 2000 г. — 340
Сергий (Страгородский Иван Николаевич, 1867-1944), Патриарх Московский и всея Руси. В 1899-1901 — инспектор СПбДА, в 1901-1905 гг. ректор СПбДА. В 1901 г. рукоположен во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1905 г. архиепископ Финляндский и Выборгский, с 1917 г. архиепископ (затем митрополит) Владимирский и Шуйский, в июне 1922 г. признал обновленческое ВЦУ. в чем раскаялся в 1923 г., с 1924 г. митрополит Нижегородский, с 1925 г. заместитель Патриаршего местоблюстителя, в 1927 г. издал «Декларацию» о лояльности советской власти, с 1934 г. Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский, с 1936 г. Патриарший местоблюститель, с 1943 г. Патриарх Московский и всея Руси. — 6, 112, 115-118, 125, 134, 137, 138, 143, 264, 446-448, 451, 453, 474, 475, 558, 588, 589, 613, 643, 649, 679, 689, 690
Сергий С., священник с. Прихабы Витебской епархии. — 87
Серебренников Виталий Степанович (1862-1942), философ, психолог, доктор богословия (1909). ординарный профессор по кафедре психологии СПбДА, преподавал также в Психоневрологическом институте, Училище правоведения. Институте физического образования имени Лесгафта, Географическом институте, в 1918 г. профессор Второго Петроградского университета, в 1919-1929 гг. профессор Петроградского (Ленинградского) университета, с 1934 г. жил в Вятке (Кирове), в 1937-1941 гг. работал в Городской библиотеке им. Герцена. — 121, 127
Серебренников Василий Константинович (1868-?), священник, писатель, выпускник КДА, преподаватель Закона Божия в Смольном институте. — 222
Серебренников Иван Константинович (1865 — не ранее 1930-х), генерал-майор (1912), выпускник Николаевской академии Генштаба (1893), командовал 7-м Финляндским стрелковым полком (1907-1912), участник Первой мировой войны, дежурный генерал штаба 5-й армии (1914-1915), начальник штаба 36-го армейского корпуса (1915-1917), начальник штаба Петроградского военного округа (1917), с 1918 г. служил в РККА, был инспектором военных учебных заведений, в 1920-1930-е гг. состоял штатным сотрудником ОПТУ. — 298
Серебренников Илья, священник храма в с. Баранова Витебской епархии. — 72, 82, 87
790
Серебренников Софроний, священник, в 1880-е гг. служил в с. Еленец Невельского уезда Витебской губернии. — 19
Серебренников Степан Софрониевич (1857-1937), священник, сын священника С. Серебренникова, однокашник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище, выпускник 1886 г., в 1930-е гг. проживал в с. Долгое Псковской области, расстрелян. — 19, 20
Середняков А., владелец магазина в Витебске. — 53
Сидорин Леонтий Леонтьевич (1852-1918), генерал от инфантерии (1914), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, герой Русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, участник Русско-японской (начальник штаба 8-го армейского корпуса, затем в распоряжении командующего Маньчжурской армией, затем начальник 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии) и Первой мировой войн (командир 5-го армейского корпуса в 1914). отрешен от должности, член Александровского комитета о раненых в 1915 г., расстрелян большевиками на Дону. — 315
Сидорина Наталья Антоновна, жена генерала Л.Л. Сидорина, в русско-японскую войну сестра милосердия. — 196, 315
Сильман, в 1912 г. командир экипажа Черноморского флота. — 684
Скабалланович Николай Афанасьевич (1848-1918), богослов и историк, выпускник СПбДА (1873) и профессор кафедры новой общей гражданской истории (с 1873), магистр богословия (1873), доктор богословия (1884), редактор «Церковного вестника» (1886-1892), с 1903 г. в отставке, но оставался внештатным профессором СПбДА, в 1917 г. переехал в Гродно, преподавал в гимназии. — 6, 121
Скалон Владимир Евстафьевич (1872-1917), генерал-майор, окончил Николаевскую академию Генштаба (1898), в Первую мировую войну на штабной работе, с ноября 1917 г. генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего, входил в состав группы военных экспертов при заключении Брестского мира, по приезде делегации в Брест-Литовск застрелился. — 483
Скворцов Василий Михайлович (1859-1932), церковный деятель, тайный советник, редактор журналов «Миссионерское обозрение» (1896-1917) и «Колокол» (1905-1917), в эмиграции в Югославии, в 1921 г. участвовал в Карловацком Соборе, преподавал в Сараевской духовной семинарии. — 507
Скворцов Иван Васильевич (1855-?), публицист, выпускник МДА, инспектор и помощник начальника гимназии принцессы Ольденбургской в Санкт-Петербурге, помощник редактора «Церковно-общественного вестника» (1880-1883), редактор «Еженедельного обозрения» и газеты «День» (1884-1892), редактор издательства журнала «Литературное обозрение и еженедельника «Отоголоски» (с 1895), автор статьи «В защиту белого духовенства» под псевдонимом И. Старов (СПб., 1881) по поводу книги Н. Елагина «Белое духовенство и его интересы». — 220
Скипетров Петр Иванович (1863-1918), священномученик, протоиерей, выпускник СПбДА (1890). кандидат богословия, служил в храмах Санкт-Петербурга, был законоучителем в детских приютах, смертельно ранен красноармейцами при захвате большевиками Александро-Невской лавры. — 468, 686, 687
Склифосовский Павел Тимофеевич (1854-1918), военный врач-хирург, доктор медицины (1882), тайный советник (1915), служил в Московском клиническом госпитале, в Николаевском военном госпитале, был врачом армейских корпусов, в Русско-японскую войну начальник санитарной части 2-й Маньчжурской армии, в Первую мировую войну заведовал двумя лазаретами в Петрограде. — 413
791
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882), выдающийся русский полководец, генерал от инфантерии (1881), герой Русско-турецкой войны и походов в Среднюю Азию. — 190, 227
Скоропадский Павел Петрович (1873-1945), генерал-лейтенант (1915), участник Русско-японской и Первой мировой войн, в 1918 г. гетман Украины, эмигрировал в Германию, погиб во время бомбардировки. — 495
Слёзкин Алексей Михайлович (1852-1919), генерал-лейтенант (1907), участник Русско-турецкой войны, Русско-японской войны (начальник 40-й армейской бригады, затем 10-го армейского корпуса), Первой мировой войны, начальник 9-й Сибирской стрелковой дивизии (1910-1915), с 1915 г, в отставке, умер от голода в Петрограде. — 313, 685
Словецкий Иван Федорович (1863-1915), протоиерей (1907), выпускник Витебской духовной семинарии (1885), священник собора в Себеже (1886-1899), затем священник и настоятель (с 1904) собора Рождества Богородицы в Режице (Резекене), уездный благочинный (с 1913), законоучитель в приходских училищах, Режицком ремесленном училище и других учебных заведениях, пользовался большим уважением и любовью паствы. — 59
Словцов Василий Федорович (1872 — после 1932), протоиерей, окончил СПбДА (1904), кандидат богословия, участник Русско-японской войны, в 1907 г. служил в соборе Александра Невского в Красном Селе, в 1918-1929 гг. в Белоруссии, в 1929-1931 гг. служил в Ленинградской области, в 1931-1932 гг. настоятель Моисеевской церкви на Пороховых в Ленинграде, неоднократно арестовывался, в 1932 г. осужден на 3 года ссылки в Северный край, дальнейшая судьба неизвестна. — 275
Слупский Николай, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, выпускник (1889), возможно, это священник Слупский Николай Козьмич, служивший в 1914 г. в Николаевской церкви с. Прихабы Себежского уезда. — 33
Смарагд (Крыжановский Александр Петрович, 1796-1863), архиепископ, выпускник СПбДА, в 1831 г. рукоположен во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1833 г. епископ Полоцкий и Витебский, с 1836 г. в сане архиепископа, с 1837 г. занимал Могилевскую, харьковскую, астраханскую, орловскую, рязанскую, тульскую кафедры, занимался воссоединением униатов, просвещением калмыцкого населения Астраханской епархии. — 216-218, 387, 388, 683, 684
Смарагд (Латышенко(в) Павел Антонович, 1885 — после 1935), бывший архимандрит, окончил СПбДА, был ректором Холмской духовной семинарии, выступал против автокефалистской политики митрополита Варшавского Георгия (Ярошевского), в 1923 г. застрелил его, был лишен сана и монашества, после освобождения из тюрьмы с 1935 г. жил в Чехии. — 321, 387
Смирнов Александр Васильевич (1857-1933), митрофорный протоиерей, выпускник КазДА, доктор богословия (1899), профессор Казанского университета, автор более 30 богословских и экзегетических сочинений, депутат IV Государственной Думы, профессор Петроградского университета в 1915-1917 гг., настоятель церкви Офицерской кавалерийской школы (1914-1917), присутствующий в Синоде в 1917 г., член Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. — 328, 475
Смирнов Георгий, священник в храме с. Дубровки Витебской епархии. — 93, 96
Смирнов Дмитрий Алексеевич (1881-1944), оперный певец, педагог, с 1904 г. солист Большого театра, с 1910 г. пел также в Мариинском
792
театре, с 1920 г. в эмиграции, преподавал пение в Афинской консерватории, в 1935-1937 гг. жил в Лондоне, в 1937-1939 гг. в Таллине, затем в Риге. — 577
Смирнов Петр Семенович (1861 — после 1917), историк Церкви, выпускник СПбДА, магистр богословия (1898), доктор богословия (1909), с 1894 по 1918 г. преподавал на кафедре истории и обличения русского раскола СПбДА, с 1910 г. ординарный профессор, в 1903-1911 гг. редактор журнала «Христианское чтение». — 121, 217, 218
Смирнов Сергей Константинович (1818-1889), протоиерей, доктор богословия (1873), выпускник МДА (1844), затем профессор МДА и ректор в 1878-1886 гг. — 114
Смирнов Сергей Николаевич (1877-1958), русский инженер, статский советник, выпускник Института путей сообщения, руководитель строительства храма Спаса-на-Водах в Санкт-Петербурге, действительный член Археологического института в Петрограде, председатель правления Петроградского стекольно-промышленного акционерного общества, после 1917 г. в эмиграции в Югославии, после Второй мировой войны переехал в Уругвай. — 262, 263
Соколов Василий Никифорович, псаломщик храма с Усмынь Велижского уезда Витебской губернии, в 1902-1907 гг. служил в Покровской церкви с. Топоры Невельского уезда. — 71, 72, 77
Соколов Дмитрий Павлович (1832-1915), протоиерей церкви Зимнего дворца, Маринского дворца, известный законоучитель, автор множества учебных пособий по Закону Божиему. — 481
Соколов Иван Павлович (1870-1921), историк, богослов, выпускник СПбДА, кандидат богословия (1894), магистр богословия (1907), с 1897 г. помощник инспектора СПбДА, с 1909 г. экстраординарный профессор СПбДА, после Октябрьской революции работал в Петроградской публичной библиотеке. — 121
Соколов Иоанн Николаевич (1861-1930), протоиерей, в 1910-1915 гг. настоятель Троицкого собора в Колпино под Санкт-Петербургом. — 253
Соколов Николай Дмитриевич (1870-1928), адвокат, присяжный поверенный, сын протоиерея Д.П. Соколова, в 1917 г. секретарь Петроградского совета, автор известного «Приказа №1», положившего начало разложению Русской армии, был членом предпарламента, членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по делам бывших царских министров, принадлежал к фракции большевиков, после 1917 г. внефракционный социалист, после Октябрьского переворота работал юрисконсультом Советского правительства, занимал должности в советских учреждениях. — 481
Соколов Павел Ильич, митрофорный протоиерей — см. Палладий, архиепископ.
Соколов, ветеринарный врач 33-го Восточно-Сибирского полка, участник русско-японской войны. — 164
Соколов, полковник, командир эскадрона в Николаевской академии Генштаба в 1902 г. — 148
Соколова, жена псаломщика с. Усмынь В.Н. Соколова. — 72
Соколовский Сергей Михайлович (1877-1934), протоиерей, в годы Первой мировой войны служил в 7-м Финляндском стрелковом полку, затем в русском корпусе на французско-германском фронте, совершил ряд подвигов, потерял руку, был награжден орденами Святого Георгия и Почетного Легиона, после революции остался во Франции, где признал обновленцев и вел агитацию в их пользу, незадолго до смерти перешел в униатство. — 297-299, 382
793
Сокольский Иоанн, петербургский архидиакон. — 399
Солженицына Наталья Дмитриевна (род. 1939), общественный деятель, вдова писателя Солженицына Александра Исаевича (1918-2008). — 12
Соллертинский Сергей Александрович (1846-1920), митрофорный протоиерей, богослов, выпускник СПбДА. магистр богословия (1893). доктор богословия (1899), в 1888 г. рукоположен во иерея, служил в Никольском морском соборе, профессор СПбДА, участвовал в работе Петербургского религиозно-философского общества. — 120, 122, 137, 139
Соломея, крестьянка с. Дубокрай. — 13
Соломон, Царь Израильский — 129
Сотко Иван Михайлович, псаломщик военно-гарнизонной Никольской церкви в г. Витебске. — 24, 25
Софиано Леонид Петрович (1820-1898), генерал от артиллерии (1887), начальник артиллерии Кавказского военного округа (1873-1881), участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., с 1881 г. товарищ генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича, член Государственного Совета с 1896 г. — 197
Спалайкович Мирослав Ианович (1869-1951), дипломат, доктор права (1897), сербский посланник в Петрограде в 1913-1919 гг., приближенный короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, в 1922-1935 гг. сербский посланник в Париже, во время Второй мировой войны на коллаборационистских позициях, умер в Париже. — 562
Спасский Василий Дмитриевич, протоиерей, в 1905 г. священник церкви Московской военной тюрьмы, затем священник лейб-гвардии драгунского Московского полка, благочинный 1-й кавалерийской дивизии. в 1914 г. награжден золотым наперсным крестом. — 291
Спасский Георгий Александрович (1877-1934), протоиерей, рукоположен в сан священника в 1903 г., главный священник Черноморского флота, в 1917-1920 гг. настоятель собора в Севастополе, с 1921 г. в эмиграции, служил в Александро-Невском храме в Париже, был членом епархиального совета Западноевропейской епархии. — 480, 560, 657
Спасский, секретарь Витебской духовной консистории. — 94
Сперанский Николай Александрович (около 1879-?), протодиакон (1916), служил диаконом с 1899 г. в церкви Мирона Мученика лейб-гвардии Егерского полка, в 1916-1917 г. был протодиаконом церкви Ставки Верховного главнокомандующего. — 369
Спиридон Просфорник (XII век), святой, монах Киево-Печерской Лавры, трудился в монастырской пекарне, мощи покоятся в Антониевых пещерах. — 44
Сребрянский Митрофан, протоиерей — см. Сергий (Сребрянский).
Ставицкий Петр Павлович (1871-1941), генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Первой мировой войн, эмигрировал, жил в Париже, сотрудничал в «Артиллерийском журнале» (1930). преподавал на Высших военно-научных курсах генерала Н.Н. Головина, член Учебного комитета курсов, представитель Союза офицеров участников войны в Комитете по колонизации, член исполнительного бюро Комитета, с 1935 г. — член Союза ревнителей памяти императора Николая II. — 591
Ставровский Алексей Андреевич (1834-1918), священномученик, митрофорный протоиерей, окончил СПбДА, кандидат богословия, служил в храмах военного ведомства, с 1892 г. благочинный Санкт-Петербургских и Новгородских церквей военного ведомства, с 1896 г. настоятель собора Святителя Спиридона Тримифунтского при Адмиралтействе, благочинный Санкт-Петербургских морских церквей, расстрелян
794
большевиками как заложник после убийства М. Урицкого, по преданию, пошел на смерть вместо молодого священника — 214, 234, 239, 240, 243, 260
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953), революционер, советский политический деятель. С 1917 г. нарком по делам национальностей, с 1922 г. генеральный секретарь ЦК ВКП(б). С 1941 г. председатель СНК СССР. — 690
Стеллецкий Борис Семенович (1872-1939), полковник Генерального штаба, генерал-хорунжий, окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1901), участник Первой мировой войны, штаб-офицер для поручений при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта (1915), в 1918 г. при Скоропадском начальник штаба армии, в эмиграции в Югославии. — 418, 424, 459
Стенбок-Фермор Александр Владимирович (1878-1945), граф, владелец имения Лахта, поручик Приморского драгунского полка, участник Русско-японской войны и Первой мировой войны, в 1905 г. в Маньчжурии священник Г.И. Шавельский обвенчал его с Ольгой Платоновной Ножиковой, дамой полусвета, что вызвало возмущение родственников графа, впоследствии супруги жили в Париже, их брак распался. граф разорился, жил в Париже, работал таксистом, затем чиновником по выдаче разрешений на право управления легковыми машинами. — 166, 167
Степанковский, врач, участник Русско-японской войны. — 197
Стефан (Архангельский Николай Павлович. 1861-1914), архиепископ, доктор богословия (1912), рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии в 1902 г., с 1904 г. епископ Могилевский и Мстиславский, с 1911 г. архиепископ Курский и Обоянский. — 596
Стефан (Твердынский Сергей), иеромонах, выпускник СПбДА (1900), кандидат богословия, умер в начале 1900-х гг. — 671
Стефан (Шоков Стоян Попгеоргиев, 1878-1957), митрополит, выпускник КДА (1904), доктор богословия (1919), в 1921 г. рукоположен во епископа Маркианопольского, с 1922 г. митрополит Софийский, экзарх Болгарии в 1945-1948 гг., с 1948 г. на покое. — 7, 489, 562, 569-571, 586, 592, 602, 608-620, 623-629, 660-666, 687, 691
Стефанов Анатолий Павлович (1863-1932), педагог, действительный статский советник, выпускник Санкт-Петербургского историко-филологического института, преподавал в Павлоградской Бердянской и 1-й Кишиневской гимназиях, в 1903 г. директор Аккерманской гимназии, в 1903-1907 гг. — 3-й Одесской гимназии, с 1907 г. председатель педагогического совета Мариинской гимназии, с 1909 г. возглавлял Педагогические курсы для подготовки учителей средней школы при Одесском учебном округе, в эмиграции в Болгарии, до 1931 г. директор русской гимназии в Софии. — 569, 572-574, 578, 580
Стефанова, супруга А.П. Стефанова. — 573
Стешенко Константин Константинович (1878-1938), протоиерей, член Собора 1917-1918 гг. от военного и морского духовенства, с 1906 г. священник Серафимовской церкви в дачном поселке Пуща-Водица под Киевом, затем священник штаба снабжения армии Юго-Западного фронта, с 1918 по 1931 г. служил в Киеве, Троицкой Лыбедской церкви, в 1931-1934 гг. в заключении, с 1934 г. служил в г. Нежине Черниговской области, расстрелян. — 480, 495, 496
Стоименов Борис, чиновник Священного Синода БПЦ. — 615, 665
Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911), выдающийся государственный деятель, Гродненский губернатор (1902), Саратовский губернатор (1903-1905), председатель Совета министров, министр внутренних
795
дел России, гофмейстер, статс-секретарь (1906-1911), погиб от ранения, нанесенного террористом в театре в Киеве. — 155, 281, 282, 418
Стратонович А.Н., капитан 2-го ранга, командир канонерской лодки «Сивуч», герой Русско-японской войны, посмертно капитан 1-го ранга. — 169
Строганов Константин Степанович, архитектор, ктитор Суворовской церкви в Санкт-Петербурге. — 137
Стукалич Иосиф (Юзя), одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище (в списках выпускников не числится). — 27
Суворов Александр Васильевич (1730-1800), великий русский полководец, генералиссимус. — 137, 241, 412, 413, 671, 672
Судаков Алексей Якимович, московский ресторатор, владелец ресторана «Яр» и других заведений, из крестьян Ярославской губернии, ктитор и староста церквей, друг Г.И. Шавельского, после Октябрьской революции арестован, дальнейшая судьба неизвестна. — 279, 305
Судаков Анатолий Семенович, товарищ Г.И. Шавельского по СПбДА, выпускник 1902 г., помощник инспектора Петербургской духовной семинарии в 1909 г. — 132, 150
Сулькевич († 1904), капитан лейб-гвардии Саперного батальона 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, смертельно ранен в Ляоянском сражении. — 673
Сурский И.К., псевдоним, — см. Илляшевич Яков Валерианович.
Сусанна Ивановна, сестра милосердия, участница Русско-японской войны. — 165
Суханов Павел Иванович, до 1892 г. учитель народного училища в с. Усмынь Витебской губернии. — 75-77, 668
Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926), генерал от кавалерии, с 1908 г. начальник Генерального штаба, в 1909-1915 гг. военный министр, снят с должности и судим за измену и злоупотребления, хотя эти обвинения не подтвердились, был приговорен к пожизненной каторге за слабую подготовку армии к Первой мировой войне, в 1918 г. освобожден по амнистии, эмигрировал в Финляндию, затем переехал в Германию. — 148, 236, 248, 261, 291, 296, 333, 340, 395, 414, 426, 428, 430, 431, 472
Сухотин Николай Николаевич (1847-1918), генерал от кавалерии (1906), выпускник Николаевской академии Генштаба, участник Русско-турецкой войны, начальник Николаевской академии Генштаба в 1898-1901 гг., с апреля 1901 г. генерал-губернатор Степного края, командующий войсками Сибирского военного округа и войсковой наказной атаман Сибирского казачьего войска, член Государственного Совета с 1906 г. — 51, 137, 138, 146, 180, 352, 353, 671, 675
Танеев Александр Сергеевич (1850-1918), государственный деятель, отец А.А. Вырубовой, статс-секретарь, обер-гофмейстер императорского двора, камергер, в 1896-1917 гг., главноуправляющий собственной канцелярией Его Императорского Величества, член Государственного Совета, почетный член Императорской академии наук. — 340
Татищев Илья Леонидович (1859-1918), граф, генерал-адъютант свиты императора Николая II (1905), генерал-лейтенант, в 1905-1914 гг. состоял в свите при императоре Вильгельме II как представитель российского высочайшего двора, в 1918 г. расстрелян большевиками. — 309
Твердый Доримидонт Георгиевич (1847-1923), протоиерей, в 1873-1880 гг. священник 54-го пехотного Минского полка, участник Русско-турецкой войны, в 1880-1884 гг. священник лейб-гвардии 4^го стрелкового Императорской фамилии батальона, в 1884-1919 гг. служил
796
в Адмиралтейском соборе г. Николаева, с 1905 г. был настоятелем этого собора, участник Русско-японской войны, участник Первого Всероссийского съезда представителей военного и морского духовенства (1-10 июля 1914) от Черноморского флота, с 1920 г. в эмиграции в Галлиполи, с 1922 г. — в Греции, умер на о. Халки. — 348, 561
Темников, полковник Генерального штаба, участник Белого движения, в 1920 г. комендант г. Новороссийска. — 549, 552, 553
Тервинский Николай Константинович, протодиакон церкви Кавалергардского полка. — 236
Терентьев Николай Михайлович, полковник, заведующий хозяйством Академии Генштаба. — 149
Терещенко Иван Никифорович, член Кубанского епархиального совета и Екатеринодарского окружного суда, секретарь ЮВРЦС. — 681
Тимофеев Василий Тихонович (1878-1952), протопресвитер, окончил СПбДА, кандидат богословия, действительный член Санкт-Петербургского археологического общества, выехал в Великобританию, где служил псаломщиком, затем священником, впоследствии проживал в Париже, находясь под юрисдикцией РПЦЗ, с 1943 г. в сане протопресвитера, в 1945 г. перешел под юрисдикцию Московского Патриархата, с 1949 г. под юрисдикцией Константинопольского Патриархата. — 569
Тимофей Прохорович, крестьянин с. Азарково Витебской губернии. — 102
Титлинов Борис Васильевич (1879 — после 1944), профессор СПбДА, доктор церковной истории (1916), с 1917 г. редактор «Церковного вестника», уклонился в обновленческий раскол, участвовал в обновленческих соборах 1923 и 1925 гг., подвергался арестам, в годы Второй мировой войны проживал в г. Луге, Риге, откуда ушел в Европу вместе с германскими войсками, дальнейшая судьба неизвестна. — 474
Титов Федор Иванович (1864-1953), протоиерей, профессор КДА по кафедре русской истории, редактор «Киевских епархиальных ведомостей». в эмиграции преподавал на богословском факультете Белградского университета. — 219, 390
Тихвинский Константин Стефанович (1866-?), выпускник Тверской духовной семинарии, священник Воздвиженской церкви 8-го Гренадерского полка в Москве в начале XX века (по крайней мере, в 1905-1911 гг.). — 291
Тихомиров Петр Александрович, псаломщик при главном священнике 1-й Маньчжурской армии во время Русско-японской войны, в 1904 г. награжден нагрудной серебряной медалью с надписью; «За усердие» на Станиславской ленте. — 184, 187
Тихомиров Федор, священник церкви в с. Хвошно. — 63-66, 68, 78, 87
Тихомирова Евдокия Васильевна (1866-?), урожденная Еленевская, жена священника Ф. Тихомирова. — 63-65
Тихон (Беллавин Василий Иванович, 1865-1925), святитель. Патриарх Московский и всея России, в 1897 г. рукоположен во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии, с 1898 г. епископ Алеутский и Аляскинский, с 1900 г, епископ Алеутский и Северо-Американский. с 1905 г. в сане архиепископа, с 1907 г. архиепископ Ярославский и Ростовский, с 1913 г. архиепископ Литовский и Виленский, с 1917 г. митрополит Московский и Коломенский, с 1917 г. Патриарх Московский и всея России. — 7, 8, 69, 215, 382, 385, 446-448, 451, 453, 474, 484, 487, 488, 490, 585, 688
Тихон (Лященко Тимофей Иванович, 1875-1945), архиепископ
797
РПЦЗ, выпускник (1909) и затем преподаватель (доцент, профессор, инспектор) КДА, магистр богословия (1913), с 1919 г. в эмиграции, в 1919-1921 гг. настоятель храма Николая Мирликийского в Софии, с 1924 г. епископ Берлинский, викарий Западноевропейской епархии, с 1926 г. епископ Берлинский и Германский, с 1938 г. на покое. — 566, 568, 583, 590, 689
Тихон (Троицкий-Донебин Михаил Михайлович, 1831-1911), архиепископ, выпускник СПбДА, кандидат богословия (1861), преподаватель Новгородской семинарии (1863-1871), ректор Кавказской духовной семинарии, в 1882 г. рукоположен во епископа Сарапульского, викария Вятской епархии, с 1886 г. епископ Енисейский и Красноярский, с 1892 г. архиепископ Иркутский и Нерчинский. — 9, 208
Тихонов Михаил Андреевич, подпоручик 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, брат Н.А. Тихонова, участник Русско-японской войны, в 1909 г. числился в том же полку в чине поручика, участник Первой мировой войны, в 1915 г. в чине штабс-капитана, контужен. — 174, 287
Тихонов Николай Андреевич, штабс-капитан 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участник Русско-японской войны, брат М.А. Тихонова, награжден орденом Станислава 3-й степени с бантом и мечами (1905), в 1909 г. капитан 154-го Дербентского полка, в 1916 г. в чине подполковника, контужен. — 287
Толстая, классная дама Смольного института. — 222
Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889), граф, государственный деятель, с 1865 г. обер-прокурор Святейшего Синода, с 1866 г. одновременно министр народного просвещения, с 1880 г. член Государственного Совета, с 1882 г. министр внутренних дел. — 632
Трепов Александр Федорович (1862-1928), государственный деятель, камергер (1900), егермейстер двора (1905), с 1914 г. член Государственного Совета, с 1915 г. член Особого совещания по обороне, с 30 октября 1915 г. управляющий Министерством путей сообщения, затем министр путей сообщения, в ноябре-декабре 1916 г. председатель Совета министров, в 1918-1919 гг. находился в Гельсингфорсе, где возглавлял Особый комитет по делам русских в Финляндии, в эмиграции был одним из лидеров монархического движения, умер в Ницце. — 443, 457, 684
Трепов Федор Федорович (1854-1938), генерал от кавалерии (1908), участник Русско-японской войны, был губернатором в Вятской (1894-1896), Волынской (1896-1898), Киевской (1898-1903) губерниях, в 1908-1914 гг. Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор, с 1916 г. временный генерал-губернатор областей Австро-Венгрии, занятых Русской армией, с 1917 г. в отставке, эмигрировал во Францию. — 280
Трещинская Казимира Антоновна, помещица Лепельского уезда Витебской губернии. — 90, 93, 95, 96, 669
Трифон (Туркестанов Борис Петрович, 1861-1934), князь, митрополит (1931), выпускник МДА (1895), духовный сын Амвросия Оптинского, автор благодарственного акафиста «Слава Богу за все», ректор Вифанской (1897-1899) и Московской (1899-1901) духовных семинарий в сане архимандрита, митрополит (1931), в 1901 г. рукоположен во епископа Дмитровского викария Московской епархии, в Первую мировую войну исполнял обязанности военного священника на фронте, с 1916 г. на покое, до 1918 г. проживал в Новоиерусалимском монастыре, затем в Москве, с 1923 г, в сане архиепископа, с 1931 г. в сане митрополита. — 9, 380, 686
Троицкая Александра Петровна, дочь священника с. Лёхово П. Троицкого. — 62, 63
798
Троицкая Анна Ивановна, жена священника с. Лёхово П. Троицкого. — 62
Троицкая Варвара Петровна, дочь священника с. Лёхово П. Троицкого. — 62, 63
Троицкая Ольга Петровна (1870-?), дочь священника с. Лёхово П. Троицкого. — 62, 63
Троицкая Софья Петровна, дочь священника с. Лёхово П. Троицкого. — 62, 63
Троицкий Евгений, студент Витебской духовной семинарии, однокашник Г.И. Шавельского (вероятнее всего, имя указано неточно: в списке выпускников семинарии такой студент не значится). — 48
Троицкий Иван Егорович (1832-1901), церковный историк, окончил СПбДА, доктор богословия (1875), с 1861 г. преподавал на кафедре греческого языка, с 1863 г. на кафедре общей церковной истории, с 1884 г. на кафедре истории и разбора западных исповеданий, читал лекции по истории в Санкт-Петербургском университете, состоял членом Императорского Палестинского общества. Комиссии по старокатолическому вопросу, с 1899 г. в отставке. — 118
Троицкий Михаил Петрович (1872-?), сын священника П. Троицкого (из с. Лёхово), выпускник (1890) и преподаватель Витебской духовной семинарии. — 62, 667
Троицкий Петр Васильевич, протоиерей (1906), был настоятелем в Преображенском всей гвардии соборе в Санкт-Петербурге, в 1902-1906 гг. священник Александро-Невской церкви лейб-гвардии Павловского полка, в 1906-1907 гг. служил в церкви Косьмы и Дамиана Саперного батальона. — 260
Троицкий Петр, священник с. Лёхово Витебской епархии. — 61, 62, 63
Троицкий Сергей, протоиерей, в 1914 г. настоятель Киевского военного собора. — 348, 496
Троицкий Сергей Викторович (1878-1972), историк и канонист, выпускник СПбДА (1901), преподавал каноническое право в Санкт- Петербурге, в Новороссийске, в 1920 г. эмигрировал, проживал в основном в Югославии, преподавал в Свято-Сергиевском институте в Париже, в Белградском и Субботицком университетах, юрисконсульт Сербской Православной Церкви, доктор церковного права (1961). — 678
Троцкий Лев Давидович (Бронштейн Лейба Давидович) (1879-1940). революционер, советский государственный деятель, один из организаторов Октябрьского переворота, в первом советском правительстве был наркомом по иностранным делам, в 1918-1925 гг. — наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета РСФСР, затем СССР, с 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции, член Политбюро ВКП(б) в 1919-1926 гг., в 1927 г. снят со всех постов. отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан из СССР, жил в Мексике, в 1940 г. смертельно ранен агентом НКВД. — 702
Трубецкой Григорий Николаевич (1874-1930), князь, государственный и церковный деятель, окончил Московский университет, в 1896-1906 гг. находился на дипломатической работе в Вене, Берлине и Стамбуле, в 1912-1915 гг. посланник в Сербии, участвовал во Всероссийском Церковном Соборе 1917-1918 гг., с 1920 г. в эмиграции, жил в Австрии и Франции, участвовал в работе РСХД, организатор Сергиевского подворья в Париже и Свято-Сергиевского богословского института. — 484
Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920), князь, правовед, общественный деятель, доктор философии (1897), профессор в Киевском (1897-1906) и Московском (1906-1918) университетах, в годы Граждан-
799
ской войны находился в Добровольческой армии Деникина, умер в Новороссийске. — 507, 513, 516
Трубецкой Юрий Иванович (1866-1926), князь, генерал-лейтенант (1914), генерал от кавалерии (1917?), участник Русско-японской войны, командир Собственного Его Величества конвоя (1906-1914), во время Первой мировой войны командир 2-й кавалерийской дивизии и Особого конного отряда, после Октябрьской революции выехал на Украину и до конца 1918 г. жил в Яссах, в эмиграции во Франции. — 240
Трухачев Сергей Михайлович (1879-1942), генерал-майор (1918), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1906), в Первую мировую войну штаб-офицер для поручений в управлении дежурного генерала при Верховном главнокомандующем, с конца 1916 г. командовал 16-м гренадерским Менгрельским полком, участвовал в Белом движении (был дежурным генералом при штабах Добровольческой армии, ВСЮР, Русской армии генерала Врангеля), в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, затем во Франции. — 403, 519
Туган-Барановский Лев Степанович (1880 — не ранее 1917), полковник Генерального штаба, окончил Николаевскую академию Генштаба (1908), в 1915-1917 гг. помощник начальника отделения Главного управления Генерального штаба, в мае-июне 1917 г, исполняющий должность начальника канцелярии военного министерства и председатель исполнительной комиссии при военном министре. — 476
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), русский писатель, классик. — 38
Туркевич Венедикт Иеронимович (1873-1928), протоиерей, брат предстоятеля Американской Церкви митрополита Леонтия, окончил МДА, служил на приходах в США, в 1914 г. вернулся в Россию, был священником при штабе генерал-губернатора Галиции, после октябрьского переворота 1917 г. жил в Польше. — 388
Туркевич Илларион Иеронимович (1878-1904), сокурсник Г.И. Шавельского по СПбДА, впоследствии миссионер в Китае. — 117
Турчанинов Петр Иванович (1779-1856), протоиерей, композитор духовной музыки. — 437
Тышкевич Стефан (1887-1962), граф, муж Елены Георгиевны Лейхтенбергской, дочери великой княгини Анастасии Николаевны, председатель Русско-польского общества в Варшаве. — 498
Тютчев Иван Федорович (1846-1909), сын поэта Ф.И. Тютчева, общественный деятель, член Государственного Совета (с 1907 г.). — 680
Тютчева Софья Ивановна (1870-1957), внучка поэта Ф.И. Тютчева, с 1897 г. фрейлина, в 1911-1912 гг. воспитательница дочерей царя Николая II, пыталась бороться с влиянием Распутина, вследствие чего была вынуждена оставить должность при дворе. — 340, 430, 462, 677, 680
Тюшняков Василий Константинович (1871-1938). протоиерей, участник Русско-японской войны (священник 7-го сибирского Красноярского полка), клирик и законоучитель Енисейской епархии, в 1913 г. священник 6-го сибирского Красноярского полка, член Всероссийского Собора 1917-1918 гг., председатель Енисейского епархиального совета, в конце 1920-х и в 1930-е гг. работал на фабрике, бухгалтером в больнице, расстрелян по приговору «тройки» УНКВД по Красноярскому краю. — 318
Уберский Иван Алексеевич, секретарь совета СПбДА (с конца 1890-х гг.), выпускник 1894 г., кандидат богословия, в 1900-х гг. сотрудник «Церковного вестника». — 218
Удимов Дмитрий Иванович (1876-1952). протоиерей, выпускник СПбДА (1905), кандидат богословия, в 1906-1907 гг. священник крейсера «Князь Пожарский», с 1907 г. священник броненосца «Цесаревич», затем
800
законоучитель Санкт-Петербургского морского корпуса, с 1911 по 1922 г. настоятель церкви Святого Павла Исповедника при Морском корпусе, в 1920-1924 гг. работал делопроизводителем и ученым секретарем в Морской академии, с 1925 г. в ссылке в Соликамске, работал фотографом, затем сотрудником Соликамского краеведческого музея, в 1938-1939 гг. находился под арестом, оправдан, в 1942-1951 гг. директор музея, автор исследований по истории Соликамска и Верхнекамья. — 328
Урусова, княжна, в Русско-японскую войну сестра милосердия, вероятно, Урусова Зинаида Николаевна (1885-1961). в замужестве Шкот, сестра милосердия, награждена Георгиевским крестом, тремя Георгиевскими медалями, в эмиграции во Франции; либо (менее вероятно) ее младшая сестра Урусова Ирина Николаевна (1887-1973). в замужестве Грабовская, в эмиграции также жившая во Франции. — 197
Фаддей, церковный староста храма в с. Дубокрай. — 13
Фаррар Фредерик Вильям (1831-1903), английский духовный писатель. профессор Кембриджского университета, автор книги «Жизнь Иисуса Христа». — 34
Федор А-ч († 1891). дед протопресвитера Г.И. Шавельского по материнской линии, псаломщик, учитель. — 16
Федоренко Василий Тимофеевич (1871-1919), генерал-майор Генштаба (1916), выпускник Николаевской академии Генштаба (1903). редактор газеты «Виленский военный листок», участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер (1917), командир 6-го Туркестанского полка, начальник штаба 28-й пехотной дивизии, 20-го пехотного корпуса, в 1918 г. в армии Украинской державы (генерал-хорунжий). Участник Белого движения, расстрелян в Одессе коммунистами. — 151-153
Федоров Михаил Михайлович (1859-1949), государственный и общественный деятель, действительный статский советник (1899), окончил Санкт-Петербургский университет, с 1882 г. в Министерстве внутренних дел. затем в Министерстве финансов, с 1903 г. управляющий отделом торговли и промышленности Министерства финансов, с ноября 1905 г. товарищ министра торговли и промышленности, в феврале-мае 1906 г. управляющий Министерством торговли и промышленности, участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, жил во Франции. — 504
Федоров Сергей Петрович (1869-1936), хирург, профессор, окончил медицинский факультет Московского университета, с 1903 г. возглавлял кафедру госпитальной хирургической клиники Военно-медицинской академии, с 1913 г. лейб-медик, находился при императоре и наследнике, в 1929-1936 гг. директор Института хирургической невропатологии. — 411, 419, 420, 421, 434, 442, 458, 467
Федосья, прислуга Шавельских в с. Дубокрай. — 15
Фекла Давыдовна (1801-?), бабушка протопресвитера Г.И. Шавельского по материнской линии. — 12
Фельдман Л.Е., эмигрант, заведующий хозяйственной частью русской гимназии в Софии, главный уполномоченный русского Красного Креста в Болгарии. — 580
Феогност (Лебедев Георгий Иванович, 1829-1903), митрополит, в 1867 г. рукоположен во епископа Балтского. викария Подольской епархии. с 1870 г. епископ Астраханский и Енотаевский. с 1874 г. епископ Подольский и Брацлавский, с 1878 г. епископ Владимирский и Суздальский, с 1883 г. в сане архиепископа, с 1892 г. — архиепископ Новгородский и Старорусский, с 1900 г. митрополит Киевский и Галицкий. — 633
Феодор Ж., священник церкви в с. Ильино Витебской епархии. — 82, 87
801
Феодор (Лебедев Федор, 1872-1919), епископ, выпускник КазДА (1904), в 1908-1911 гг. ректор Астраханской духовной семинарии в сане архимандрита, в 1911 г. рукоположен во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, с 1916 г. епископ Старобельский, викарий Харьковской епархии, в 1917 г. епископ Прилуцкий, в 1917-1918 гг. временно управляющий Пензенской епархией. — 538
Феодор Кузьмич († 1864), святой праведный, проживал у разных лиц в Сибири, почитался как прозорливый старец, последние годы жил под Томском. Существует предание, что под именем старца Феодора Кузьмича скрывался император Александр I. — 319, 320
Феодора Александрийская (V в.), преподобная. — 689
Феодорит Кирский (ок. 393 — ок. 457), епископ, блаженный, богослов, историк Церкви — 118, 119, 123
Феодосий (Мельник Федор Ефимович, 1891-1957), архимандрит, участник Первой мировой войны, послушник Киево-Печерской лавры, келейник митрополита Антония (Храповицкого), в годы Гражданской войны эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1921 г. был пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха, с 1932 г. архимандрит, в 1940 г. перешел в Сербскую Православную Церковь. до 1957 г. настоятель Дечанского монастыря. — 541
Феофан (Быстров Василий Дмитриевич, 1873-1940), архиепископ, выпускник (1896), затем преподаватель (с 1897 г.), инспектор (с 1905 г.) и ректор (1909) СПбДА, магистр богословия (1905), в 1909 г. рукоположен во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1910 г. епископ Таврический и Симферопольский, с 1912 г. епископ Астраханский, с 1913 г. епископ Полтавский и Переяславский, с 1918 г. в сане архиепископа, с 1919 г. в эмиграции, проживал в Болгарии, участник Церковного Собора в Сремских Карловцах в 1921 г., затем отошел от церковно-административной деятельности, с 1931 г. проживал во Франции. — 6, 116. 117, 121, 138, 409, 462, 463, 670
Феофан (Гаврилов Федор Георгиевич. 1872-1943), архиепископ, в 1913 г. рукоположен во епископа Рыльского, викария Курской епархии, с 1917 г. епископ Курский и Обоянский, с 1919 г. в эмиграции, проживал в Югославии. Был хранителем Курской Коренной иконы Божией Матери. — 538
Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич) (1815-1891), святитель. — 690
Феофилакт (Клементьев Феодор Игнатьевич, 1870-1923), епископ, в 1911 г. рукоположен во епископа Таганрогского, викария Екатеринославской епархии, с 1913 г. епископ Слуцкий, викарий Минской епархии. с 1918 г. епископ Елисаветпольский Кавказского экзархата, с 1919 г. епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии, с 1922 г. в обновленческом расколе. — 512
Фердинанд Виктор Мейнард Альберт (1865-1927), король Румынии в 1914-1927 гг. — 686
Фердинанд I (1861-1948), царь Болгарии, сын принца Августа Саксен-Кобург-Готского и принцессы Марии Клементины Орлеанской, дочери короля Луи Филиппа, с 1887 г. князь Болгарии с правом наследования, в 1908 г. провозглашен царем, в 1918 г. отрекся от престола в пользу сына Бориса. — 197
Филарет (Амфитеатров Феодор Георгиевич. 1779-1857), в схиме Феодосий. святитель, митрополит, в 1819 г. рукоположен во епископа Калужского и Боровского, с 1825 г. епископ Рязанский и Зарайский, с 1826 г. в сане архиепископа, с 1828 г. архиепископ Казанский и Симбирский, с 1837 г. митрополит Киевский и Галицкий. —195
802
Филарет (Атанасов Атанас Панайотов, 1903-1960), митрополит Ловчанский (Ловечский) Болгарской Православной Церкви с 1939 г., выпускник богословского факультета Софийского университета (1928), в 1938 г. хиротонисан во епископа Знепольского, викария митрополита Софийского, с 1939г. митрополит Ловчанский, в 1941-1945 гг. временно управлял Битольско-Охридской епархией. — 628
Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1782-1867), святитель, крупный богослов, митрополит Московский и Коломенский, ординарный академик Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности (1841), академик, в 1817 г. рукоположен во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии, с 1819 г. архиепископ Тверской, с 1820 г. архиепископ Ярославский и Ростовский, с 1821 г. архиепископ Московский, с 1826 г. в сане митрополита. — 110, 195, 240, 366, 456, 675, 690
Филипп (Гумилевский Сергей Николаевич, 1877-1936), архиепископ. В 1920 г. рукоположен во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. С 1927 г. архиепископ Звенигородский, член Временного Патриаршего Синода при митрополите Сергии (Страгородском). С 1936 г. архиепископ Владимирский. Неоднократно арестовывался, умер в тюрьме. — 690
Филоненко Феодор Дмитриевич (1869 — после 1933), протоиерей, окончил Воронежскую духовную семинарию, служил в Подольской губернии, с 1912 г. член Государственной Думы IV созыва, где принадлежал к фракции националистов, с весны 1917 г. член Святейшего Синода, член Священного Собора РПЦ в 1917-1918 гг., в 1917г. один из организаторов Союза демократического духовенства и мирян, но к обновленцам не примкнул, служил в Петрограде, до 1928 г. неоднократно арестовывался, в 1930-е годы служил в храмах Ленинграда, дальнейшая судьба неизвестна. — 475
Фирсов Виктор Васильевич (1870-1941), генерал-майор (1916), выпускник Николаевской академии Генштаба (1899). участник Первой мировой войны, командовал полком, дивизией, был начальником штаба корпуса, участник Белого движения в Добровольческой армии и ВСЮР, в 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. — 529
Флавиан (Городецкий Николай Николаевич. 1840-1915), митрополит, с 1879 г. начальник Пекинской духовной миссии, в 1885 г. рукоположен во епископа Аксайского, викария Донской епархии, в том же году назначен епископом Люблинским, викарием Варшавско-Холмской епархии, с 1891 г. епископ Холмский и Варшавский, с 1892 г. в сане архиепископа. с 1898 г. архиепископ Карталинский и Кахетинский — экзарх Грузии, с 1901 г. —Харьковский и Ахтырский, с 1903 г. митрополит Киевский и Галицкий. — 280, 620
Флоровский Василий Антонович (1863-1928), митрофорный протоиерей, выпускник МДА, настоятель Одесского кафедрального собора (1905-1920). ректор Одесской духовной семинарии (1900-1903). эмигрировал в Болгарию, служил в посольской церкви Святителя Николая в Софии. отец известного богослова протоиерея Георгия Флоровского (1893-1979). — 566, 568, 569, 583, 591
Фокко Стефан Яковлевич, священник, выпускник Витебской духовной семинарии и СПбДА (1900), кандидат богословия, в 1917 г. служил в Екатерининском соборе в Царском Селе. — 131, 132
Фома Кемпийский (1379-1471), римско-католический святой, немецкий монах и священник, предположительно, автор сочинения «О подражании Христу». — 138, 686
Фома, крестьянин д. Холмы Витебской губернии. — 83
803
Фосс Клавдий Александрович (1898-1991), участник Белого движения, капитан Дроздовской артиллерийской бригады, в эмиграции в Галлиполи, затем в Болгарии, в 1925-1941 гг. служил в Военном министерстве в Софии, руководитель канцелярии РОВС (1924-1927). руководитель «Внутренней линии» РОВС (1927-1945), в годы Второй мировой войны сотрудничал с фашистской Германией, находился на оккупированной советской территории, имел звание зондерфюрера, был помощником коменданта г. Николаева (1943-1944), после окончания войны скрылся в зоне американской оккупации, позднее жил в Мюнхене, сотрудничал с ЦРУ. — 608
Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург эрцгерцог д’Эсте (1863-1914), эрцгерцог Австрийский, с 1896 г. наследник престола Австро-Венгрии, убит сербским террористом, что стало поводом к Первой мировой войне. — 310, 311, 349
Фредерикс Владимир Борисович (1838-1927), граф, министр двора (с 1897 г.), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, в 1924 г. эмигрировал в Финляндию. — 238, 331, 339, 405, 409, 419, 471
Фридрих Вильгельм Виктор Август Эрнст (1882-1951), кронпринц (наследник) Германский и Прусский, старший сын императора Вильгельма 11 и императрицы Августы Виктории. — 686
Хабалов Серей Семенович (1858-1924), генерал-лейтенант, выпускник Николаевской академии Генштаба (1888), в 1903-1905 гг. начальник московского Алексеевского военного училища, в 1905-1914 гг. начальник Павловского военного училища, в 1914-1916 гг. военный губернатор Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска, в 1916-1917 гг. командующий войсками Петроградского военного округа, арестован, заключен в Петропавловскую крепость, освобожден после Октябрьского переворота, с 1919 г. в эмиграции в Салониках. — 468, 471
Харькевич Владимир Иванович (1856-1906), генерал-лейтенант (1904), военный историк, выпускник Николаевской академии Генштаба (1882), участник Русско-турецкой войны, в 1900-1902 гг. преподавал в Академии Генштаба, во время Русско-японской войны генерал-квартирмейстер Маньчжурской армии (апрель-октябрь 1904), начальник штаба 1-й Маньчжурской армии (октябрь 1904 — март 1905) и вооруженных сил на Дальнем Востоке (с марта 1905). — 183, 190, 194
Хвостов Алексей Николаевич (1872-1918), государственный деятель, действительный статский советник, камергер (1912), в 1906-1910 гг. Вологодский губернатор, в 1910-1912 гг. Нижегородский губернатор, член Государственной Думы IV созыва; в 1915-1916 гг. министр внутренних дел. в 1918 г. арестован органами ЧК и расстрелян. — 457
Хитрово, капитан, служил в Добровольческой армии. — 503
Хмелевская Татьяна Всеволодовна (1923-2008), в замужестве Маркова, внучка протопресвитера Г.И. Шавельского, дочь М.Г. и В.Н. Хмелевских, родилась в Болгарии, в младенческом возрасте переехала с родителями в США, образование получила в Миддлберуи-колледже и Барнард-колледже, получила степень магистра в области социальной работы, служила директором отдела по профориентации. — 687, 702
Хмелевский Всеволод Николаевич (1893-1947), инженер путей сообщения, первый муж дочери протопресвитера Г.И. Шавельского Марии Георгиевны, в эмиграции в Болгарии, затем с 1923 г. в США, последние годы жил в Нью-Йорке, работал инженером. — 491, 687, 697
Хольман, генерал, советник А.И. Деникина, начальник Британской военной миссии в России. — 528
804
Хомишин Григорий (1867-1947), униатский епископ Станиславский (с 1904), в 1946 г. осужден на 10 лет лишения свободы советским правительством, умер в тюрьме, беатифицирован Римско-католической церковью в 2001 г. — 383
Хомяк, подпоручик, участник Русско-японской войны, служил в 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. — 173, 174, 673
Хруцкий Николай Иосифович (1872-1931), протоиерей, выпускник Витебской семинарии (1896), служил в с. Верховье Велижского уезда Витебской губернии, затем был священником 44-го пехотного Камчатского полка, в 1931 г. в Троицком соборе г, Ачинска Красноярского края, расстрелян по приговору «тройки» ОГПУ по Западно-Сибирскому краю. — 231, 232, 259, 269, 270, 278
Цанков Стефан Станчев (1881-1965), протопресвитер, болгарский богослов и историк церковного права, доктор богословия, профессор Софийского университета, академик Болгарской академии наук, настоятель храма Святого Александра Невского в Софии, в 1960-е гг. консультант Синода БПЦ по юридическим вопросам. — 568, 569, 600, 601, 625, 626
Цингер Николай Яковлевич (1842-1918), генерал-лейтенант, член-корреспондент Императорской академии наук (1900), доктор астрономии и геодезии Казанского университета (1900), профессор геодезии и астрономии Николаевской академии Генерального штаба с 1884 г., основатель русской геодезической школы. —149
Цуриков В., протоиерей. — 10
Чайковский Николай Васильевич (1850-1926), революционер, в 1874-1907 гг. в эмиграции, до 1917 г. работал среди народных социалистов, во время Первой мировой войны призывал к единству всех классов ради победы, после Февральской революции член ЦК Объединенной трудовой народно-социалистической партии, выступал за союз с кадетами: член исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. член Учредительного собрания, после Октябрьского переворота активно боролся с большевиками, вошел в Комитет спасения Родины и революции, затем в Комитет защиты Учредительного собрания, в 1918 г. стал одним из основателей и членом ЦК партии «Союз возрождения России» в Москве, в 1918-1920 гг. возглавлял правительство «Верховного управления Северной области» в Архангельске, с 1920 г. в эмиграции в Лондоне. — 470
Чайковский Петр Ильич (1840-1893), великий композитор. — 437
Черепанов Александр Иванович (1895-1984). генерал-лейтенант (1943), участник Великой Отечественной войны, с ноября 1944 г. помощник, затем заместитель председателя и с мая 1947 г. председатель Союзной контрольной комиссии в Болгарии, главный советник Болгарской армии, с мая 1948 г. заместитель начальника Управления высших военно-учебных заведений, с 1955 г. в запасе. — 615
Черепнин Алексей Андреевич, священник, преподаватель Витебского духовного училища, впоследствии священник с. Фалковичи Витебской губернии. — 23
Черепнин Фотий Павлович, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебском духовном училище, выпускник 1886 г. по 3-му разряду, в 1902 г. псаломщик Успенского кафедрального собора г. Невеля Витебской губернии. — 21
Чернявский Василий Антонович (1882-?), протоиерей (1919), выпускник Витебской духовной семинарии (1902), служил в Новочеркасске, законоучитель Платоновской гимназии, член Поместного Собора РПЦ в 1917-1918 гг., Юго-Восточного Русского Церковного Собора 1919 г. в
805
Ставрополе, впоследствии служил в с. Рудне-Никитское Куровского района Московской области, репрессирован. — 509, 510
Черпесский Александр (1832-?), священник, рукоположен в 1854 г., с 1884 г. служил в Никольской церкви в с. Глазомичи Велижского уезда Витебской губернии (ныне Западнодвинский район Тверской области), в 1890-х гг. служил на том же месте (в 1900 г. в Глазомичах служил уже другой священник). — 80, 82, 636, 651
Чехович Константин (1847-1915), униатский епископ Перемышльский (с 1897 г.), основал в Перемышле греко-католическую семинарию, боролся с русофилами, после вступления Русской армии в Галицию подвергался преследованиям. — 383
Чистяков Сергей Дмитриевич (1860 — не ранее 1918), генерал-лейтенант (1917), выпускник Николаевской академии Генштаба (1888), с 1896 г. полковник, в 1899-1904 гг. правитель дел Николаевской академии Генштаба, с 1904 г. в звании генерал-майора командовал бригадами, участвовал в Первой мировой войне, командовал 81-й пехотной дивизией в 1914-1915 гг., отрешен от должности за несоответствие, некоторое время был на пенсии, затем в резерве чинов Одесского военного округа, в 1917 г. два месяца командовал 156-й пехотной дивизией, затем был в резерве чинов Киевского военного округа и в распоряжении начальника Генштаба, с конца июля 1918 г. служил в Украинской армии (генерал значковый), дальнейшая судьба неизвестна. — 147, 148, 208
Чистякова Софья Константиновна, жена генерала С.Д. Чистякова. — 147
Чухнин Григорий Павлович (1848-1906), вице-адмирал, в 1890-1902 гг. командир Владивостокского порта, в 1902-1904 гг. начальник Николаевской морской академии, с 1904 г. главнокомандующий Черноморским флотом, убит террористом в отместку за подавление Севастопольского восстания 1905 г. на крейсере «Очаков». — 499
Шабунио Филарет Викентьевич (1862 — не ранее 1923). протоиерей (1923), выпускник Витебской семинарии (1886), настоятель Успенской церкви в деревне Оболь в 1907-1909 гг. (ныне в Сенненском районе Витебской области), затем настоятель Николаевской церкви в с. Коханово Оршанского уезда, много внимания уделял церковно-приходской школе, в 1917 г. служил на том же месте. — 48
Шавельская Анна Ивановна, сестра протопресвитера Г.И. Шавельского, училась в Полоцком женском Спасо-Евфросиньевском училище, в начале XX в. проживала с братом в Петербурге. — 15, 56, 150
Шавельская Анна Федоровна (1850-1896), мать протопресвитера Г.И. Шавельского. — 12, 16, 102
Шавельская Ираида Мефодьевна (урожд. Забелина) († 1897), жена протопресвитера Г.И. Шавельского. — 84, 103, 104
Шавельская Мария Георгиевна (1895-1981), дочь протопресвитера Г.И. Шавельского, в первом браке Хмелевская, во втором браке Новицкая, воспитанница Смольного института в Санкт-Петербурге, участница Первой мировой войны, медсестра в госпитале г. Пинска, в эмиграции в Болгарии, с 1923 г. проживала в США, работала в магазине «Сакс Фифт Авеню» (г. Нью-Йорк), была общественным деятелем, членом правления Российского детского благотворительного общества. — 3, 89, 129, 135, 145, 209, 210, 232, 233, 687, 693
Шавельская Неонила Ивановна († после 1949), сестра протопресвитера Г.И. Шавельского, жила вместе с братом в эмиграции в Болгарии. — 629
Шавельский Аркадий Иванович, брат протопресвитера Г.И. Ша-
806
вельского, студент Харьковского ветеринарного института (в 1919 г. — 4-го последнего курса). — 494, 495
Шавельский Василий Иванович († 1875), умерший во младенчестве младший брат протопресвитера Г.И. Шавельского. — 13, 14
Шавельский Василий Иванович (1880-1938), священник, младший брат протопресвитера Г.И. Шавельского, выпускник Витебской духовной семинарии (1901), СПбДА (1911), кандидат богословия, священник храма с. Улазовичи Витебского уезда, служил в домашней церкви императора Николая II, в Александро-Невской церкви при МИДе (1911-1917) в Санкт-Петербурге, после Октябрьской революции педагог 18-й железнодорожной школы на станции Кемь Карельской АССР, арестован в 1937 г,, расстрелян 8 января 1938 г., похоронен в Ленинграде. — С. 63, 66, 105, 210, 236, 374, 494
Шавельский Всеволод Васильевич (1906-?), племянник протопресвитера Г.И. Шавельского, сын В.И. Шавельского. — 209, 210, 211
Шавельский Иван Иванович (1846-1906), псаломщик в с. Дубокрай Невельского уезда Витебской губернии (ныне в Псковской области), затем в с. Верховье Витебской губернии, отец протопресвитера Г.И. Шавельского. — 12, 231, 233
Шавельский Иван Потапиевич († 1885), псаломщик, дед протопресвитера Г.И. Шавельского. — 56
Шавельский Семен Иванович (1886-1931), брат протопресвитера Г.И. Шавельского, выпускник Витебской духовной семинарии (1907), работал врачом в г. Велиже. — 105, 669
Шанько Семен Игнатьевич, с 1892 г. учитель народного училища в с. Усмынь Велижского уезда Витебской губернии (ныне в Псковской области). — 76, 83, 668
Шапрон дю Ларре Алексей Генрихович (1883-1947), генерал-майор (1920), участник Первой мировой войны в составе лейб-гвардии Кирасирского полка, в 1917 г. командовал эскадроном в чине ротмистра, участник Белого движения, адъютант М.В. Алексеева и А.И. Деникина, первопоходник, в 1919 г. командир 2-го конного генерала Дроздовского полка, тяжело ранен, в эмиграции с 1920 г., сначала в Великобритании, затем в Бельгии, зять Л.Г. Корнилова — муж его дочери Натальи Лавровны (1898-1983). — 519, 520, 525, 552
Шатилов Николай Павлович (1849-1919), генерал от инфантерии (1908), выпускник Николаевской академии Генштаба (1874), участник Русско-турецкой войны, был начальником военных пехотных училищ в Тифлисе (1881-1889), Москве (1889-1899), Павловске (1899-1901), начальник 40-й пехотной дивизии (1901-1902), 10-й пехотной дивизии (1902-1906), начальник штаба Кавказского военного округа (1906-1907), помощник по военной части наместника Кавказа (1907-1913), член Государственного Совета (1913-1917), с октября 1917 г. в отставке, умер в Тифлисе. — 288
Шаховской Всеволод Николаевич (1874-1954), российский государственный деятель, министр торговли и промышленности (1915-1917), действительный статский советник (1912), гофмейстер (1910), после Октябрьского переворота в эмиграции во Франции. — 411, 679
Шаховской, князь, генерал-майор, начальник Витебского жандармского управления. — 398
Шварц, полковой врач, участник Русско-японской войны. — 174
Шведов Николай Константинович (1849-1927), генерал от артиллерии (1915), выпускник Михайловской артиллерийской академии (1874), начальник канцелярии Императорской главной квартиры
807
(с 1883 г.), член главного управления Общества Красного Креста (с 1900 г.). председатель Императорского общества востоковедения (с 1900 г.), в 1917 г. член Государственного Совета, в 1917 г. уволен, в эмиграции в Германии. — 412
Шевандин, врач, участник Русско-японской войны. — 197
Шекспир Уильям (1564-1616), великий английский драматург и поэт. — 464
Шелютто Николай, выпускник Витебской духовной семинарии (1884), священник храма в с. Азарково Витебской епархии. — 98
Шестаков Николай Михайлович, сын пензенского священника, полковой врач 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, титулярный советник, участник Русско-японской войны, был контужен. — 157, 158, 164
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805), немецкий поэт и драматург. — 684
Шимкович Василий Михайлович, выпускник Витебского духовного училища (1884), одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии (выпуск 1891 г.), впоследствии псаломщик в с. Хвошно. — 30, 42, 53, 54, 67-69
Шимкович Михаил, священник храма с. Бескатово Витебской епархии, отец В.М. Шимковича. — 67
Ширинская-Шахматова Варвара Александровна, княжна. — 225
Шихлинский Али-Ага Исмаил-Ага-оглы (1865-1943), генерал от артиллерии (1919), участник Русско-японской войны (командир батареи 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона в чине капитана, был ранен), георгиевский кавалер, затем служил в Офицерской артиллерийской школе, участник Первой мировой войны (в чине генерал-майора и генерал-лейтенанта, начальник артиллерийской обороны Петрограда в 1915г., начальник тяжелой артиллерии Северо-Западного фронта в 1915 г., затем при штабе Верховного главнокомандующего руководил созданием тяжелых артиллерийских соединений, был инспектором артиллерии Западного фронта), в 1918-1920 г. в армии Азербайджанской Демократической Республики, с 1920 г. помощник наркома по военным и морским делам Азербайджанской Республики, затем в управлении инспектора артиллерии РККА, с 1921 г. находился в распоряжении наркома по военным и морским делам Азербайджанской Республики, затем был на инспекционной и преподавательской работе, с 1929 г. на пенсии, умер в Баку. — 265
Шишкин Иван Иванович (1832-1898), великий русский художник. — 133
Шкинский Яков Федорович (1858-1938), генерал от инфантерии (1912), участник Русско-японской войны (исполнял должность начальника военных сообщений при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами), с 1911 г. помощник командующего войсками Виленского округа, командовал дивизией, корпусами, участник Первой мировой войны (командующий войсками Иркутского военного округа и войсковой наказной атаман Забайкальского казачьего войска), в годы Гражданской войны сотрудничал с генералом А.И. Деникиным, эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. — 275
Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887-1947), военный деятель, генерал-лейтенант (1920) Добровольческой армии, участник Первой мировой войны (создатель и командир Кубанского военного отряда особого назначения в чине есаула, полковника) и Белого движения (командир 3-го Кубанского корпуса), с мая 1920 г. в эмиграции в Сербии,
808
затем во Франции, во Вторую мировую войну формировал казачьи войска для борьбы с большевиками, в 1945 г. выдан англичанами советскому правительству, решением Военной коллегии Верховного суда СССР повешен. — 524, 525, 557
Шмидт Евгений Оттович (1844-1915), генерал от кавалерии (1907), Степной генерал-губернатор (1908-1916), командующий войсками Сибирского военного округа. — 267, 268
Шостак Онуфрий Гаврилович, священник, служил в Витебской епархии в деревне Шульги (конец 1890-х), в военной Николаевской церкви г. Витебска, с 1911 г. возглавлял свечной завод Военно-духовного ведомства. — 256
Шредер Николай Иванович (1778-1849), действительный статский советник. Орловский (1821-1824), Рязанский (1824-1831), Витебский (1831-1836) гражданский губернатор. — 216
Штакельберг Георгий Карлович (1851-1913), барон, генерал от кавалерии, участник Хивинского похода 1873 г., Кокандского похода 1875-1876 гг., Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в Русско-японскую войну командир 1-го Восточно-Сибирского корпуса, контужен в Ляолянском сражении, георгиевский кавалер, член Александровского комитета о раненых с 1905 г. — 179, 202
Штюрмер Борис Владимирович (1848-1917), государственный деятель. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Был Новгородским и Ярославским губернатором, с 1904 г. член Государственного Совета. 20 января 2016 г. назначен председателем Совета министров, с 3 марта по 7 июля одновременно министр внутренних дел, с 7 июля — министр иностранных дел, в том же году уволен в отставку, после Февральской революции арестован, умер в тюремной больнице. — 342, 360, 411, 418, 443, 449, 457, 465, 679
Шуваев Дмитрий Савельевич (1854-1937), генерал от инфантерии (1912), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1878), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну главный полевой интендант (1915-1916), военный министр (1916-1917), член Государственного и Военного советов (с 1917), с 1918 г. в РККА, занимался преподавательской деятельностью, обвинен в антисоветской агитации и расстрелян. — 431, 457, 458
Шурупов Н.П., эмигрант, староста Никольской церкви в Софии, член Общества единения русских в Болгарии (1921-1924). — 584, 591
Щеголев Павел Иванович, священник 3-го гусарского Елисаветградского полка, благочинный 3-й кавалерийской дивизии в 1912 г., в 1892 г. священник 127-го пехотного Путивльского полка, в 1905 г. священник 9-го драгунского Еслисаветградского полка. — 257, 258, 266
Щелоков Иван Иванович (1872-1935), полковник, окончил Николаевскую академию Генштаба (1902), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну начальник отделения главного управления Генерального штаба, делопроизводитель главного управления Генерального штаба, после Октябрьского переворота вступил в РККА, в 1920 г. был арестован, но вскоре освобожден, был профессором Военной академии им. М.В. Фрунзе. — 422
Щербаковский Стефан Васильевич (1874-1918), протоиерей (1912), в Русско-японскую войну священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (1901-1906). 5-й священник, награжденный орденом СВ. Георгия IV степени, выпускник СПбДА (1910), кандидат богословия, в 1910-1914 гг. был настоятелем петроградской церкви Святых Захарии и Елисаветы лейб-гвардии Кавалергардского полка, участник Первой мировой войны (священник лейб-гвардии Кавалергардского полка, благо-
809
чинный 1-й кавалерийской дивизии, 1914-1918), расстрелян в Одессе чекистами, — 678
Щербатов Николай Борисович (1868-1943), князь, крупный коннозаводчик, действительный статский советник, камергер, член Госсовета (с 1912) от Полтавской губернии, министр внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов (1915), после Октябрьского переворота в эмиграции в Германии. — 429
Щербатов Павел Борисович (1871-1951), князь, полковник, адъютант великого князя Николая Николаевича с 1905 г., младший брат Н.Б. Щербатова, участник Белого движения во ВСЮР и Русской армии, в августе 1920 г, гласный Ялтинской городской думы, в эмиграции в Бельгии, с 1929 г, секретарь Комитета по сооружению храма-памятника Иова Многострадального в Брюсселе. — 353, 430
Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857-1932), генерал от инфантерии, участник Русско-японской войны, начальник Николаевской академии Генштаба (1907-1912), в Первую мировую войну командовал 9-м армейским корпусом, 9-й, затем 7-й армиями, в 1916-1917 гг. помощник главкома Румынского фронта, в 1917 г, главком Украинского фронта, командовал войсками Центральной Рады Украины, участник Белого движения, в 1919-1920 гг. военный представитель русских армий при союзных правительствах и союзном Верховном командовании, находился в Париже, в 1920 г, отказался от должности из-за разногласий с П.Н. Врангелем, умер в Ницце. — 227, 228, 230, 236, 426
Щербов Александр Иванович (1868-1957), протоиерей, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, в последние годы жизни клирик Ташкентской епархии. — 30, 54
Щербов Иван Павлович (1873-1925), старший сын священника П.В. Щербова, друг протопресвитера Г.И. Шавельского, окончил Витебскую духовную семинарию (1894) и СПбДА (1898), впоследствии был преподавателем СПбДС, в 1918-1924 гг. заведующий Богословско-пастырским училищем при Александро-Невской лавре, в 1922 г, арестовывался по доносу обновленцев. — 69, 74, 82, 87, 668
Щербов Иоанн Васильевич, священник с. Пухново Витебской епархии, отец А.И. Щербова. — 81
Щербов Павел Васильевич († 1912), священник с, Усмынь Витебской епархии, благочинный, в 1896 г, награжден наперсным крестом от Святейшего Синода, вскоре вышел за штат, последние годы жизни жил в Санкт-Петербурге. — 68, 69, 73-78, 80-82, 84-87
Щербов Федор Павлович (около 1887 - ?) младший сын священника П.В. Щербова. — 74
Щербова Александра Георгиевна († 1894), жена священника П.В. Щербова, скончалась в возрасте около 50 лет. — 73-75, 87
Щербова Анна Павловна, дочь священника П.В. Щербова (См. Жданова А.П.)
Эбергардт Андрей Августович (1856-1919), адмирал, в 1908-1911 гг. начальник Морского Генштаба, с 1911 г, командующий морскими силами Черноморского флота, с 1914 г. командующий Черноморским флотом, с 1916 г. член Государственного Совета, с 1917 г. в отставке. в 1918 г. подвергся кратковременному аресту ЧК. — 285, 677
Эверт Алексей Ермолаевич (1857-1917), генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой и русско-японской войн, в Первую мировую войну командовал 4-й армией, затем Западным фронтом, с 1917 г. в отставке, убит солдатами. — 190, 191, 201, 269, 318
Эйхгорн Генрих фон (1848-1918), прусский генерал-фельдмаршал (в
810
тексте ошибочно назван австрийским главнокомандующим), участник Первой мировой войны, в 1915-1916 гг. командующий 10-й германской армией, в 1916 — начале 1918 г. командовал группой из 8-й и 10-й армий, затем главнокомандующий группой армий «Киев», после Октябрьской революции руководил оккупацией Украины, Белоруссии, юга России, Крыма и возглавил администрацию оккупированных областей, убит в Киеве террористом-эсером. — 497
Эккерман Иоганн Петер (1792-1854), немецкий поэт, друг и секретарь И.В. Гёте, исследователь его творчества — 683
Энвер Исмаил (Энвер-паша, 1881-1922), турецкий военный и политический деятель, организатор геноцида армян, сторонник искоренения нетурецкого населения Османской империи, военный министр, после поражения Турции жил в Германии, затем сотрудничал с советским правительством в Средней Азии, перешел на сторону басмачей, погиб в бою с отрядами Красной армии. — 415
Эрдман Владимир, одноклассник Г.И. Шавельского в Витебской духовной семинарии, выпускник 1891 г. — 54, 59, 666, 667
Эссен Николай Оттович (1860-1915), адмирал (1913), ученик адмирала С.О. Макарова, участвовал в Русско-японской войне, начальник соединенных отрядов Балтийского моря на правах начальника Морских сил (1908-1909), начальника действующего флота Балтийского моря (1909-1911), командующий Морскими силами Балтийского моря (1911-1914), командующий флотом Балтийского моря (1914-1915), приложил немало усилий для реорганизации русского флота и его подготовки к войне. — 297, 416, 417, 680
Юнаков Николай Леонтьевич (1871-1931), генерал-лейтенант (1916), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1897), с 1907 г. штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами, с 1910 г. экстраординарный, с 1911 г. ординарный профессор Николаевской военной академии, в Первую мировую войну командовал бригадой, дивизией, корпусом, армией, с 1917 г. на румынском фронте, в 1917 г. уволен в отставку, с конца 1918 г. на службе Украинской директории, возглавляемой С. Петлюрой, помощник главного инспектора армии Украинской Республики, с 1919 г. начальник штаба головного атамана. с 1920 г. генерал-полковник Украинской армии, в 1920 г. военный министр, в том же году выехал в Польшу, где в 1920-1923 гг. был начальником украинской Высшей войсковой рады в эмиграции. — 426
Юрченко, приближенный к Болгарскому экзарху митрополиту Стефану I. — 612
Юстиниан (Марина) (1901-1977), Патриарх Румынский, в 1923 г. окончил семинарию, в 1924 г. рукоположен во иерея, в 1929 г. окончил богословский факультет Бухарестского университета, в 1945 г. рукоположен во епископа, с 1948 г. Патриарх. — 687
Юсупов Феликс Феликсович (1887-1967), князь, граф Сумароков-Эльстон, окончил Оксфордский университет, в 1914 г. вступил в брак с княжной императорской крови Ириной Александровной Романовой, дочерью великого князя Александра Михайловича, один из организаторов убийства Распутина, после революции эмигрировал, жил во Франции. — 464
Явленский Дмитрий Георгиевич (1866 — не ранее 1920), государственный деятель, действительный статский советник, чиновник Министерства внутренних дел, заведующий канцелярией Степного генерал-губернатора (1913), Акмолинский (1915), затем Псковский губернатор (январь-февраль 1916), Могилевский губернатор, в 1920 г. жил в Екатеринодаре. — 462, 632
811
Ягодин Василий Александрович (1870-1937), священномученик, митрофорный протоиерей, рукоположен во иерея в 1891 г., с 1904 г. священник 221-го пехотного Троицко-Сергиевского полка в Москве и благочинный 56-й пехотной дивизии, с 1911 г. настоятель собора в Свеаборгской крепости, с 1918 г. служил в Москве, с 1937 г. настоятель Богоявленского кафедрального собора в Дорогомилове, в декабре того же года арестован и расстрелян на полигоне в Бутово, канонизирован Московским Патриархатом в 2000 г. — 297
Яковлев (Федичкин) Дмитрий Георгиевич (1902-1991). дипломат, советник посольства СССР в Болгарии в 1944 г. — 618-620
Якубовский Александр Никанорович (1874-1920), полковник (1916), окончил Николаевскую академию Генштаба (1907). участник похода в Персию (1909-1911) Первой мировой войны на Кавказе, начальник штаба 4-й Туркестанской стрелковой бригады и дивизии (1915-1917), командир 155-го пехотного Кубанского полка (январь-май 1917), участник Белого движения на юге России, взят в плен красноармейцами в Баку, расстрелян. — 476
Якунчиков Борис Михайлович (1859 — после 1917), камергер (1898), помощник статс-секретаря (1892-1908), затем статс-секретарь Госсовета (1908-1913), гофмейстер (1910), сенатор (1914), член Госсовета (1917), председатель 10-го столичного Попечительства о бедных и увечных воинах, известный нумизмат, расстрелян, коллекция хранится в Гохране. — 225, 226
Якшич Дмитрий (Душан) Николаевич (1873-1935), священник, окончил СПбДА, служил в русских храмах в Вене и Дрездене, вернулся в Россию, после Октябрьской революции работал в Публичной библиотеке в Петрограде. — 310
Янушкевич Николай Николаевич (1868-1918), генерал от инфантерии (1914), с 1913 г. начальник Николаевской академии Генштаба (1913-1914), с 1914 г. начальник Генштаба, в годы Первой мировой войны начальник штаба Верховного главнокомандующего, георгиевский кавалер, с 1915 г. помощник наместника на Кавказе, затем начальник снабжения Кавказского фронта, с 1917 г. в отставке, убит солдатами. — 350, 356-358, 360-362, 364, 388, 395, 402-405, 422, 423, 427, 428, 432-434, 438, 679
Янышев Иоанн Леонтьевич (1826-1910), протопресвитер, служил в Берлине, Висбадене, преподавал Закон Божий датской принцессе Дагмаре — будущей императрице Марии Феодоровне. с 1856 г. профессор богословия и философии Санкт-Петербургского университета, в 1866-1883 гг. ректор СПбДА, с 1899 г. доктор богословия, с 1883 г. духовник царской семьи, глава придворного духовенства. — 114, 238, 239, 633
Яренко, ученик русской гимназии в Софии. — 572-574
Яржемский Евгений, протоиерей, в 1905 г. служил в Киевской епархии, затем священник 16-го Туркестанского стрелкового полка в 1912 г., участник Белого движения, священник Марковского полка Добровольческой армии, в эмиграции в Югославии, был законоучителем русских детей в немецких школах г. Загреба, затем служил в загребской церкви, в 1940-х гг. священник 15-го казачьего кавалерийского корпуса в Югославии. — 335, 528
Ярой Владимир Иванович (1872-1919), генерал-лейтенант (1917), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1899), участник Русско-японской войны, в Первую мировую войну командир полка, начальник штаба дивизии, корпуса, командир дивизии, корпуса, участник Белого движения в Добровольческой армии и ВСЮР, умер в Одессе. — 479
812
Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878-1943) — советский политический деятель. В 1919-1922 гг. — секретарь Пермского губкома, в 1921 г. — секретарь ЦК РКП(б), в 1921-1922 — член ЦК партии. В 1923-1930 гг. — член Центральной контрольной комиссии, в 1934-1939 гг. — член Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б). С 1939 г. — член ЦК ВКП(б). Один из руководителей антирелигиозной политики советского руководства, в 1925-1943 гг. — председатель Союза воинствующих безбожников — 690.
Ярошинский Карл Иосифович (1874-1929), крупный российский предприниматель польского происхождения, банкир, владелец сахарных заводов и других предприятий разных отраслей, филантроп, был приближенным императорского двора, с 1918 г. в эмиграции во Франции, затем в Польше, умер в Варшаве. — 497, 498
Ясевич Петр Константинович (1889-1970), полковник, окончил Александровское военное училище и Николаевскую академию Генштаба, участник Белого движения в ВСЮР с сентября 1918 г., помощник начальника штаба, затем начальник штаба и командир дивизии, с марта 1920 г. находился в резерве штаба Донского корпуса, в эмиграции с 1921 г. в Болгарии, в 1945 г. арестован советской военной администрацией и осужден, умер в Мордовии. — 608
Ясеновская Мария Федоровна († 1894), сестра матери протопресвитера Г.И. Шавельского. — 141
Яфимович, полковник Добровольческой армии. — 525
Яцкевич Виктор Иванович (1861-1924), историк церкви, выпускник Витебской духовной семинарии и СПбДА (1886), кандидат богословия, действительный статский советник, с 1887 г. служил в канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, в 1912-1917 гг. был директором этой канцелярии, участвовал в подготовке и проведении Поместного Собора 1917-1918 гг., в послереволюционные годы В.И. Яцкевич работал в Археографической комиссии, участвовал в организации хранения архивов упраздненных церковных учреждений, в 1922 г. был арестован, через месяц отпущен, следствием заключения стала длительная болезнь, скончался в госпитале. — 215, 240, 677
Сокращения
БПЦ — Болгарская Православная Церковь
ВВЦУ — Временное высшее церковное управление
ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия большевиков
ВСЮР — Вооруженные силы юга России
ИМКА — УМСА от англ. Young Men’s Christian Association — Юношеская христианская ассоциация
КазДА — Казанская духовная академия
КДА — Киевская духовная академия
КИАФ — Корпус императорской армии и флота
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МДА — Московская духовная академия
МП — Московская Патриархия
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РОВС — Российский общевойсковой союз
РПЦ — Русская Православная Церковь
РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей (Русская Зарубежная Церковь)
РСХД — Русское студенческое христианское движение
СНК — Совет народных комиссаров
СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия
ЦК — Центральный комитет
813
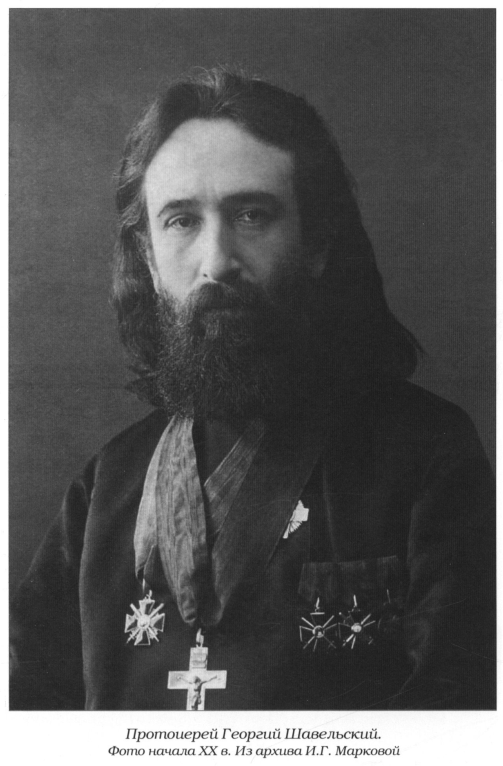
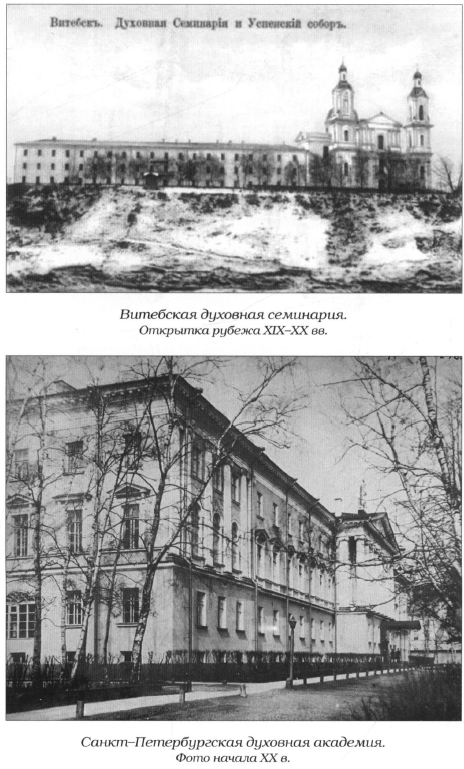

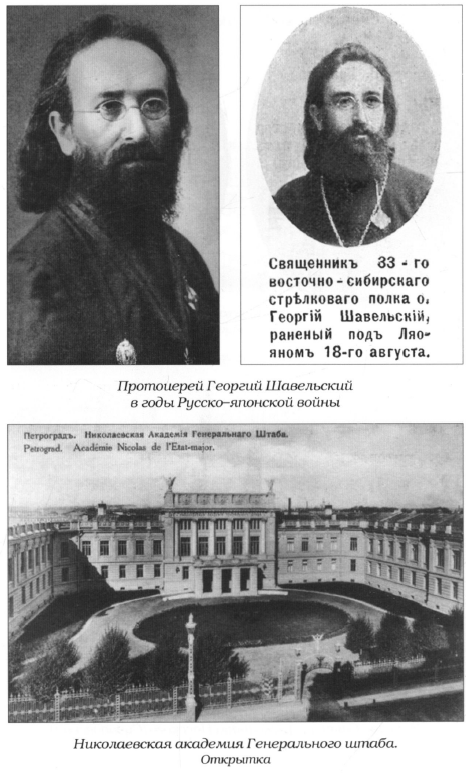
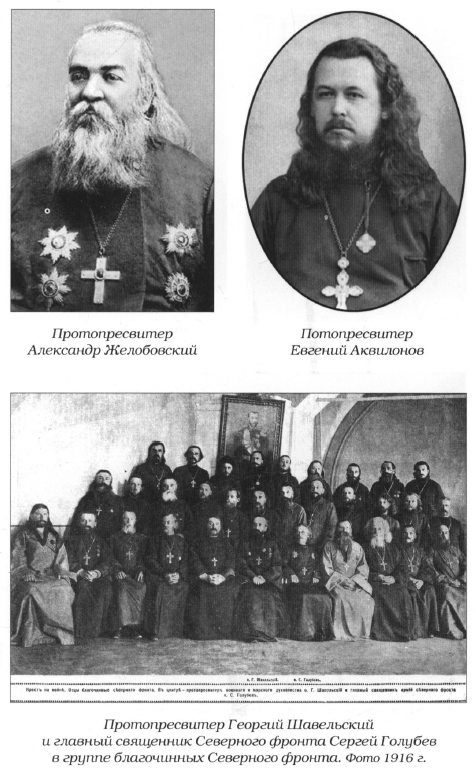


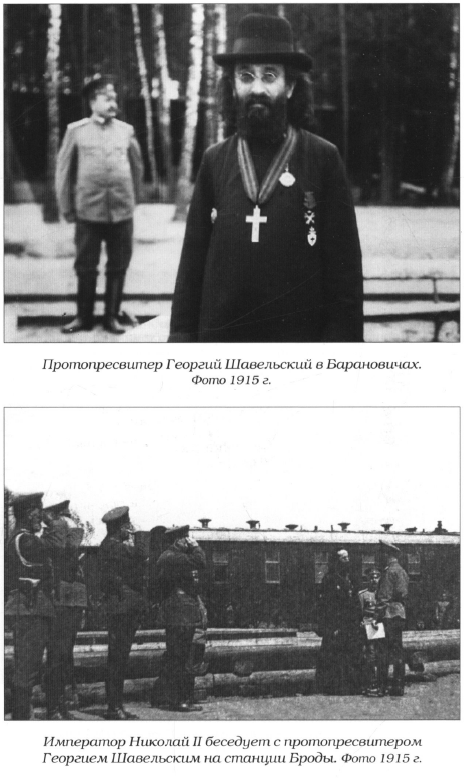


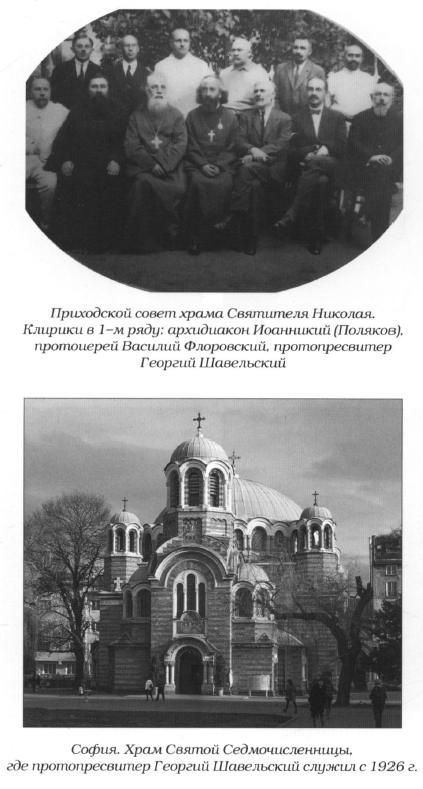
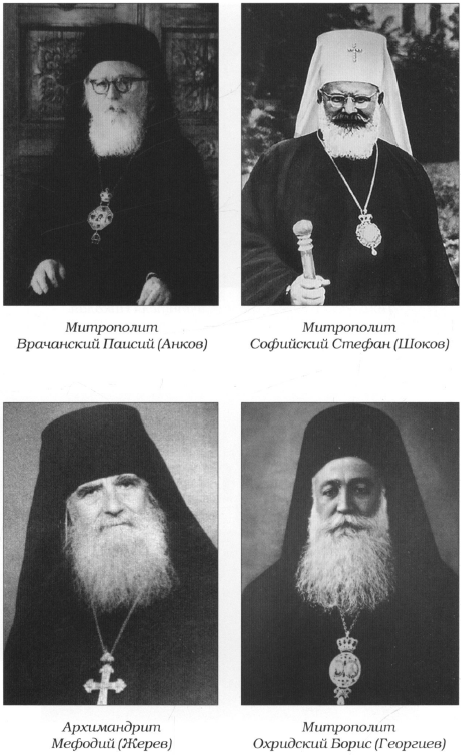
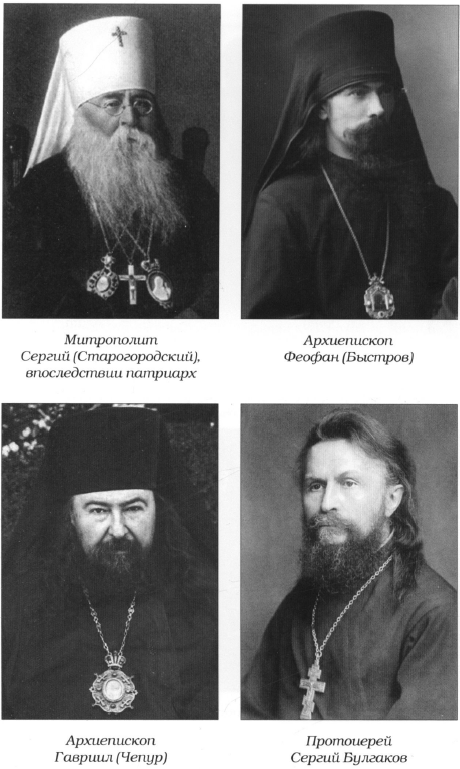

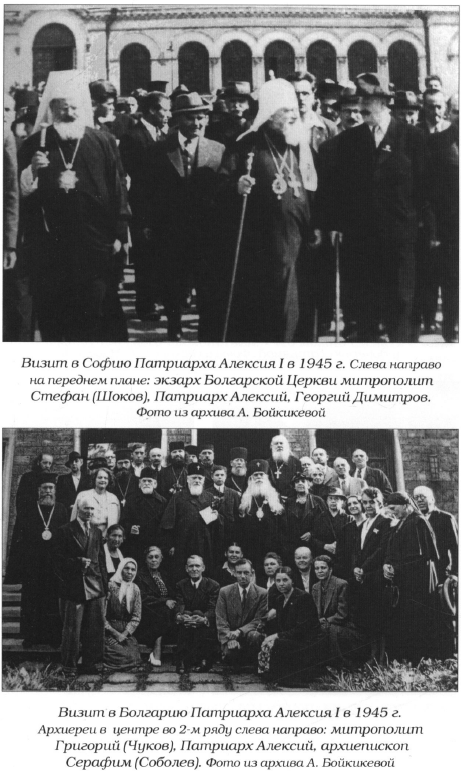
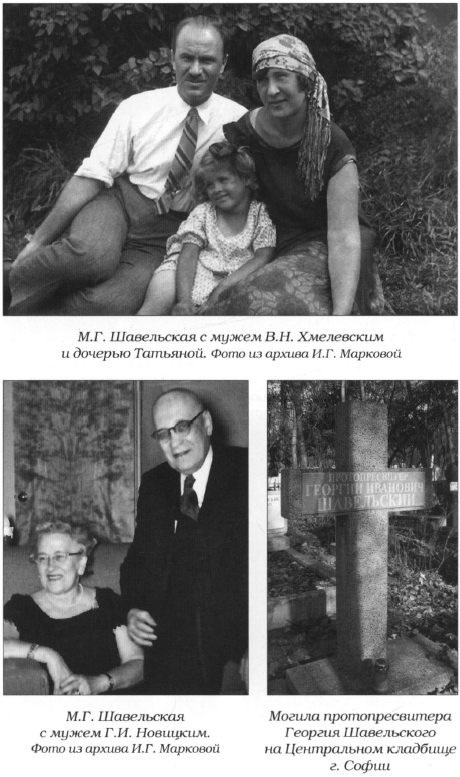
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
