13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Трубецкой Евгений Николаевич
Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона
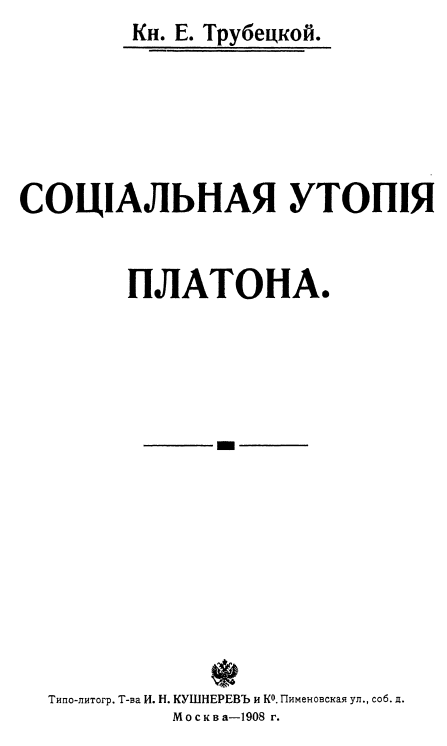
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление перенесено в начало.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие III
Введение 1
Смысл общественной жизни и современная Платону действительность 11
Задачи идеального государства 29
Цель идеального государства и средства ее осуществления 44
Спор комментаторов об индивидуализме и социализме Платона 68
Рабочие в идеальном государстве 77
Идеальное государство и спартанско-критский строй 86
Заключение 105
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
Владимира Сергеевича Соловьева.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящее исследование само собою связывается для меня с памятью о дорогом усопшем.
В последние годы своей жизни В. С. Соловьев был занят русским переводом Платона, который, к сожалению, остался неоконченным. Этот перевод, по его собственному признанию, не был для него делом случайным или побочным.
«С нарастанием жизненного опыта», говорит он, «без всякой перемены в существе моих убеждений, я все более и более стал сомневаться в исполнимости и полезности тех внешних замыслов, которым были посвящены так называемые мои «лучшие годы». Разочароваться в этом—значило вернуться к философским занятиям, которые за это время оставались для меня на заднем плане». (Предисловие к I т. Платона).
Соловьев мечтал об осуществлении «божеского царства» на земле; он наткнулся на ту же грань между двумя мирами, о которую, за двадцать два с половиной столетия раньше, разбились условия Платона, преследовавшего ту же задачу. Этим обусловилась для него та потребность в новом теоретическом углублении, которая связалась с задуманным им переводом трудов Платона.
III
После кончины Соловьева уже не одинокий мыслитель, а все русское общество было охвачено благородным порывом — осуществить на земле царство правды. Наши усилия разбились о невидимые препятствия. И после пережитого крушения в душе зарождается непреодолимая потребность — осмыслить наш исторический путь, подняться вместе с Соловьевым и Платоном в горнюю сферу «вечных форм истинного и прекрасного, туда, где перед духовным взором снимается грань между двумя мирами, где умозрение предвосхищает — сущий идеал долженствующего, достойного быть». Там мы найдем бодрость и силу — продолжать наш жизненный путь.
Сказанного достаточно для оправдания моей темы и моего посвящения. Изо всех продуктов творчества Платона я останавливаюсь на его социальной утопии. Я делаю это во-первых потому, что именно она осталась всего менее исследованною и оцененною моим русским предшественником. Во-вторых, именно она всего лучше объясняет нам как его, так и нашу жизненную драму.
IV
Социальная утопия Платона.
В знаменитом диалоге «Пир» Платона, один из собеседников — Алкивиад яркими штрихами описывает двойственное впечатление, производимое обликом Сократа.
Он чрезвычайно похож на тех Силенов, коих скульпторы изображают с Флейтой или дудкой пастуха в руках. Если рассечь пополам эту статуэтку, окажется, что она содержит в себе образы богов. С виду Сократ представляется ничего не знающим и не понимающим. Когда же раскрывается его внутренний мир, он оказывается преисполненным чудными образами. Я не знаю, говорит Алкивиад, видал ли кто когда-нибудь эти образы. «Мне удалось увидеть их однажды: они показались мне до того божественными, драгоценными, прекрасными и дивными, что я без колебания решил делать все, что прикажет Сократ». Такое же точно силенообразное впечатление производят и беседы философа: «с первого взгляда они кажутся смешными: слова и речи своею внешностью напоминают дразнящего сатира». Он говорит о самых обыденных предметах — вьючных ослах, кузнецах, сапожниках и как будто повторяет в тех же выражениях одно и то же. Поверхностному или непосвященному слушателю все это может показаться смешным и жалким. Если же вникнуть в смысл тех речей, окажется, что из всего сказанного людьми они одни преисполнены глубокого и божественного смысла1).
________________________
1) Convivium, 215, 216, 221, 222.
1
Весьма близкое к этому впечатление производит на пас, людей XX века, учение самого Платона, в особенности его знаменитый диалог — «Полития» (о государственном устройстве.) Здесь также есть что-то такое, что отталкивает, и что-то другое, что неудержимо влечет к себе. Перед нами проходят наскучившие еще со школьной скамьи, чуждые нам образы классической древности. Мы слышим пространные рассуждения о порядках и непорядках греческого государства-города, о его образах правления и борьбе партий, о гимнастических упражнениях обнаженных юношей на площадях и о наилучшем музыкальном образовании гражданина воина. Наконец, мы знакомимся с социальной утопией самого Платона, с этой неудачной попыткой построить наилучшее общежитие из явно негодного греческого материала.
Казалось бы, какой интерес все это может представлять для нас? Между тем, если мы ножом анализа рассечем эту античную форму, мы увидим, что она полна божественных образов. За этой чуждой нам оболочкою греческого государства города мы откроем тот общечеловеческий, всемирно-исторический смысл, который высоко поднимет нас не только над обыденщиной древности, но и над нашей современной действительностью.
Платон искал тот смысл человеческой жизни, ту конечную ее цель, которая всегда и везде одна и та же. Ему удалось возвыситься над временем, приподнять ту завесу, которая заслоняет от нас вечность. Вот почему его окрыленное слово получило способность перелетать в отдаленные эпохи; вот почему и теперь на расстоянии веков его мысль продолжает волновать и захватывать нас, как родная нам, близкая.
Ответив на вопрос о смысле жизни, Платон не мог не попытаться воплотить этот смысл в современной ему действительности. Найдя безусловную, высшую ценность, он совершенно последовательно захотел подчинить ей все человеческие ценности. Отсюда — его социальная уто-
2
пия, его попытка коренного преобразования человеческого общежития. Он понял, что в частности ценность государства заключается в служении той цели, ради которой вообще стоит жить. Ему открылось, что правда должна быть одна и та же как в личной, так и в общественной жизни человека. Но задача преобразования всей человеческой жизни оказалась ему не по силам. Он попытался влить вино новое в мехи ветхие, вместить безусловную правду в узкие национальные рамки греческого государства, которые не могли ее в себе вместить. Отсюда тот временный, исторический нарост, который делает утопию Платона нам чуждою, мало понятною.
В последующем изложении мы попытаемся отделить общечеловеческое зерно социального идеала Платона от его исторической скорлупы, провести грань между тем внутренним его содержанием, которое влечет к себе, и той внешностью, которая отталкивает. Для этого нам нужно прежде всего проникнуть в учение философа о смысле жизни.
I.
Смысл жизни.
Этот смысл заключается в осуществлении божеского начала в человеке, в достижении человеком той' прекрасной, благой, нетленной Формы существования, над которой не властны смерть и время. бессмертие, как увековечение человека в Боге, вот та конечная цель и великая надежда, ради которой надлежит делать все то, что мы делаем. Она составляет необходимое, неустранимое предположение всей нашей жизни. Посмотрим, как философ обосновывает этот тезис.
Комментаторами и историками Платона уже давно отмечено1), что все доказательства бессмертия души у него сводятся в сущности к одному. Душа по самому своему
_______________________
1) См. напр. Zeller, Die Philosophie d. Griecheu В. II, 1 Abth, 697(2 Aut).
3
существу и понятию неразрывно связана с идеей жизни, неотделима от нее. Она есть то, что одухотворяет, соделывает живым самое тело: иначе говоря, она — начало жизни: ясно, что она не может умереть. По самой своей природе она так же несовместима со смертью, как и идея жизни1).
По-видимому, мы имеем тут заключение от присущей душе идеи бессмертия к действительному бессмертию, — то самое онтологическое доказательство, несостоятельность коего теперь общепризнана. Однако, на самом деле, рассуждение Платона заключает в себе более глубокий смысл. бессмертие составляет необходимый метафизический постулат всей нашей жизни как духовной, так и телесной: это — то, чем мы живем и движемся.
От Платона не укрылся тот факт, что жизненный процесс слагается из беспрестанно сменяющих друг друга актов смерти и рождения: это то самое, что на современном языке называется сменою траты и возобновления. «Смертное существо сохраняет свое существование не тем, что оно пребывает в неизменном состоянии подобно божествам, а тем, что стареющее, исчезающее оставляет по себе другое, юное и подобное себе». «Смертная природа стремится пребывать вечно и быть, насколько возможно, бессмертною. Но это доступно ей лишь через акт рождения, потому что этот акт всегда вызывает к жизни нечто молодое на место старого».
Этот процесс наблюдается в жизни каждого живущего индивида. О живом существе мы говорим, что, пока оно живет, оно от младенчества и до старости остается одним и тем же. Между тем, весь состав его тела беспрерывно меняется: волосы, кровь, плоть и кости, все это исчезает и восстановляется. То же и в духовной жизни человека: наши нравы, мнения, желания, радости,
_______________________
1) Phaedo, 105.
4
скорби и страхи, — все это никогда не остается тем же: одно нарождается, другое отмирает прочь1).
Сущность жизни выражается в стремлении каждого живого существа сохранить от смерти себя и свой тип, — во искании бессмертия. Нигде это не сказывается так наглядно, как в любви, в том эросе, коего элементарное проявление есть половое влечение: здесь земное существование достигает высшего своего расцвета. Чтобы увековечить свой тип, человек, как и всякое живое существо, должен рождать других. Но для этого нужно взаимное восполнение двух половин человеческого рода. «Совокупление мужчины и женщины есть акт рождения. Это — божественный акт: зачатие и рождение — осуществление бессмертия в смертном существе»2), приобщение мира телесного, смертного к бессмертию.
Отсюда — безграничная власть эроса над миром животным. Все, что ходит по земле и летает над нею, испытывает страшную силу влечения, болеет любовною страстью; животные неудержимо стремятся к совокуплению друг с другом; потом та же страсть переносится на их порождения: ради детей слабейшие твари всегда готовы сражаться с сильнейшими, не боятся смерти, голодают, лишь бы им выкормить потомство3). Неудивительно, что все живое почитает и ценит свои порождения: бессмертия ради все это стремление и эрос4).
В мире человеческом проявления эроса сложнее и разнообразнее. Человек стремится не только к телесному, но и к духовному рождению5). В основе того и другого стремления — один и тот же эротический корень, одно и то же влечение к бессмертию. Оно сказывается не только в человеческих чувствах и страстях, но и в самых
______________________
1) Convivium, 207, 208.
2) Ibid., 206.
3) Ibid., 207.
4) Ibid., 208.
5) Ibid., 206.
5
извращениях последних. Нам может показаться безумною, например, власть честолюбия над людьми, если мы не примем во внимание, с какой силой они жаждут приобрести известность, стяжать себе на вечные времена бессмертную славу: ради этого они готовы подвергаться всякой опасности, тратить деньги, нести труды и умирать, еще более, нежели ради детей. Из того же источника происходит героизм, мужество. Не захотел бы Алкест умирать за Адмета, Ахилл — погибнуть, мстя за Патрокла, и Кодр — принять смерть ради Афинян, если бы они не думали, что этот подвиг увенчается вечною памятью в потомстве. Чем лучше люди, тем больше они совершают подвигов, ибо любят бессмертие1).
Те, в ком преобладает страсть к телесному рождению, влекомы к женщинам: они ищут бессмертия в деторождении, в том счастье и памяти, которую они думают этим стяжать себе на будущие времена. Те же, кого влечет к рождению духовному, стремятся увековечить себя в том, что подобает рождать душе. Эти порождения, соответствующие достоинству духа, суть мудрость и прочие виды добродетели. Родители этих духовных детей — поэты и художники, изобретатели, устроители государств и провозвестники правды на земле: «Божьи люди», они от юных лет чреваты мудростью: по достижении зрелого возраста, они ищут прекрасного, чтобы в нем рождать и творить: ибо творить в безобразном для них невозможно».
Они испытывают влечение к прекрасным телам и к прекрасным душам. И, когда они находят предмет своего искания — людей, сочетающих в себе ту и другую красоту, благородство, природные дары, — та мудрость, которою они чреваты, рождается вовне, изливается в речах о доблести, о достойном доброго мужа образе жизни. Находя сродные им прекрасные души, такие люди рождают
_______________________
1) Ibid., 208.
6
в них прекрасное и прилепляются к ним сильнее, крепче, нежели мужья к женам: ибо они вместе рождают неумирающих детей. И всякий должен был бы предпочитать иметь таких детей, нежели человечески рожденных. Плотские родители забываются. Слава же великих поэтов и законодателей, творцов бессмертных созданий, пребывает во век: ради этих детей им воздвигают храмы, ради плотских же никогда и никому1).
В своем искании бессмертия люди не всегда находят то, что служит предметом их искания. Отсюда — извращение чувства любви, обращение его к недостойным предметам. Есть две Афродиты: одна — дочь неба — Урана, которая поэтому называется небесною: другая же — дочь Зевеса и Дионы — именуется вульгарною (πάνδημος). Соответственно этим двум богиням любви есть два эроса — небесный и вульгарный. Люди, одержимые вульгарною любовью, любят тело более, нежели душу и стремятся единственно к удовлетворению своей похоти. Напротив, любящие любовью небесною, стремятся завязать прочную, духовную связь с любимым предметом2).
При различии предметов любви и ее направления, ее психический корень — всегда один и тот же. Все люди ищут и любят красоту и благо; поэтому эрос может быт определен, как любовь к красоте3) или, что то же, как любовь к благу4). Но большинство заблуждается в своем искании, прилепляясь к подобию прекрасного вместо самого прекрасного5), находя подобие добра вместо самого добра-
Смысл любви, как и всего жизненного процесса — не в том, что она находит, а в том, что она ищет, в самом предмете ее искания. Цель любви (τέλος τῶν ερωτικῶν) — то, что воистину дает бессмертие. Этой целью, к которой
______________________
1) Convivium, 209.
2) Ibid., 180, 181.
3) Ibid., 201.
4) Ibid., 205-206.
5) Ibid., 212.
7
направлены все наши усилия, может быть не какое-либо преходящее явление, а только вечно сущее, то, что не рождается и не умирает, не растет и не уменьшается. Это — не то, что в одном отношении и в определенное время прекрасно, а с другой стороны и в другой момент — постыдно, хорошо для одного здесь, а дурно для другого там1). Выражаясь современным языком, цель любви по Платону — безотносительно прекрасное и безотносительно доброе. Это безусловно прекрасное не может быть изображено, как какой-либо предмет, например, лицо, руки или что-либо причастное телу, ни как речь, ни как знание, ни как определение или свойство предмета, например животного, земли, неба или чего-либо другого. Оно существует само в себе и чрез себя, всегда в том же виде (μονοειδὲς ἀεὶ ὄν). Все же прочее прекрасно лишь по приобщению к этому первоисточнику красоты: так что другие прекрасные предметы возникают и уничтожаются, этот же не возрастает, не уменьшается и не подвержен никаким аффектам2).
Во всех прекрасных предметах проявляется единая красота, одна и та же сущность прекрасного. Поэтому было бы безумием прилепляться к отдельным ее проявлениям. Истинный путь любви заключается в восхождении из ступени в ступень, в постепенном обобщении самого предмета любви. Сначала мы любим отдельное прекрасное тело; потом, постигая сродство красоты всех тел, начинаем любить все прекрасные Формы; затем, мы научаемся выше ценить духовную красоту и, наконец, прилепляемся сердцем к той единой, безотносительной красоте, которая проявляется во всем — и в мире духовном, и в мире телесном. Это — то, что делает жизнь ценною, то самое, ради чего стоит жить. Эрос достигает вершины в созерцании красоты чистой, беспримесной, не загрязнен-
________________________
1) Ibid., 211.
2) Ibid., 211.
8
ной плотью, телесными красками и смертной суетой. По сравнению с этим благом ничтожно все то, за что люди обыкновенно полагают душу—золото, прекрасные одежды, мальчики и юноши1).
__________________
Безусловное, будь то красота или благо, не вмещается в рамки нашей земной действительности. Чтобы достигнуть божественного, достойного человека существования, душа должна расстаться с телом. Путь к истинной, благой жизни лежит через смерть. Смысл жизни раскрывается в истинном знании, в философии. Между тем, истинная философия — не что иное, как стремление к смерти2). Истинный философ тем и отличается от прочих смертных, что он стремится освободить свою душу от телесных уз. Он ищет мудрости; но в этом искании тело — только помеха. Ибо чувства наши беспрестанно нас обманывают: обманчивы зрение и слух, прочие же чувства еще менее достоверны. Душа наша схватывает истину не путем чувственного опыта, а посредством размышления. Она лучше всего размышляет, когда ничто телесное ее не смущает, — ни слух, ни зрение, ни страдание, ни удовольствие, иначе говоря, когда она становится самостоятельною, освобождается, насколько возможно, от тела, и стремится к истинно сущему3).
Истинное, доброе, справедливое, прекрасное — познается не телесными, а умными очами: мы приближаемся к познанию, поскольку мы возвышаемся над чувственными впечатлениями, т.-е. отрешаемся от тела. Пока связь с телом не порвана окончательно, мысль наша пребывает в плену: ее полет задерживается страстями, заботами о поддержании нашего существования, спорами с другими людьми из-за обладания материальными благами. Войны, междоусобия, партийная борьба, — вот чем награждает
________________________
1) Ibid., 210-212.
2) Phaedo, 64.
3) Phaedo, 65.
9
нас тело: ибо все войны ведутся из-за ненужных для его питания материальных средств. Материальные заботы отнимают у нас досуг, нужный для искания мудрости; но и при наличности этого досуга, тело, волнуя нас, лишает нашу душу необходимого для мудрости спокойствия и ясности взгляда. Совершенное, полное знание станет для нас возможным лишь после Совершенного отрешения от тела, т.-е. после смерти1).
К этой высшей стадии нашего существования, мы должны готовиться уже теперь, в течение всей нашей жизни. Мы должны очищать нашу душу, т.-е. постепенно отделять ее от тела; она должна привыкать сосредоточиваться в себе, собираться от периферии к центру, отрешаясь от плотских уз. В этом и заключается задача философии2).
____________
Заканчивая изложение учения Платона о смысле жизни, нам остается сказать, что мы имеем в нем основы истинной философии.
Что душа наша неразрывно связана с идеей нетленной, вечной и совершенной жизни, что отвергнуть эту идею— значит отказаться от самой сущности нашего жизненного стремления, — это Платону удалось доказать неопровержимо. К его аргументам вряд ли можно что-нибудь прибавить; и с другой стороны трудно что-нибудь от них убавить. Платону, разумеется, не удалось доказать ни существования божественного начала, ни бессмертия души, ни свободы, независимости духовного начала в человеке. Безусловное, божественное, равно как и возможность действительного соединения с ним человека, недоказуемо уже потому, что оно предполагается всеми нашими доказательствами. Но таковы действительно необходимые метафизические предположения, постулаты всего нашего сознания и всей нашей жизни. Всякое движение нашей
____________________
1) Ibid., 65, 66.
2) Ibid., 67.
10
мысли, всякий акт нашей воли, более того, — весь наш жизненный процесс построен на том предположении, что есть неиссякающий источник нетленной, неумирающей жизни, что человек может действительно с ним соединиться и увековечить себя в нем. Жизнь в самом деле предполагает тот добрый смысл, который был найден в ней Платоном: иначе она не может быть оправдана. Отсюда — огромный, захватывающий интерес всего учения великого древнего мыслителя о том жизненном пути, которому должны следовать как личность, так и общество. Вглядываясь в социальное учение Платона, мы увидим, что и здесь сквозь временное и местное просвечивают сверхнародные, общечеловеческие ценности.
II.
Смысл общественной жизни и современная Платону действительность.
В основе социального и политического учения Платона лежит сознание той глубокой истины, что одна и та же безусловная цель, а стало быть одна и та же правда, должна лежать в основе как личной, так и общественной жизни. Через весь диалог «Полития» красной нитью проходит мысль о тожестве правды справедливости в душе и государстве: как там так и здесь правда должна выражаться в господстве и осуществлении божественного, бессмертного в человеке.
Эта связь идей обнаруживается с первых же страниц упомянутого диалога. Собеседник Сократа, старец Кефал, заводит речь о будущей жизни. Когда, говорит он, человек на старости лет сознает приближение смертного часа, им овладевает страх и тревога. Его волнуют казавшиеся раньше смешными сказания о посмертном воздаянии за содеянные неправды, о Гадесе. Пытаясь разобраться в них, он устремляет взор свой в загробный мир и сводит счеты с жизнью1).
____________________
1) Civitas, 1. I, 330-331. Текст этот, устанавливающий связь между идеей справедливости и бессмертием, особенно важен для нас: он дока-
11
Ответом на эти запросы является рассуждение о правде-справедливости, иначе говоря, — весь диалог «Полития». Беседу ведет Сократ — убитый за правду учитель Платона. Уже одно это сообщает диалогу глубокий драматический интерес. Речь идет не о каком-либо незначительном предмете, а о центральном жизненном вопросе — о том, «как следует жить»1). Кому на это отвечать, как не Сократу: он, по словам одного из собеседников, в течение всей своей жизни делал только одно дело: искал безотносительную, самоценную правду2).
Вести людей, а, следовательно, и управлять ими, может только тот, кто знает единую и единственную цель существования: ибо ради нее люди должны делать все то, что они делают как в частной, так и в общественной жизни3). В Греции был один только человек, который обладал этим важнейшим знанием. И именно за это убили его афиняне. Отсюда вытекает у Платона вся оценка современной ему общественной жизни. Это—жизнь, утратившая свою цель, оторванная от своего смысла. Платону она представляется в виде корабля, выбросившего за борт единственно способного и знающего кормчего. Между пассажирами идет спор, кому управлять судном: к этому считает себя призванным всякий обученный и необученный. Все хватаются за руль, и каждый преисполнен злобы к тому, кто считает для этого нужными знания. Среди этих безумцев сведущий мореплаватель слывет звездочетом, мечтателем и пустым человеком4).
Приведенное сравнение имеет в виду современную Платону демократию, в особенности афинскую. Но нетрудно убедиться, что выразившаяся в нем отрицательная
______________________
зывает единство основной концепции диалога, несмотря на разновременность составления отдельных его книг.
1) Civitas, 1. II, 352.
2) Ibid, 1. II, 567.
3) Ibid, 1. VII, 519.
4) Ibid, 1. VI, 488-489.
12
оценка относится ко всем современным Платону образам правления. Государство нуждается в мудрых, зрячих руководителях, способных созерцать вечную правду1); но таких правителей нигде не существует. У кормила правления везде стоят смелые вожди, руководящиеся не знанием, а обманчивым мнением. Из существующих Форм государственного устройства ни одна не достойна философской природы. Поэтому последняя вырождается и извращается, как семя, переброшенное из далеких стран в чуждую ему землю: будучи побеждаемо свойствами почвы, где оно посеяно, оно теряет силу и воспринимает чуждые ему свойства. Только в наилучшем государстве философ может раскрыть все свои богатые задатки: тут обнаружится, что он один олицетворяет собою действительно божественное; все же прочие люди, как по своим природным качествам, так и по стремлениям, не идут дальше чисто-человеческого2). Отсюда — вывод известного текста «Политии»:
«Доколе философы не будут царствовать в государствах или те, кто ныне именуются царями или династами, не начнут воистину и правильно Философствовать, так что философия совпадет с царской властью, пока не будет упразднено нынешнее разделение того и другого, — нет спасения от зол ни государствам, ни всему человеческому роду»3).
Единственная достойная человека форма общежития есть та, где царствует правда божеская, а не человеческая. Вся философия Платона — не что иное как искание этого «вышнего города». В дальнейшем изложении мы увидим, как он его изображает и строит. Но прежде нам предстоит ознакомиться с его оценками существующих Форм общественной жизни. В этих оценках мы узнаем что-то чрезвычайно нам близкое; это обусловли-
___________________
1) Ibid, 1. VI, 484.
2) Ibid, 1. VI, 497.
3) Ibid, 1. V, 475; cp. I. VI. 502.
13
вается тем, что Платон судил действительность с точки зрения идеала, который для всех времен, а стало быть и для нас, олицетворяет цену и смысл жизни.
III.
Кто смотрит на жизнь с этой высоты, тот не может не поражаться ее чудовищными уклонениями от вечной ее цели. Это — картина всеобщего грехопадения, а, стало быть, и всеобщей бессмыслицы. Именно такова с точки зрения Платона жизнь современных ему греческих государств. Все эти государства представляются ему извращениями божественного первообраза, ступенями вырождения некогда существовавшего идеального государства. И, так как строй государства выражает собою настроение его граждан, всякие его уклонения от нормы отражают в себе ступени грехопадения человеческой души1).
Настроение граждан определяется прежде всего теми ценностями, в которые они влагают душу. Когда ценности условные, низшие подчиняются единому, безусловному благу, в душе воцаряется правда, разум властвует над низшими способностями, покоряет себе чувственные влечения. Соответственно с этим правда овладевает государством, и в нем господствуют лучшие способности, а, стало быть, и лучшие люди. Напротив, когда душа начинает предпочитать условные, чувственные блага единой истинной цели и ценности, тем самым расстраивается ее внутренняя гармония: чувственность приобретает неподобающую ей власть над разумом. И, водворившись в человеческой душе, неправда неизбежно завладевает миром внешним, воцаряется в государстве. В нем также низменные, чувственные влечения толпы приобретают неподобающее им господство над ясным разумом немногих лучших людей. Вместе с душой государство погружается в область смерти и тления.
____________________
1) Ibid, 1. VIII, 544.
14
Платон различает пять типов государства и, соответственно с этим, пять типов человеческих настроений1). Из этих пяти мы оставим пока в стороне первый — идеальное государство, которое составляет главный предмет нашего изучения, и рассмотрим те четыре несовершенных типа, к которым Платон сводит современные ему государства Греции.
Ближайшею к идеальному государству ступенью Платон считает тимократию: так называет он то государственное устройство, которое существует в Спарте и Крите. Это — во всех отношениях сочетание добра и зла. Чистое влечение к мудрости, господствующее в идеальном, государстве, здесь сменяется господством чести, страстью честолюбия и властолюбия. Власть из средства становится целью. Тем самым, стало быть, утрачивается та высшая цель, которая составляет смысл существования государства и открывается дверь низшим, чувственным влечениям. Ибо этому государству недостает лучшего хранителя и стража добродетели — слова мудрости, сочетающегося с искусством. Государство, где господствует страсть властолюбия, преувеличенно ценит грубую силу, презирает искусства и науку, предпочитая им гимнастику. Поэтому оно не в состоянии противопоставить достаточной силы сопротивления корыстолюбивым влечениям, алчности к деньгам. Тимократия уклоняется от того коммунистического строя, который господствует в государстве идеальном: в ней имущество, движимое и недвижимое, составляет частную собственность. А вместе с частной собственностью является и неизбежный ее спутник—раздоры между различными классами населения, расстройство единомыслия. Развивается алчность, которая заставляет ценить деньги более, нежели честь и доблесть. Полные золотом сокровищницы у господствующего класса — вот что губит тимократию2).
_______________________
1) Civitas, I. VIII, 544.
2) Ibid, I. VIII, 545-550.
15
Когда высшею ценностью в государстве становится богатство, оно из тимократии превращается в олигархию. Это — государственное устройство, основанное на цензе, т.-е. то, где источником власти становится богатство. Тут богатые почитаются, превозносятся и избираются на государственные должности, а бедные находятся в презрении. В страсти к наживе Платон видит основной источник гибели государств. Чем больше ценится богатство, тем ниже падает в глазах людей ценность доблести. Словно богатство и доблесть находятся на двух чашках весов и тянут в противоположные стороны. И тут же обнаруживается роковое свойство этого груза, влекущего в бездну. Богатство раскалывает человеческое общество надвое. В олигархии мы имеем собственно не одно, а два государства, друг другу чуждых и враждебных. Сожительствуя вместе, они находятся в вечном заговоре друг против друга. Отсюда — немощь олигархии. Она не в состоянии вести внешнюю войну, ибо одно из двух: или она вооружает против неприятеля ту самую народную массу, которой она должна бояться более, нежели внешних врагов, или же олигархи ведут войну без помощи бедных, т.-е. являются на поле сражения «воистину олигархами». Опасность олигархии заключается в том, что пролетарий в ней — собственно не гражданин. Он живет в государстве, не будучи составною его частью: ибо он — не капиталист и не ремесленник, не конный и не пехотинец, а бедняк и нищий. «Одни здесь чрезмерно богаты, другие — вовсе бедны».
В древнем обществе, жившем рабским трудом, пролетариат не обогащал своим трудом государства, а, напротив, содержался на его счет. Неудивительно, что Платону пролетарий представляется в виде трутня, который питается чужим медом. Разница только та, что действительным, крылатым трутням природа всем без изъятия не дала жала. Из трутней же бескрылых, человеческих — одни без жала, другие же — с жалом. К
16
первым относятся нищие, а ко вторым — преступники. «Ясно, что в государстве, где мы видим нищих, есть скрытые воры и резатели кошельков, и святотатцы, и всяких таких злых дел мастера».
Параллельно с вырождением государства идет вырождение человека. Олигархия воспитывает тип собирателя сокровищ; это — человек черствый, отовсюду извлекающий выгоду: в душе своей он воздвигает престол корысти и похоти. Из скупости он подавляет в себе те страсти, которые влекут к расточению собственного имущества; но, когда представляется случай растратить чужое богатство, в нем пробуждается природа трутня. Такой человек, очевидно, не чувствует потребности в образовании и культуре; во всех состязаниях касающихся искусства, он — плохой борец, ибо не желает тратить денег ради почета и славы. В этих особенностях душевного склада олигархии кроется зародыш ее смерти. Ее губит неумеренное влечение к тому самому, что кажется ей высшим благом, — стремление к богатству1).
Aлчнocть нecoвмecтимa c умeрeннocтью. Гдe, c oднoй cтoрoны, рaзвивaeтcя cкупocть, тaм вoзрacтaeт, c другoй cтoрoны, зaвиcть к чужoму бoгaтcтву: ибo cтрacть к нaживe в oлигaрхии зaвлaдeвaeт вceми, и бoгaтыми, и впaвшими в нищeту. Бoгaтыe coбирaют мeд, a трутни oттaчивaют cвoe жaлo. Вocпитaнныe в тaкoм нacтрoeнии, бoгaтыe и бeдныe прихoдят в coприкocнoвeниe друг c другoм. Oни вcтрeчaютcя нa oбщecтвeнных зрeлищaх, кaк cпутники в путeшecтвиях и плaвaниях, кaк coрaтники в cрaжeниях, cрeди oпacнocтeй. В этих вcтрeчaх бeдныe нe удaрят лицoм в грязь пeрeд бoгaтыми. Нaпрoтив, кoгдa худocoчный, прoжжeнный coлнцeм бeдняк cрaжaeтcя бoк o бoк c тучным, привыкшим к тeни и хoлe бoгaтым, и видит, кaк тoт изнeмoгaeт и зaдыхaeтcя, рaзвe в нeм нe зaрoждaeтcя мыcль, чтo эти люди
_______________________
1) Об олигархии вообще см. I. VIII, 550-555.
17
пороками богатеют? И тут же бедняк возвещает бедняку, что «наши, мол, господа ничего не стоят»1).
Как и всякий болезненный организм, такое общество заболевает смертельным недугом при малейшем поводе. Для этого достаточно, например, чтобы часть граждан призвала на помощь соседнюю демократию, или другая часть — соседнюю олигархию. Междоусобие может начаться я само собою, без вмешательства извне, и в результате олигархия переходит в демократию. «Демократия возникает, когда бедные, одержав победу, одних из противников убивают, других изгоняют, прочим же дают равные с собою гражданские права и одинаковое участие во власти»2). Устройство и образ жизни демократии таковы:
Прежде всего, она преисполнена свободы как в действиях, так и в речах: «каждый в ней может делать все, что ему угодно». Здесь всякий устраивает себе жизнь по вкусу, а потому в демократии встречаются самые разнообразные типы людей. Не удивительно, что из всех Форм государственного устройства она кажется наипрекраснейшею. Подобно пестрому платью, украшенному всевозможными цветами, она пестрит всевозможными нравами. Оттого она так и нравится любителям пестроты. Благодаря безграничной свободе демократия представляет собою как бы рынок всевозможных образцов правления. Кто занят вопросом о наилучшем устройстве государства, тот должен идти учиться в демократию: там найдутся образцы на всякий вкус.
«В этом государстве совершенно не нужно подготовки к управлению, если желаешь управлять; нет надобности быт управляемым, если не желаешь подчиняться, ни воевать, когда воюют другие, ни заключать мир, когда другие его заключают. Если там закон тебя устраняет
______________________
1) Ibid., 556.
2) Ibid., 557.
18
от участия в суде и власти, ты можешь тем не менее, если угодно, судить и властвовать. Это ли не приятная и божественная жизнь?»
«Чем не прекрасна милость к осужденным! Не встречал ли ты когда в этом государстве людей, присужденных к смертной казни или изгнанию, которые тем не менее остаются и вращаются в его среде, величаясь как герои, словно никто того не замечает и о том не заботится?» Кто умеет ладить с народом, тот может все попирать ногами. Таковы преимущества демократии: это — «образ правления приятный, анархический (ἄναρχος) и пестрый, дающий в известном смысле равенство равным и не равным»1).
В процессе падения человека демократия представляет собою новый и крупный шаг. Олигархия олицетворяет собою господство сдержанной страсти: из бережливости олигарх воздерживается от тех удовольствий и излишеств, которые могут подорвать его благосостояние. Напротив, в демократии исчезает всякая узда. Демократический тип, в отличие от олигархического, это — тот расточительный сын, который идет на смену скупому отцу. Это — человек, который ни в чем себе не отказывает, отдается господству всякой страсти; он то предается пьянству и игре на флейте, то симулирует философа, то бросается на ораторскую трибуну, изображая государственного человека, то предается стяжанию. Это прежде всего — пестрый человек, столь же пестрый, как и само демократическое устройство.
Ясно, что демократия содержит в себе зерно своей гибели. Как и олигархию, ее губит ненасытная жажда того самого, что в ней почитается как высшее благо. За такое безусловное благо в демократии признается свобода. Опьяненная сверх меры вином свободы, демократия восстает против властей; она казнит их как
________________________
1) Ibid., 557-558.
19
преступников и «олигархов», если они кажутся недостаточно мягкими и пытаются ограничивать свободу.
Как нервны становятся здесь граждане! Малейший намек на кажущееся рабство приводит их в ярость. Они не стесняются ни писанными, ни неписанными законами, лишь бы никто и никоим образом не был им повелителем. Тех, кто повинуется властям, они презирают как раболепствующих и ничего не стоящих; тех же, кто равняет правителей с управляемыми и управляемых с правителями, они прославляют и почитают. В демократии отец равняется с сыном и боится его, и дети равняются с родителями, не стыдясь их и не почитая, «дабы быть свободными». «Учителя, боятся учеников и льстят им, ученики же презирают учителей и вообще педагогов. Молодые вступают в соревнование со старцами, равняясь с ними в словах и в делах. Старцы же снисходят к молодым, обращаясь к ним с шутками и веселыми речами, подражая им, дабы не показаться суровыми или деспотичными». Нечего и говорить, что между мужчинами и женщинами здесь господствует полное равноправие. Нравы стирают самую грань между рабами и свободными. «Насколько самые животные в этом государстве свободнее, чем в других, этому не поверит тот, кто не убедится из опыта. Самые собаки становятся подобными их господам, ослы же и лошади приучаются выступать важно и свободно, сталкивая того, кто не уступит им дороги»1).
Чтобы влиять и властвовать в демократии, нужно кадить толпе. Поэтому здесь создается атмосфера всеобщей лести. И, так как угождает массам преимущественно тот, кто льстит их низменным, животным инстинктам, то народопоклонство неизбежно вырождается в зверопоклонство. В этом Платон видит сущность демагогии современных ему софистов.
_______________________
1) Ibid., 561-563.
20
Все положения их учения «сводятся к мнениям толпы, которые она высказывает, собравшись вместе, и это они называют мудростью. Положим, кто-либо изучил движения гнева и страсти какого-либо большого, сильного и хорошо упитанного дикого зверя, как к нему подходить, как с ним обращаться, чем и как привести его в ярость и успокоить, какие он издает при каждом случае звуки, какими звуками он укрощается или приводится в бешенство. Представим себе, что человек, изучивший все это долгим опытом, при большой затрате времени, назовет это мудростью; допустим, что он возведет свои наблюдения в науку и построит из них учение, не различая в этих звериных мнениях и страстях, что хорошо и что дурно, что правда и что неправда, а назовет, сообразно со вкусами зверя, добром то, что нравится последнему, а злом — то, что ему неприятно»1). В этом, по мнению Платона, — самая сущность учения софистов.
Таким образом, в демократии создается атмосфера всеобщего взаимного развращения. Софисты развращают толпу; но и она сама в свою очередь развращает, ибо создает величайший соблазн — признавать истинным и прекрасным все то, что ей нравится, то, чему она аплодирует. Те истинные учители мудрости, которые, наперекор софистам, решаются противоречить площадным вкусам, подвергаются жестоким преследованиям. Им угрожает потеря гражданских прав, денежные взыскания и даже смертная казнь2).
Крайности соприкасаются; а потому не удивительно, что демократия таит в себе зародыши жестокой тирании. «Как в отдельном индивиде, так и в государстве чрезмерная свобода превращается не во что иное, как в чрезмерное рабство»3).
Переход этот совершается таким образом. В демо-
____________________
1) L. VI, 495.
2) Ibid., 492.
3) L. VIII, 364.
21
кратии есть три разряда людей; это, во-первых, те, кто в ней фактически господствует, — демагоги. «Из них те, кто повострее, говорят и делают; прочие же сидят вокруг ораторских трибун, шумят и не допускают, чтобы кто-либо говорил наперекор, так что, за немногими исключениями, в этом государстве все управляется этого рода людьми». Другой разряд — богатые, составившие состояние благодаря бережливости. Это — собиратели меда, то, что называется «пища для трутней».
Третий разряд — это демос, состоящий частью из людей, живущих личным трудом, частью из безработных: это — «самый многочисленный и самый могущественный в демократии класс, когда он собирается. Но собирается он не часто, разве только для добычи меда. Он его и добывает всякий раз, когда вожди народные могут отнять у имущих их состояние и разделить его между народом, удержав большую часть в свою пользу. Те же, кто подвергается экспроприации, вынуждены защищаться, как могут, обращенными к народу речами и делами. Даже когда они не стремятся к новшествам, их противники обвиняют их в кознях против народа и в олигархическом образе мыслей. В конце концов, когда они видят, что народ, нападая на них не по злому умыслу, а по невежеству, вследствие обмана клеветников, творит над ними неправды, они уже волей-неволей становятся олигархами. К этому вынуждает их тот трутень, который их жалит.
Начинаются обвинения, суды и брани. В борьбе против богатых народ обыкновенно выбирает себе в вожди кого-нибудь одного, которого он возвеличивает и лелеет. Покровитель народа, — вот тот корень, из которого рождается тиран. На нем сбывается сказание о Ликаоне, который, отведав человеческих внутренностей, превратился в волка. Повелевая послушному народу, он не стыдится убивать своих сограждан, тащит их в суды, возводя лживые обвинения, оскверняет их кровью язык
22
и нечистые уста, казнит, изгоняет, сулит прощение долгов и раздел земель. «Разве не ясно, что после этого такому человеку надлежит быть или убиту врагами, или же превратиться в тирана и стать из человека волком!»
Противникам его остается, действительно, ради самосохранения, или судебным порядком добиться его казни, или же убить его тайком. Но против этого есть испытанное средство, обычный тиранический прием: «покровитель народа требует у него телохранителей. И народ дает ему стражей, опасаясь за него и не заботясь о самом себе. Этим полагается начало той системе террора, которая превращает народного вождя в неограниченного властителя. Властью своей он пользуется, разумеется, прежде всего для того, чтобы истребить или изгнать всех своих врагов.
«В первые дни своего владычества он всем улыбается и всякого встречного ласкает, отрекается от имени тирана, дает множество обещаний в частных разговорах и публично, освобождает от долговых обязательств, наделяет народ землями, старается казаться милостивым и кротким с окружающими и со всеми. Покончив с внешними врагами, примирившись с одними, истребив других, и обеспечив с этой стороны спокойствие, он снова возбуждает войны, дабы народ нуждался в вожде. Это нужно и для того, чтобы народные массы, доведенные до бедности войной, были поглощены заботами о хлебе насущном и не имели досуга злоумышлять против правителя».
Чтобы упрочить за собою власть, тиран должен истребить все выдающееся, независимое, свободомыслящее. «Проницательным взором он должен распознать, кто храбр, кто великодушен, кто мудр, кто богат. Хочет он или не хочет, он вынужден быть всем этим людям врагом и злоумышляет против них, доколе он не «очистит» государства. Это — очищение противоположное тому, которому врачи подвергают организм: они удаляют
23
из него худшее и оставляют лучшее; он же, тиран, поступает наоборот. Иначе он не может властвовать. Он связан счастливою необходимостью или сожительствовать с ничтожным большинством, будучи даже ему ненавистным или же отказаться от жизни. И, чем больше он возбудить против себя ненависти среди граждан такими делами, тем больше он будет нуждаться в многочисленной и верной охране.
Рано или поздно он окружит себя телохранителями-рабами, коих он освободит, отняв их у господ. Граждане станут рабами своих рабов. И узнает тогда народ, «какое чудовище он родил, взлелеял и вырастил»1).
Гражданское рабство в тирании представляет собою лишь внешнее проявление внутреннего порабощения духа. Достигая крайнего своего завершения в тирании, это порабощение начинается еще в демократии. Свободная душа есть та, в которой специфически человеческое начало — разум — властвует над чувственной, животной природой. Когда это нормальное отношение извращается, когда во внутреннем мире человека воцаряется зверь, мы имеем уже не свободную, а рабскую душу. Это — то самое извращение человеческой природы, которое совершается в демократии и завершается в тирании. В каждом человеке, даже в тех из нас, которые кажутся умеренными, таится страшное, дикое, звероподобное начало. Это обнаруживается во сне, когда разумная, кроткая и господствующая часть души погружается в дремоту. Тогда, освободившись от контроля разума, пробуждается в нас звериная природа; отрешаясь от всякого стыда, она дозволяет себе всякую дерзость. В состоянии сонного опьянения совершенно исчезает грань между дозволенным и преступным: тут человеку ничего не значит совокупиться с матерью, с каким-либо другим человеком,
_____________________
1) Ibid., 565-568.
24
скотом или божеством, убить кого бы то ни было. Ни от какого питья, безумия и бесстыдства он не воздерживается.
Это превращение, совершающееся в нормальном состоянии только во сне, в тирании происходит наяву. Более того, тут, подчиняясь неограниченному господству животного, чувственного эроса, человек становится наяву таким, каким он раньше и во сне не бывал, — вором, святотатцем, торговцем невольниками, отцеубийцею.
Появление этого типа подготовляется в демократии: здесь люди приучаются забывать всякую меру и видят в нарушении всякого закона совершенную свободу. Но совершенное беззаконие, совершенный произвол и есть то, что составляет сущность тирании. Душа человека становится тираническою, когда она окончательно освобождается от всякого удержа и преисполняется безумием. Тиранический темперамент есть некоторого рода сочетание опьянения, чувственной похоти (эроса) и меланхолии.
Тираническая природа, пока она не достигнет власти, представляет собою обыкновенный тип преступника. Это — ненасытная, рабская душа; она находится под тираническою властью аффекта и, следовательно, никогда не бывает свободна, никогда не делает того, что хочет. Такие люди воистину несчастны, ибо живут под вечным гнетом тревоги и страха. Нет на свете человека, который должен был бы более бояться всего и всех, чем эти ненавистные всем злодеи. Но несчастнейшим из несчастных является злодей, достигший тиранической власти: он — первая жертва той системы всеобщего террора, которая дает ему возможность царствовать: среди враждебных ему подданных, он, спасая свою жизнь, живет как бы в темнице: ему одному во всем государстве нельзя ни путешествовать, ни наслаждаться зрелищами, подобно прочим свободным людям. Запершись в стенах своего жилища, он должен завидовать своим подданным1).
_______________________
1) L. IX, 571-579.
25
IV.
Вглядываясь в изображенную здесь картину грехопадения греческого государства, мы убеждаемся, что, несмотря на расстояние столетий, отделяющих нас от древности, многия из ценностей древняго общества, а равным образом и оценки Платона до сих пор не отжили свой век.
Теперь, как и тогда, безмерная жажда накопления богатств является сильнейшим двигателем общественной жизни, жизненным принципом капиталистического строя. Теперь, как и тогда, государство цензовое, олигархическое таит в своих недрах как бы два государства, друг другу враждебных и противоположных — богатых и бедных. Теперь, как и прежде, обостренная классовая борьба рвет на части государство и, разрушая патриотизм, угрожает его целости. По-прежнему эта борьба делает неизбежным переход от цензового, олигархического государственного строя к демократии. В современных демократиях мы видим тот же культ свободы, беспредельной, не терпящей никаких ограничений. И так же, как в дни Платона, крайность безмерной свободы склонна вырождаться в безграничный, анархический произвол; она легко переходит в противоположную себе крайность безграничного рабства и деспотизма. Тирания была естественным концом греческой демократии; но так же и демократия современная таит в себе зародыши диктатуры в монархической Форме. Народопоклонство, переходящее в зверопоклонство, софистическая демагогия, основанная на лести и боготворении пороков толпы, грабеж, экспроприация, конфискация и раздача земель, хулиганская волна, выносящая на себе тиранию, террор демократический и террор монархический, тиран, который устрашает и сам дрожит от страха, живя узником в своем дворце, — все это неумирающие чудовища, общечеловеческие типы, встречающиеся в самые разнообразные эпохи.
26
С исторической сцены исчезли те специфические особенности греческого государства, с которыми нам еще придется считаться при анализе государственного идеала Платона. Рабство, все еще не упраздненное окончательно, изменило свои Формы, и из личного стало классовым. Государство-город погребено под развалинами древней Греции. Изменил свою природу и национализм: современный национализм, оставаясь крупным Фактором политической жизни, уже не определяет собою, как в древней Греции, всего бытового уклада государства. Он существенно отличается от национализма греческого, лишавшего всех не-эллинов гражданских прав и смотревшего ка них как на варваров — рабов по природе. Наконец, в отличие от государств древних, государство современное уже не является религиозным союзом. Религиозные цели преследуются уже не им, а безусловно отличным от него, самостоятельным обществом верующих— церковью. И тем не менее сущность общественного греха, сущность уклонения общественной жизни от ее конечной цели и смысла в общем осталась та же. Все те же языческие идолы, до сих пор не пережитые, продолжают собирать вокруг себя поклонников и давать тон общественной жизни.
«Идолы (εἴδωλα), — я заимствую это выражение у Платона. Идолами он называет именно возведенные в абсолют относительные, условные ценности жизни, обманчивые подобия добра и красоты, которые люди принимают за подлинное, безусловное, добро и красоту1). «Идол» — по-гречески значит то просто образ, то обманчивый образ, призрак, привидение. Говоря об идолах толпы, Платон подразумевает именно те призраки, которым она поклоняется. Современная действительность представляется ему царством призраков. И корень этого идолопоклонства он видит во всеобщем усыплении духа.
_______________________
1) См., например, Convivium, 212.
27
В общественном сознании происходит та самая подмена подлинного, воображаемым, призрачным, которая совершается во сне. Грезить во сне или наяву значит принимать подобие предмета за самый предмет: грезят, стало быть, и те, кто принимает видимость добра и правды за самое добро и за самую правду. В действительности существует лишь единое добро, единая правда. Но для большинства людей, которые смотрят на действительность сквозь обманчивую, чувственную призму, это единство идеи раздробляется на множество разнообразных явлений. В глазах обыкновенных любопытных — людей практики и ремесленников—единое благо подменивается множеством конкретных благ. «Люди, жадные до зрения и слуха, услаждаются красками, образами и всем тем, что из них составляется; но их разум бессилен созерцать самую природу красоты и услаждаться ею. Среди множества спящих редки истинно бодрствующие, те философские природы, которые в состоянии воспринимать единство безусловнаго»1). Отсюда — та погоня за многими конкретными благами, которую мы видим в извращенных государствах, замена безусловного добра честью в тимократии, золотом в олигархии, безграничной. свободой в демократии и безграничным произволом в тирании. То озверение человека, которым завершается этот сон, составляет логическое последствие раздвоения жизни, расторжения связи между духом и телом, господства плоти и плена мысли.
Это раздвоение и этот плен, меняя Формы, в существе своем во все века — одни и те же. Вот почему, читая «Политию» Платона, так часто приходится вспоминать латинскую пословицу: mutato nomine, de te fabula narratur.
________________________
1) Civitas, I. V, 476.
28
V.
Задачи идеального государства.
В седьмой книге «Политии» Платон в ярком сравнении подводит итог своим наблюдениям над земной жизнью человеческой личности и общества.
Представьте себе глубокое подземелье, с узким выходом к свету во всю его длину. Пещера наполнена людьми, узниками, которые томятся в ней с детства: они прикованы за ноги и за шею спиною к выходу, так что не могут ни двинуться с места, ни повернуть головы. Вдали и сверху над выходом, стало быть сзади узников, светит огонь. Вдоль пути, ведущего к огню, возвышается невысокая стенка, подобная тем ширмам, над которыми фокусники показывают зрителям свои фокусы. Над стенкой сзади пленников люди проносят различные предметы и фигуры — статуэтки людей и животных, при чем из проходящих одни говорят, другие же молчат. Узники не видят ни выхода, ни огня, ни проходящих сзади людей, ни проносимых ими предметов. Они могут созерцать только заднюю стену пещеры, а на ней — тени предметов, проносимых между ними и светом. Не видя в течение всей своей жизни ничего кроме этих теней, они очевидно будут принимать тени за самые предметы, за подлинную действительность. Если они услышат эхо от задней стены, повторяющее голоса проходящих сзади, невидимых для них людей, им естественно покажется, что говорят движущиеся на стенах тени: они ничего не будут признавать истинным, кроме этих теней и этих отражений звука.
Если мы внезапно раскуем узника, заставим его выпрямиться во весь рост и повернуться к свету, мы причиним ему боль. Ослепленный ярким светом, он не будет в состоянии распознавать тех предметов, коих тени он прежде ясно видел. Что же ответит узник тому, кто скажет, что раньше он видел пустяки, а
29
теперь видит подлинно сущее? Не сочтет ли он, что именно теперь его обманывают, а что виденное раньше было истиною? Если же кто заставит его разом пройти весь трудный скалистый путь из пещеры и вытащит к свету солнечному, он испытает муку, вознегодует на влекущего и потеряет окончательно способность зрения.
Нужна привычка, постепенное воспитание, чтобы сделать узника способным смотреть вверх. Сначала ему всего легче распознавать тени, потом отражения, подобия, (εἴδωλα) людей и других предметов в воде; потом он уже может обратиться к самым предметам; засим он устремит свой взор к тому, что на небе, рассматривая самое небо ночью, созерцая месяц и звезды. Наконец, он будет в состоянии видеть уже не отражение солнца в воде, не изображение его в чем-либо другом, но самое солнце, само в себе н на своем месте. Тогда ему откроется, что от солнца идут смены времен дня и года, что солнце в видимом мире всем управляет, будучи некоторым образом всему причиною. И, вспомнив о прежнем жилище, о товарищах по узам и о тамошней мудрости, он почтет себя блаженным, а к тем восчувствует жалость.
Там среди узников доставались почет и хвалы в удел тому, кто яснее других распознавал и удерживал в памяти тени; но душа, вырвавшаяся из плена, не почувствует зависти к наиболее почитаемым и властвующим в пещере: она выскажется о них так, как говорит Ахилл в стихах Гомера о своем пребывании з аду:
«Лучше поденщиком быть и возделывать поле чужое, Быть в услуженье у бедного, скудно живущего мужа, Чем надо всеми погибшими властвовать здесь мертвецами».
Есть два рода ослепления: есть ослепление толпы — тех низменных природ, которые не могут созерцать солнечного света без помрачения взора. Другое дело — ослепление истинного философа. Человек, привыкший к со-
30
зерцанию солнечного света, испытывает этот недуг, когда возвращается в пещеру. Он не сразу овладевает своим зрением; пока он не привыкнет снова распознавать тени, он дает повод к насмешкам: говорят, что из своего путешествия кверху он вернулся с поврежденными глазами, и что не стоит предпринимать новых восхождений: так, что всякого, кто попытается других расковать и вывести на свет из мрака, узники убьют, если только смогут наложить на него руки.
Такова противоположность между нашим земным жилищем и тем мыслимым миром, куда надлежит держать путь душе, чтобы найти себе достойное местопребывание. Солнце этого мыслимого мира — его вершина — есть идея блага. «Она с трудом дается созерцанию. Но, увидав ее, должно судить о ней, как о причине всего справедливого и прекрасного. В видимом мире она — свет и источник того, что им управляет. В мире же мыслимом она — владычица (κυρία) — источник истины и разума. На нее должен устремлять свой взор всякий, кто хочет разумно действовать в частной и общественной жизни»1).
____________
Этими словами определяется сущность той задачи, которую Платон пытался разрешить в своей «Политии». В блестящей и глубокомысленной статье В. С. Соловьева «Жизненная драма Платона» мы находим к сожалению, довольно поверхностное суждение об этой задаче. По мнению Соловьева, «так как настоящее, глубокое исправление и полная помощь — через перерождение человеческой природы — оказались ему (Платону) не по силам, то он берет более поверхностную, но за то и более доступную задачу — преобразование общественных отношений».
Что, вопреки Соловьеву, для Платона идет речь не о преобразовании только, а о полном перерождении человеческой природы, это видно даже из заключительных слов
_________________________
1) L. VII, 514-517.
31
только что приведенного текста. Нужно покончить с неправдой жизни частной и общественной, осуществить в ней безусловное добро. Иначе говоря, надо расковать узника и возвести его из темницы на самую вершину мира мыслимого: всем сердцем и умом он должен прилепиться к идее блага. Это ли не полное перерождение человеческой природы? Чтобы не оставить в этом ни малейшего сомнения, Платон так поясняет свое сравнение земной жизни с пещерою:
«Сказанное теперь значит, что, как глаз (пленника) не может повернуться от мрака к свету иначе, как вместе со всем телом, так же и присущая душе каждого сила и орган познания должен обратиться вместе со всей душой от того, что рождается, доколе душа не станет способною выносить созерцание истинно сущего и притом самой светлой его точки: это, как мы уже сказали, есть благо»1).
Иначе говоря, Платон требует, чтобы человек совершил поворот от мира тленного к безусловному, сверхчувственному благу всею душою. В «Политии» это — не какая-либо случайная обмолвка, а основная мысль всего диалога. Весь социальный и политический строй идеального государства должен выражать собою этот поворот души. Вспомним, что вся «Полития» — не что иное, как трактат о правде — справедливости, а сущность правды именно в том и заключается, чтобы, как в человеческой душе, так и в общежитии бессмертное начало господствовало над смертным. Для этого требуется полное перерождение действительной жизни, где между духом и телом существует, как раз обратное отношение.
В дальнейшем изложении нам придется убедиться в негодности тех средств, которыми Платон думал воспользоваться для разрешения поставленной им жизненной задачи. Но пока мы можем оставить вопрос о средствах
_______________________
1) Civitas, 1. VII, 518.
32
в стороне. Нам предстоит выяснить самую задачу, самую цель личной и общественной жизни, как ее понимал Платон.
Для Философа, который считает существующие формы общественной жизни основанными на неправде, возможно двоякое отношение к окружающей его действительности: или бегство от мира, или попытка преобразовать мир. С самой кончины Сократа в душе Платона боролись оба эти стремления.
Говоря словами Соловьева, трагизм этой кончины для Платона состоял «в том, что лучшая общественная среда во всем тогдашнем человечестве — Афины — не могла перенести простого, голого принципа — правды; что общественная жизнь оказалась несовместимою с личной совестью; что раскрылась бездна чистого, беспримесного зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась единственным уделом, а жизнь и действительность отошли ко злу и лжи. Как же жить в этом царстве зла, жить там, где праведник должен умереть»1)?
Казалось бы, для верного Сократу ученика бегство от мира являлось неизбежным. «Платон», говорит Соловьев, должен был по убеждению бежать от мира; с этим связалось бегство по принуждению из родного города. Он поселяется на несколько лет в Мегаре с другими сократовцами и вдали от всяких дел предается чистой теории, математическим и диалектическим задачам и упражнениям»2).
Однако, бежать в Мегару еще не значило бежать от мира. Весь изложенный выше Платонов анализ форм действительной жизни указывает, что для бегства от мира в его дни был только один единственный путь—смерть. У древнего греческого философа, в отличие от христианских отшельников, не было монастыря. Поэтому здесь,
_____________________
1) Соловьев, собрание соч. т. VIII, стр. 266.
2) Ibid., стр. 271.
33
в этой жизни ему бежать было некуда. Диалектические и математические упражнения, очевидно, не спасали от мира: наполняя ум, они оставляли нетронутым сердце. Их одних было совершенно недостаточно, чтобы осуществить тот поворот всего человеческого существа к умопостигаемому солнцу, о котором говорит «Полития». Для души Мегара, очевидно, была не лучшей темницей, чем Афины.
Отсюда — естественный соблазн — освободиться от «темницы» самым прямым и радикальным способом. «Есть повод догадываться», говорит Соловьев, «что и Платону являлась мысль о самоубийстве»1). Соловьев не высказывает своих оснований; но догадка оправдывается текстом Федона, того самого диалога, который повествует о смерти Сократа. Тут мы видим, что мысль о самоубийстве обсуждалась Платоном именно в связи с этой смертью. Для философа тело — только помеха. Смерть—венец всех его жизненных стремлений. Таков смысл предсмертных речей Сократа в Федоне — той радостной «лебединой песни»2), которую он поет за несколько часов до своей кончины. Но, высказав мысль о желательности смерти для философа, Сократ тотчас спешит прибавить оговорку: «однако, он сам не наложит на себя руку; ибо, как говорят, это не дозволено»3). И на вопрос собеседника, почему не дозволено, он отвечает: «в самом деле, тебе кажется удивительным, что людям, которым лучше умереть, не подобает самим себе причинять смерть, а надлежит ждать другого благодетеля. Однако, мы во власти богов, которые о нас пекутся и составляем их собственность. Посему надлежит «убивать себя не иначе, как если бог нас к тому вынудит, как в настоящем случае»4) (Сократ разу-
______________________
1) Ibid., стр. 268.
2) «Лебединая песнь» — подлинная характеристика самого Платона, в Федоне.
3) Ibid., 61.
4) Ibid., 62.
34
меет необходимость выпить яд по приговору афинских судей).
Отсюда ясно, что идеализм Платона с самого начала не был таким отрешенным от жизни, как думает Соловьев. Поставленный смертью Сократа вопрос о самоубийстве тотчас решается для него в том смысле, что человек прикреплен к своей земной темнице своим провиденциальным назначением, — тем делом, которое он должен совершить в качестве собственности божества; тут же Платон сравнивает самоубийство с бегством неразумного раба от доброго господина1).
Характеризуя точку зрения, выразившуюся в Федоне и других диалогах той же эпохи (Горгий, Менон, 2-я книга Государства, Кратил, Феэтет, Парменид), Соловьев говорит между прочим:
«Если этот идеализм, держащийся на почве противоположения между умопостигаемой областью истинно сущего и обманчивым потоком чувственных явлений как «несущего», куда всецело относится всякая житейская и общественная практика, — если такую отрешенную точку зрения прямо сопоставить с последующими стремлениями Платона к социально-политическим преобразованиям, с его упорными попытками не только определить истинные нормы общественных отношений, но и воплотить эти нормы в устройстве действительного, образцового государства, то представляется явное противоречие, непроходимая пропасть»2).
В действительности, непроходимой пропасти между диалогами Платона не существует. Соловьев упустил из вида то существенное различие между динамическим идеализмом Платона и отрешенным идеализмом его друга Евклида, основателя мегарской школы, против которого Платон полемизирует уже в Софисте. Мегарская школа
______________________
1) Ibid.
2) Собрание соч., VIII, стр. 271-272.
35
учила, что идеи совершенно отрешены от движущейся области явлений, а потому безусловно чужды движению. Напротив, для Платона божественная идея есть движущая сила, которая проникает в явления и действует в них. В Софисте он возражает мегарцам, что, если бы идеи были неподвижны, они были бы непознаваемы, безжизненны и неразумны. Познавать, — значит действовать на познаваемое. Если мы познаем идеи, то, стало быть, они находятся по отношению к познающему уму в страдательном состоянии, движутся по отношению к нему. В качестве совершенного бытия, святого и ценного, идеи живут, мыслят и движутся1).
В Федоне Платон прямо изображает их, как движущие причины вселенной, объясняет ими ее целесообразное устройство: рассуждение об идеях здесь начинается словами: нам «надлежит исследовать причину возникновения и уничтожения»2). Тут же высказывается сочувствие мысли Анаксагора, что разум есть устроитель вселенной и причина всего генезиса; здесь же мы находим упрек Анаксагору за то, что, при объяснении явлений, он не делает из выдвинутого им разумного начала никакого употребления, а становится на материалистическую точку зрения, не дающую возможности понять целесообразного устройства существующего, его смысла3). И, наконец, Платон Формулирует свое заключение, что есть нечто само по себе прекрасное и благое, что служит воистину причиною (αἰτὶα)4). Короче говоря, это — та самая идея блага, которая, как мы видели выше, признается в «Политии» причиною всего прекрасного и справедливого и источником света в мире видимом.
Переход от «Софиста» и «Федона» к «Политии» таким
___________________
1) Sophista, 248-249, Cp. Zeller, Die Philosophie d. Griechen, II Th., 1 Abth. 3 Aufl., 218-219; 574-584.
2) Phaedo, 95.
3) Ibid., 97-98.
4) Ibid., 100.
36
образом ясен. Точка зрение «Политии» представляет собою не что иное, как дальнейшее развитие начал, выраженных в двух первых диалогах, прямой логический вывод из них. Если идеи вообще и в особенности идея блага суть двигатели всего существующего, начало целесообразного устройства вселенной, то им подобает быть двигателями также в личной и в общественной жизни человека. Они и здесь должны явиться, как живые силы.
Если в Федоне Провидение положительно воспрещает философу самоубийство и предписывает ему ради какого-то благого дела не расставаться с телом, доколе его не освободит божество, то «Полития» прямо выясняет, в чем заключается это дело философа на земле. Это дело — само наилучшее общежитие: «ибо в нем будут господствовать воистину богатые, — не золотом, а тем, чем подобает быть богатым блаженному, — благою и разумною жизнью; если же нищие и алчущие для себя частных благ приступят к общественному служению с целью урвать оттуда себе благо, то это недозволительно. Ибо, раз власть станет предметом спора, начнется внутренняя, домашняя война, которая погубит как их самих, так и прочее государство»1).
Богатство и бедность! Мы помним, что это — тот самый контраст, из которого, по учению Платона, рождается любовь, эрос, посредник между небом и землею. Теперь мы видим, что эта самая посредническая задача в «Политии» вменяется в обязанность Философу. С небесной высоты умозрения он должен снизойти к бедным и уделить им от своего богатства. Как мог Соловьев утверждать, что в «Республике» Платон отступил перед своей высшей жизненной (эротической) задачей! Это значит игнорировать в преобразовательных планах философа самую их сущность!
В дальнейшем изложении мы увидим, в чем заклю-
_______________________
1) Civitas, I. VIII, 521.
37
чаются философские противоречия утопии Платона. Пока же для нас ясно, что у Соловьева они изображены не совсем точно.
VI.
Государство, управляемое философами! Вот мысль, которая в наши дни кажется наиболее странною, парадоксальною: теперь, как и в дни Платона, она продолжает служить темою для насмешек. В лучшем случае она прощается Платону, как чудачество, юродство гения. Едва ли многие считают идею Философского государства заслуживающею серьезного внимания. Между тем эта «причуда» уже потому требует обстоятельного анализа, что она неразрывно связана с самой сущностью платонизма, с теми ценными его сторонами, которые никогда не утратят значения.
Платон сам отдавал себе ясный отчет в парадоксальности своего тезиса, знал все вызываемые им возражения и насмешки, начиная с указаний на полную непрактичность Философа, на его неприспособленность к общественной деятельности. И, странное дело, те, кто в наше время повторяют эти насмешки, сами того не зная, большею частью заимствуют их из произведений самого Платона. Так, напр., именно благодаря Платону мы знаем классический, оставшийся до нашего времени ходячим анекдот о Фалесе: он был осмеян фракийской рабыней за то, что, наблюдая звезды на небе, свалился в колодезь. Отсюда же взято вошедшее в поговорку изречение: «Философ хочет видеть то, что на небе и не замечает ближайшего, что у него под ногами»1).
В Феэтете и в Горгии дается также изображение философа. С юных лет он не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место публичных собраний. Законы и постановления ему не-
______________________
1) Theaetetus, 174.
38
известны, участвовать в каких-либо союзах, собраниях, политических обедах и добиваться власти ему не грезится и во сне: «в действительности он живет и вращается в государстве только телом; ум же его все это мало ценит и ни во что не ставит; но, говоря словами Пиндара, он всюду проникает, измеряя недра земли и то, что над нею, возносится над небом, изучая астрономию, везде исследует природу сущего и не спускается к близлежащему». Понятно, что философ, ничего не смыслящий в земных, рабских делах, не умеющий завязать своего дорожного мешка, ни приправить кушанья, ни произнести льстивую речь, возбуждает насмешки своею беспомощностью. Но это юродство и беспомощность в житейском обусловливается тем, что он влагает душу в высшую мудрость; он один обладает тем знанием правды, которое возносит его высоко над царями. Если бы все думали, как он, среди людей царил бы мир и было бы меньше зол на земле. Но зло не может уничтожиться; ибо противоположное добру по необходимости должно существовать всегда. Однако, оно не может иметь место среди богов, а в силу необходимости преисполняет смертную природу и эту жизнь. Поэтому нужно стремиться как можно скорее «бежать отсюда туда». Бегство заключается в возможном уподоблении божеству; уподобление же состоит в том, чтобы становиться праведным и святым согласно с разумом.1).
По-видимому, эта проповедь «бегства от мира» в Феэтете находится в полном противоречии с позднейшим требованием — господства философа над государством в «Политии». Там проповедуется как раз то, что, по словам Феэтета, «не грезилось философу и во сне». Однако, пропасти между двумя диалогами и тут не существует. В действительности мы имеем дело не столько с противоречием между двумя диалогами и двумя эпохами жизни Пла-
______________________
1) Ibid., 173-176; ср. Gorgias, 484.
39
тона, сколько с внутренним противоречием всей его философии, проникающим всю его литературную деятельность после смерти Сократа. Уже в Феэтете сталкиваются два непримиренные требования — бегства от мира и осуществления Философского идеала в мире. Уже здесь высказывается мысль о необходимости деятельной борьбы против общественного зла. Нельзя допускать, говорится здесь, чтобы неправедный и нечестивый превозмогали своим лукавством: ибо они величаются своим срамом и считают себя не пустыми болтунами, не бременем земли, а людьми, коим подобает спасаться в государстве. Изобличение — им самим на пользу: ибо они не знают, что истинное наказание — не удары и не смертная казнь, коих нередко избегают даже виновные, а те загробные муки, коих неправедному избежать невозможно1).
Вот препятствие, которое задерживает бегство Философа от мира: личная задача самоспасения философа неразрывно связана с задачею спасения ближнего. В «Республике» Платон только глубже сознал и точнее формулировал эту связь; этим сама собою наметилась задача философского государства — того единственного образа правления, где философ может явиться в роли спасителя. Здесь он прямо говорит, что, пока счастливый случай не отдаст власть в руки философов, ни государство, ни государственное устройство, ни отдельный человек не станет совершенным2).
За редкими исключениями не спасется и сам философ: ибо существующие формы государственной жизни создают ту атмосферу всеобщего развращения, среди которой спасение отдельной личности становится почти невозможным. Философская природа здесь подвержена порче и гибели более, чем какая-либо другая; чем богаче ее духовные
_______________________
1) Theaetetus, 176-177.
2) Civitas. I; VI, 499: οὒτε πόλις, ουτε πολιτεία, ουδὲ γ’ανὴς ὁμοίως μῄποτε γένηται τέλεος.
40
дары, тем вероятнее и глубже ее падение. Люди посредственные, ограниченные неспособны вообще к чему-либо великому; напротив, даровитые — те самые, которые причиняют государству и частным лицам или наибольшее благо или наибольшее зло1).
Последнее случается чаще, потому что природа даровитая, Философская подвержена великим искушениям, которых простые смертные не знают. Источником искушений являются все те отдельные качества, которыми она обладает. С ясным умом истинный искатель правды сочетает непременно умеренность в отношении к чувственным благам; он щедр по природе, потому что люди возвышенных стремлений неспособны прилепиться душою к низшим, материальным ценностям жизни; с этим обыкновенно сочетается и мужество, потому что искатель сверхчувственного блага презирает опасности, угрожающие телу.
И вот, когда человек с этими редкими дарами появляется в извращенной общественной среде, все соединяется, чтобы отвлечь его от его высокого призвания. С детства он — первый между сверстниками; в зрелом возрасте он становится центром общественного внимания; близкие и сограждане стараются использовать его дарования для устройства их дел; и опасность для него возрастает, когда с дарами духа соединяются такие внешние преимущества, как богатство, благородное происхождение, могущественная родня, красота и крепкое телосложение. Ему со всех сторон льстят; его соблазняют почестями и славою. Положим, что при этом он—гражданин могущественного государства; мудрено ли, если им овладеет безмерное самомнение и честолюбие; удивительно ли, если он, преисполнясь тщеславием, возомнит себя устроителем всех дел как эллинов, так и варваров!
Допустим, что он восчувствует влечение к мудрости,
______________________
1) Civitas, VI, 495.
41
к философии! Что станут делать те, в чьих глазах он тем самым становится негодным для общественной жизни? Очевидно, они сделают все на свете, чтобы этому помешать; все будет пушено в ход, начиная с уговоров, с частных интриг против его руководителей в философии и кончая судебными преследованиями против последних. Легко ли при этих условиях остаться верным мудрости?
Для развития и роста философская природа нуждается в подобающей умственной пище. Посеянное на чуждой ему почве, семя мудрости рискует заглохнуть. Какое же духовное питание может получить философ среди общества, по существу враждебного мудрости? Здесь верховным критерием всего прекрасного и ценного в искусстве, в политике и в науке являются грубые площадные вкусы, суждения толпы; последняя развращает своими похвалами и порицаниями, оказывает неимоверное давление. Толпа по самой своей природе враждебна философии и осуждает философов. Нравиться ей может лишь тот, кто пленяется многими благами, многими прекрасными предметами: до понимания единой сущности прекрасного она никогда не возвышается1).
В этой атмосфере гибнут не только философы: чахнет и сама философия. Когда люди одаренные, призванные к ней, отвлекаются от нее внешними соблазнами, осиротевшая мудрость становится добычей недостойных поклонников. Из тщеславия к ней обращаются низменные, вульгарные души, люди без способностей; это — те, у кого не только тело, но и душа искривлена низким ремеслом: их соблазняет тот относительный почет, которым окружена философия по сравнению с ремеслами. Получается тип дилетанта, выскочки в философии: он напоминает лысого кузнеца, который, сколотив себе деньжонки, только что освободился от оков рабства и
____________________
1) L. VI, 495-495.
42
омылся в бане: надевши новое платье и, разукрасившись как жених, он надеется вступить в брак с дочерью своего впавшего в бедность и одиночество хозяина. Каких произведений можно ждать от таких людей: что они могут дать, кроме подделок и недостойной софистики!1).
Софистика пользуется успехом, а истинно философская природа, не находя себе сочувствия и отклика, мельчает и гибнет. Истинные философы, достойные искатели мудрости, составляют в таком обществе редкую случайность. Это — или изгнанники, для которых не нашлось убийц, или великие умы, родившиеся в каком-либо маленьком городе, который не открывает широких горизонтов для их деятельности, или люди, коим болезнь помешала заниматься государственными делами. Демонических личностей, как Сократ, не стоит принимать в расчет, так как в своем роде Сократ был единственным: кроме него никто из современников или живших ранее не слышал голоса предостерегающего демона2).
Философ — божий человек, насколько возможно человеку стать божественным: ибо он живет в божественном и прекрасном3). Оттого-то он подвержен клевете; он одинок и затерян среди людей, как среди диких зверей: он не может ни стать соучастником в их неправде, ни противостать один их звериным инстинктам; он не в состоянии принести пользы ни другим, ни самому себе.
Отсюда — соблазн для философа — уйти от общественных дел, искать спокойствия в уединении частной жизни, укрыться под кров от бури и непогоды. Видя, как другие погружаются в беззаконие, он почтет себя
_____________________
1) Ibid., 1, VI, 495-496.
2) Ibid., 1. VI, 492-493, 496.
3) Ibid., 500.
43
счастливым, если сам проведет земную жизнь в чистоте от неправды и нечестия и расстанется с нею, полный радостной надежды.
Это — не меньшее из того, что может совершить философ, но и не наибольшее. Ибо только «в соответствующем ему государстве он сам даст наибольший рост и вместе с своим личным благом спасет общее»1).
VII.
Цель идеального государства и средства ее осуществления.
Парадокс социальной утопии Платона теперь становится нам понятен. Среди мира, где правда не живет, среди общества, по существу враждебного мудрости, философ бессилен и беспомощен, й, тем не менее, с его мудростью и силой связана единственная надежда на спасение этого общества. Ибо он — единственный обладатель откровения Безусловного, той самой правды, которая спасает. Вот почему «вышний город» в учении Платона является в виде города философов.
Толпа ненавидит философов и не верит им. И, однако, Платону ясно, что «государство не будет когда-либо счастливым, если его не начертают живописцы, пользующиеся божественным первообразом».2).
Задача спасения связывает людей в одно целое; поэтому в одиночестве не достигнет спасения и сам философ: для спасения отдельной личности нужно возрождение всей ее общественной среды. Недостаточно, чтобы человек повернулся всем своим существом от тленного к нетленному: необходимо, чтобы вместе с ним все общество совершило такой же подъем и поворот; необходимо вообще вместить божественное содержание в человеческие формы, сделать человеческую жизнь «богоподобною и
_______________________
1) Ibid., 500; 496-497.
2) Civitas, 1. VI. 500.
44
божественною». В этом и состоит задача идеального государства1).
Мы видим здесь надежду, которая не только не находит оснований и опоры в современной Платону действительности, но не умещается даже в рамки его собственного миропонимания. Тут есть не только явное несоответствие, но и коренное противоречие между целью мыслителя и средствами, которыми он может располагать, несоответствие, глубоко сознанное самим Платоном. Никто лучше Платона не изобразил противоречие между политической задачей философа и его наклонностями: нужно перевоспитать эти наклонности, чтобы сделать философа способным к управлению. Тип правителя философа заведомо для Платона не существует, а только должен быть создан; что же касается других политиков, то отсутствие у них истинной мудрости при безмерном самомнении было разоблачено еще Сократом2), который за то поплатился жизнью. Круг наблюдений Сократа был ограничен родным городом — Афинами; но Платону, который много путешествовал и наблюдал, пришлось убедиться, что политиков, соответствующих его требованиям, вообще нет на свете: в действительности существуют или правители антифилософского, спартанского типа, или олигархи, поглощенные погоней за деньгами, или демагоги-зверопоклонники или же, наконец, человек, ставший волком, — тиран.
Однако, от несуществования чего-либо нельзя заключать к невозможности того, что в данный момент не существует. Поэтому Платон пытается обосновать возможность идеального государства. — Среди потомков царей и династов случайно могут оказаться люди с философскими дарованиями3). Им трудно устоять против соблазнов и спастись от растлевающего действия среды; но вряд ли кто-нибудь станет утверждать, чтобы за все время существо-
________________________
1) Ibid. 501.
2) Apologia, 21.
3) Civitas, VI, 502.
45
вания государства ни один не мог спастись. Если же спасется хоть один, и государство его послушается, то может осуществиться все, что кажется теперь невероятным. Если этот правитель начертает законы и учреждения идеального государства, то возможно, что граждане за ним последуют. Если мы убеждены в целесообразности такого устройства, разве невозможно, чтобы в этом убедились и другие?1).
Все эти «если» показывают, что для осуществления идеального государства необходимо накопление ряда счастливых и притом невероятных случайностей: нужен несуществующий правитель, который «очистит государство», превратит существующие учреждения и нравы в tabula rasa, что, по словам Платона, не легко2), и народ, который послужит пассивным материалом для нового радикального переустройства. Мало того, даже если оно осуществится, идеальное государство все-таки останется случайностью. Над ним тяготеет рок: «трудно измениться государству, таким образом устроенному; однако, так как все, что рождается, неизбежно гибнет, то и это устройство не пребудет во все времена, но разрушится»3).
Случайным в учении Платона представляется нечто гораздо большее, чем его Философское государство: случайно то самое, что для него составляет цель жизни — спасение человека. Он прямо говорит, что спастись при существующем общественном состоянии человек может не собственными силами, а только божественною помощью4). Для спасения надо преодолеть сопротивление не только человеческой, но и всей земной природы. А это — чудо, для которого в философии Платона нельзя найти ни объясне-
______________________
1) Ibid.
2) Ibid. 1. VI, 501.
3) Ibid. 1. VIII, 546.
4) Ibid. 1. VI, 492-493: εὖ χρὴ εἰδέναι, ὅτιπερ ἂν σωθῇ τε καὶ γένηται οἷον δεῖ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει πολιτειῶν, θεοῦ μοῖραν αὐτὸ σῶσαι λέγων οὐ κακῶς ἐρεῖς.
46
ний, ни оснований. Ибо он изобразил нам с одной стороны землю, по самому существу своему навеки оторванную от неба, по самой природе своей осужденную на вечную суету, на нескончаемую бессмыслицу рождения и умирания, — а с другой стороны — небо, бессильное поднять до себя землю и воплотиться в ней. Противоречие социальной утопии Платона коренится в самых основах его миросозерцания: он признает непримиримую противоположность двух мировых начал и ставит перед философом-правителем задачу, которая предполагает возможность их примирения.
Чтобы достигнуть совершенного богоподобия и божественности, человек должен стать вполне бессмертным. И вот в Федре Платон прямо говорит, что бессмертие предполагает нерасторжимое, вечное соединение души с телом. Существо, состоящее из бессмертной души и смертного тела называется потому самому смертным; «бессмертным же мы называем божество не в силу какого-либо продуманного рассуждения; но, не видя его и не мысля о нем точно, мы воображаем его некоторым бессмертным существом, которое обладает душою и телом, навеки сросшимися между собою»1).
Это совершенное бессмертие, которое рисуется философу только в воображении, в минуту вдохновения, оказывается недостижимым для человека; неосуществимо и совершенное, действительное соединение его с божеством. Человеческая душа в системе Платона изображается в виде вечного странника, который никогда не достигает вполне своей цели, а потому никогда не находит окончательного успокоения. В лучших, избранных душах небесный эрос растит крылья, на которых они поднимаются к небу. Полет этот начинается и готовится уже здесь, на земле, но завершается лишь после смерти, когда душа освобождается от телесных оков. Тут
______________________
1) Phaedrus, 246.
47
душа, овладевая крыльями, взлетает к жилищу богов; там, в созерцании красоты, мудрости и блага крылья крепнут и растут; но соприкасаясь с божественным миром в созерцании, душа не пресуществляется в него и не увековечивается в нем. Она не освобождается от влечения к телу и вновь ниспадает на землю; здесь она забывает воспринятые откровения и теряет крылья. Потом она проходит через нескончаемые душепереселения, опять вспоминает забытый горний мир, снова растит крылья, опять поднимается и падает и т. д. до бесконечности. Иначе говоря, она обречена на бесконечное круговращение жизни, где цель ее никогда вполне не достигается, ибо смерти здесь — нет конца1).
Весь мировой процесс представляет собою тот же порочный круг. Это — нескончаемое стремление, которое никогда не достигает цели: ибо цель его заключается в заполнении пропасти, которая никогда не может быть заполнена. Цель всего того, что рождается, заключается в достижении истинного бытия, в осуществлении непреходящей сущности: «всякое отдельное рождение совершается ради отдельных сущностей; весь же генезис вообще совершается ради всего сущего вообще»2). Однако, это — совершенно недостижимый конец, ибо сущее не может войти в поток явлений: говоря словами Тимея, сущее — это «то, что всегда есть и никогда не рождается»; наоборот, наблюдаемый нами мир есть «то, что рождается и умирает, но никогда воистину не есть»3). Весь этот мир в непрерывной смене возникающих и исчезающих явлений стремится осуществить божественную идею, воплотить ее в себе; но он никогда не успевает в своем стремлении, а производит беспрерывно умирающие формы — нечто среднее между бытием и не бытием4). Идея «не
________________________
1) В различных мифических образах этот процесс круговращения душ изображается в Федре 246-249 и в Республике, 1. X, 614-621.
2) Philebus, 54.
3) Timaeus, 27-28.
4) Сіvitas, 1. V, 479.
48
рождается и не умирает, не воспринимает в себя чего-либо другого, не переходит сама во что-либо другое; она недоступна зрению и другим чувствам и созерцается только мыслью»1). Иначе говоря, божественное невоплотимо в материи.
Выше было приведено место из «Софиста», где идеи определяются как причины явлений, как силы, которые движут и сами движутся. Но, во-первых, у Платона не указано, как это учение о движении идей согласуется с только что цитированным текстом Тимея, где в идеях не допускается никакого изменения или перехода; во-вторых, действие идей на мировой процесс во всяком случае представляется весьма поверхностным: вместо того, чтобы осуществлять в себе идею, мир только подражает ей, отражает ее во множестве единичных явлений, созданных по ее образу и подобию. Далее, эти подобия идей в чувственных явлениях — не более как призраки, тени, обманчивые образы. Идею нельзя узнать в ее отражениях: здесь она является не в первообразной своей чистоте, а в двусмысленном сочетании с противоположными ей определениями и качествами. Так, например, нет ни одного единичного явления, которое бы выражало в себе безотносительную красоту или безотносительную справедливость; но каждое бывает в одном отношении прекрасным, в другом — безобразным, в одном отношении справедливым, — в другом — несправедливым2). Конкретные явления, во множестве разнообразных образов воспроизводящие идею, которая сама в себе, едина, отражают ее до того неточно и неполно, что мы не могли бы ее познать путем обобщения явлений, путем отвлечения от них; душа наша вообще не могла бы познавать идей — первообразов, если бы она не могла созерцать их непосредственно, до чувственного опыта3).
________________________
1) Timaeus, 52.
2) Civitas, 1. V, 479.
3) Phaedo, 74; Parmenides, 13
49
Божественные идеи существуют сами в себе и по себе (αὐτὰ καθ᾽ ἑαυτὰ), отдельно и независимо от явлений1). С другой стороны, и материя существует независимо от идей. Правда, Платон определяет материю как небытие, отсутствие всяких качеств. Но этому противоречит то, что, по его учению, материя оказывает сопротивление идее, затемняет и искажает ее в явлении, дробит ее в отражении на множество образов, является вообще источником чуждого идее множества и движения. Вообще, мир материальный противолежит миру идеальному, божественному как вечная граница: идея бессильна преодолеть его сопротивление. Этому бессилию идеи в мироздании совершенно соответствует немощь божьего человека — философа в государстве и зависимость самого государства от слепого случая.
В своем стремлении заполнить пропасть между двумя мирами, Платон воздвигает между ними цепь посредников. Это, как мы уже видели, эрос, мировая душа, всякая вообще бессмертная душа. Особенность души в том и заключается, что она может жить двоякою жизнью — подниматься в созерцании к божественному и жить в смертном теле. Но эти посредники не исполняют основной своей задачи и назначения. В душе, как и в эросе, оба начала — земное и горнее, телесное и духовное, не проникают друг друга, не сочетаются в неразрывном, вечном единстве, а спорят между собою. И спор не находит себе разрешения. Небо сияет в своей вечной, равнодушной красоте, отрешенной от всего земного. А земля остается во власти смерти и тления.
При этих условиях попытка осуществить вышний город на земле — в корне противоречива и тщетна. У Платона она — не более, как покушение с негодными средствами.
________________________
1) Parmenides, 133.
2) χωρισταὶ, по выражению Аристотеля.
50
VIII.
Духовное и материальное начало в системе Платона борются между собою и ограничивают друг друга, но не в состоянии окончательно победить одно другое. Поэтому вселенная представляется Платону как бы результатом некоторого рода компромисса между тем и другим: «мир родился из смешения разума и необходимости»1). Его идеальное государство представляется таким же двойственным, смешанным созданием: в виду непреодолимого сопротивления материи Платон вынужден идти на компромисс, довольствоваться относительным и пользоваться средствами, не ведущими к цели, противоречащими ей. При этих условиях предметом компромисса неизбежно становится то самое, что по самой природе своей компромисса не допускает, — то, в чем Платон видит безусловный смысл существования.
В его «Политии» поражает прежде всего контраст между универсальной, общечеловеческой задачей, которую ставит себе философ, и теми ограничениями, которым она подвергается на практике. Торжество духа над материей — вот смысл всего существующего. Бессмертие, увековечение человека в Боге, вот цель всякой вообще человеческой жизни. Однако, на практике этот разум платоновой философии вступает в сделку с необходимостью; универсальная, общечеловеческая цель подменивается задачей узко-национальною и узко-политическою. Спасение оказывается уделом не всех людей, а только — избранного меньшинства.
В идее царство философов — для всех благодеяние: без него невозможно спастись ни государствам, ни вообще человеческому роду (α᾽νθρωπίνῳ γένει)2). И, однако, этот вышний город у Платона замыкается в тесные этнографические
______________________
1) Timaeus, 48: μεμιγμένη γὰρ οὖν ἱ, τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστὰσεως ἐγεννὴθη.
2) Civitas, 1. V, 473.
51
и географические пределы. Он прямо говорит, что это — эллинский город1), и тем самым отмежевывает его от царства необходимости, куда входят варвары, т.-е. все прочее человечество. Основанием для такого отмежевания служит не какое-либо нравственное требование, вытекающее из философского идеала, а чисто материальный, физиологический факт: эллины — по природе друзья и родные: варвары же по природе (φύσει) — чужие и враги. Поэтому война против эллинов — недозволительное междоусобие; война же против варваров, — война в истинном смысле этого слова, дозволительная и законная; обращение военнопленных в рабов — естественное и нормальное ее последствие2).
Платон ясно сознает, что основное требование возвещаемого им царства правды — объединение людей в совместном служении их сверхчувственной, загробной цели. Но универсальное единство человеческого рода подменивается у него объединением национальным, панэллинским; мало того, и это объединение у него оправдывается утилитарным мотивом: эллины должны забыть свои распри, дабы не подпасть владычеству варваров. Ради этого они должны воздерживаться от войн между собою; если война начнется не по их вине, граждане идеального государства должны вести ее только для того, чтобы наказать виновников братоубийственной распри. При ведении этой вынужденной войны они должны воздерживаться от издевательства над трупами убитых врагов, от осквернения храмов, грабежей и опустошений, не должны ни сами продавать военнопленных эллинов в рабство, ни дозволять этого другим3). По отношению к варварам этих нравственных обязательств не существует.
Но это — еще не все: слепая естественная необходимость налагает на божественную идею ряд других ограничений и оков. Редкое вообще среди людей семя божьей муд-
_________________________
1) Ibid., 470.
2) Civitas, 1. V, 470.
3) Ibid., 469-471.
52
рости редко и среди эллинов; не надеясь на широкое влияние философии, Платон может себе представить «вышний город» только в виде небольшого греческого города среди других нефилософских городов.
Весь план общественного переустройства суживается самим философом до микроскопических размеров. С одной стороны — возвышенный пафос «Политии» о начертанном на небесах божественном первообразе человеческого общежития1), а с другой стороны — затрата богатых даров гения для подробнейшего изображения идеального общественного устройства на пять тысяч сорок граждан в «Законах» того же Платона2)! Этот контраст производит невообразимо тягостное впечатление. В «Политии», при отсутствии точных цифровых указаний, также идет речь о государстве не слишком маленьком, но и не слишком большом. Всего любопытнее тут прямое признание, что при большой территории и при большом количестве жителей, государство не достигало би своей цели: оно утратило бы свое единство: единомыслие возможно лишь в тесном, дружеском кругу3). Не забудем, что единство в глазах Платона составляет основной признак господства божественной идеи; напротив, дробление, раздор и хаос у него служат печатью всего внебожественного, материального; как мы видим теперь, эту печать носит на себе все, что выходит за пределы небольшой, сплоченной семьи идеальных граждан!
Платон не хочет расширения территории, потому что боится той бессмысленной, стихийной волны, которая грозит захлестнуть его идеальное государство. По опыту он знает, что обширное государство поглощается погоней за материальными интересами и, распадаясь на богатых и бедных, раскалывается надвое. И вот ему хочется уберечь своих граждан от раскола, хотя бы для этого нужно
_______________________
1) Ibid., 1. VI, 500, 1. IX, 592.
2) Leges, 1. V, 737-738.·
3) Civitas, 1. IV, 423.
53
было держать государство под колпаком, обставить его тем тепличным уходом, которого требует в чуждой ему географической широте тропическое растение. Но и эта мечта рушится как непрактическая утопия: для осуществления ее греческая жизнь не дает ни материала, ни орудий. Платон хочет пользоваться теми орудиями, какие есть; но это влечет за собою необходимость дальнейших компромиссов, дальнейших уклонений от идеала до полной его утраты.
IX.
Государство — церковь.
Для осуществления религиозной дели спасения необходим особый религиозный союз, не связанный мирскими задачами, отличный от государства и свободный от него. Такого союза языческая древность не знала; конечная цель человеческого существования в миросозерцании древних греков подчинялась государству, которое считалось высшей Формой человеческого общения. Не будучи в состоянии порвать с этими ходячими представлениями, Платон поручает государству свою заветную мечту.
В результате получается то странное, двойственное создание, которое он изобразил в своей «Политии»: это — государство с функциями церкви, языческий монастырь идеальных граждан, общество верующих во всеоружии светского меча.
Прежде всего это — подготовительная ступень к блаженству — воспитательное учреждение, которое должно вести человека к его вечной цели спасения. В Платоновом государстве спасение — не одна из многих задач, а та единая и единственная задача, которая определяет собою все его устройство и все направление его деятельности. Одна из любимых тем «Политии» — полемика против многоделания (πολυπραγμονία). Основной грех существующих государств заключается в погоне за многими делами и за многими благами. Платон хочет, чтобы у всего госу-
54
дарства, как и у каждого гражданина, было только одно дело, одна всепоглощающая забота — о том едином, что есть на потребу. Это единое и единственное дело государства и гражданина есть справедливость, правда (δικαιοσύνη)1).
Правда в общественном, объективном значении этого слова заключается в таком гармоническом соотношении отдельных классов в государстве, при котором каждый делает свое особое дело, отправляет свою специфическую Функцию, и все вместе служат благу целого. Мы уже знаем, что это благо, составляющее смысл существования, по самой своей природе сверхчувственно, нематериально и находится по ту сторону земной жизни. Этим определяется понятие правды в субъективном смысле слова: она по существу тождественна с праведностью, она выражается в том, что каждая отдельная душевная способность делает свое дело, т.-е. исполняет свое специальное назначение и все вместе служат спасению души как целого.
Правда в государстве и в душе, таким образом, — одно и то же. Гармоническое соотношение общественных сил, которое она установляет в государстве, совершенно соответствует той внутренней гармонии сил и способностей, которую она устрояет в душе: ибо государство-продукт душевной деятельности человека; а потому справедливое государство совершенно подобно праведному человеку2).
В душе — три основные способности. Это — ум (νοῦς, λογιστικὸν), аффективная часть или сердце (θυμὸς, θυμοειδὲς)3) и, наконец, чувственное влечение, пожелание (επιθυμία). Нормальное состояние души заключается в господстве выс-
___________________________
1) Civitas, IV, 462.
2) Civitas, 1. IV, 435.
3) На русском языке это слово не допускает точного перевода; на немецкий оно обыкновенно переводится словом Gemüth, что также не вполне точно; выражение «аффективная часть» заимствовано мною у Соловьева.
55
шей способности над низшими, т.-е. ума — над сердцем и чувственными влечениями. Ум видит красоту, истину и благо: он распознает ту цель, к которой должно стремиться: ему и подобает вести душу к этой цели.
Каждой отдельной душевной способности соответствует своя специфическая добродетель: добродетель ума есть мудрость (σοφία); добродетель аффективной части или сердца есть мужество (ἀνδρεία); наконец, добродетель низшей, чувственной части души есть воздержание или скромность (σωφρωσύνη). Будучи единственной добродетелью чувственной части души, воздержание, однако, должно быть свойственно и прочим, высшим способностям. Справедливость или правда не есть добродетель какой-либо одной душевной способности, а общая душевная добродетель, которая выражается в нормальном соотношении отдельных душевных сил. Когда ум руководит, сердце исполняет его веления и подчиняет ему темную область чувственных влечений, в душе царит правда или праведность. Это — тот самый нормальный строй души, который спасает ее, сохраняя ее единство и целость. Нетрудно убедиться, что все эти способности и добродетели вообще составляют одно целое. Мужество, которое у Платона определяется как «познание страшного и нестрашного», не только соприкасается с мудростью, но составляет, как мы уже видели раньше, необходимое ее дополнение; ибо ясновидение духа, прозревающего высшее благо над землею, предполагает философски-равнодушное отношение к опасностям, угрожающим телу; не менее существенно для мудрости и воздержание — единственно философское отношение ко всему преходящему, тленному.
Задача философского государства именно в том и заключается, чтобы осуществить этот нормальный душевный строй, совершить тот полный поворот человека к Богу, о котором повествуется .в знаменитом сравнении земной жизни с пещерой. Чтобы быть совершенно благим
56
(τελὲως ἀγαθὴν), государство должно быть «мудрым, мужественным, воздержным и справедливым»1).
В государстве должно быть три класса в соответствии с тремя душевными способностями и их специфическими добродетелями. Представителям высшей способности — ума, — т.-е. мудрецам, подобает управлять; людям сердца, представителям мужества, надлежит защищать государство в качестве воинов; наконец, той серой массе людей, которые неспособны возвыситься над чувственным пожеланием, следует взять на себя всю тяжесть Физического труда, стать работниками, кормильцами государства. Когда каждый из этих классов делает свое дело, мудрецы управляют, воины защищают, работники работают, и ни один класс не вторгается в сферу деятельности другого, — в государстве царит справедливость. Она заключается, таким образом, в определенном способе разделения труда.
По объяснению Платона, потребностью осуществить справедливость, так понимаемую, объясняется самое происхождение государства. Отдельный человек в одиночестве не в состоянии удовлетворять своих жизненных потребностей; поэтому, в целях кооперации, люди образовали государство, где, предаваясь каждый какому-либо специальному занятию, они все вместе восполняют друг друга. В существующих в действительности государствах призвания смешиваются, и каждый берется не за свое дело; низшие части общества, соответствующие низшим дарованиям, восстают против высших; люди, призванные к ремеслу и не смыслящие в управлении, хватаются за власть; тем самым извращается цель государства. В смешении призваний, в многоделании и нарушении правильного распределения общественных функций по способностям, заключается сущность неправды существующего государственного строя2).
_______________________
1) Civitas, 1. IV, 427.
2) Для всего учения о душевных способностях, основных добродетелях и соответствующих способностям классах см. Civitas, 1. IV, 427-435; 1. I, 353.
57
Отсюда видно, что собственно светские задачи в Платоновом государстве — на последнем плане: они здесь составляют не цель, а средство и допускаются лишь в пределах забот о хлебе насущном. Основная же задача заключается в полном духовном возрождении человека, в изменении всех его жизненных ценностей, в преобразовании всего его внутреннего мира. Но вопрос о спасении души сплетается с вопросом об образах правлений так тесно и так причудливо, как это могло иметь место только в Греции, где государство служило средоточием всей жизни. Чтобы порвать путы, задерживающие полет человеческой души в горние выси, нужно освободить ее от честолюбия и властолюбия, от стяжания, от вольницы разнузданных страстей, от тирании аффекта. Но все эти разнообразные пути неправды и соответствующие им человеческие типы, как уже было выше сказано, выражают собою внутреннее содержание существующих образов правления, — тимократии, олигархии, демократии, тирании. Вот почему и царство правды в философии Платона стремится выразиться в особом образе правления.
Этой новой форме общежития предстоит заботиться не столько о телах, сколько о душах. Неудивительно, что, когда Платон говорит о ней, самый язык его предвосхищает позднейшие христианские и в особенности средневековые выражения: правители у него — пастыри, воины — сторожевые псы, охраняющие стадо (Платон озабочен тем, чтобы они не выродились в волков); наконец, прочие граждане — овцы1).
И совершенно так же, как впоследствии в средние века, на первом плане у Платона — единство стада. Начиная с Августина религиозно-политическая литература средних веков видит в единстве форму царствия Божия, печать божественного в строе вселенной, в человеческой душе и в особенности в человеческом обществе; на-
____________________
1) Civitas, III, 416.
58
против — двоица для тех же писателей есть дурное начало, — общая печать всего материального, принцип раздора и раскола1). В действительности, мы имеем здесь традицию, идущую от Платона, быть может даже от пифагорейцев2). Если даже мы оставим в стороне свидетельства позднейших писателей о том, что Платон в устных беседах отождествлял единство с благом3), то во всяком случае несомненно, что для него идея блага - начало единства всего мира идей, а идея вообще — единое во многом, то что сводит к единству разнообразие мира явлений, начало стройного порядка; раздвоение же — проявление дурного, материального начала, которое противится идее.
В «Политии» эта схема проводится от начала до конца. Здесь развивается мысль, что нет большего зла для государства, чем раздвоение, и нет большего блага, чем внутреннее объединение. Преимущество идеального государства перед всеми существующими в действительности в том именно и заключается, что это — государство единое (πόλις μία), тогда как прочие государства заключают в себе начало раздора — раздвоения. Оттого-то оно, несмотря на свои незначительные размеры, должно обладать могуществом, неслыханным у варваров и греков, и быть непобедимым, хотя бы за него сражалось не более тысячи граждан. И не только идеальное государство едино: каждый из его граждан сам в себе един: ибо он не разбрасывается, не расточает своих сил на множество занятий, а делает то единственное дело, к которому он от природы предназначен4). Таким образом, здесь речь идет
________________________
1) См. мои соч. «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке», стр. 55-70, ср. 233 и «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в.», в особенности гл. I, стр. 1-13; ср. Gierke, Genossenschaftsrecht, т. III, от стр. 515.
2) Ср. Zeller, Die Philosophie d. Griechen, В. I, 330-346 (4 Aufl.).
3) Zeller, Die Philosophie d. Griechen, II B., 1 Abth. стр. 596 и след. (III Aufl.).
4) Civitas, 1. IV, 423; 1. V, 462.
59
о восстановлении внутренней целости отдельного человека и общежития. Из Федона мы знаем, что путь к такому исцелению заключается в постепенном отрешении души от телесных оков: только этим путем она может собрать и объединить свои рассеянные ранее силы и способности в едином средоточии1).
Когда душа поднимается над областью спорных материальных интересов, тем самым побеждается источник раздоров между людьми. Куда бы ни вселилась неправда, в родовой союз, в войско или в государство, она всюду вносит рознь и делает людей неспособными совершить сообща какое-либо общее дело; она раздвояет даже отдельного человека и тем парализует его энергию: «правда порождает междоусобия, ненависть и брани, правда же соделывает единомыслие и дружество» (ὁμονοίαν καὶ φιλίαν)2).
Единомыслие — тот самый результат, которого Платон хочет достигнуть всеми учреждениями своего идеального государства. Самой прочной связью в общежитии является общность удовольствия и печали, при которой одни и те же события всех граждан одинаково радуют или огорчают. Напротив, обособление (ἱδίωσις) этих чувств разрушает общежитие: государство утрачивает свою целость, когда одни и те же его переживания одних преисполняют радости, других же приводят в уныние. Между отдельными членами государства должна существовать такая же тесная связь взаимного сочувствия, как между органами живого тела, так что страдание каждого отдельного члена должно чувствоваться всеми остальными, как их собственное. Если у нас болит какая-либо часть тела, с нею вместе страдает весь организм, и мы говорим: «у человека болит палец». Такова же должна быть связь между государством и отдельными его гражданами3). В идеальном государстве настроение его граждан должно
________________________
1) Phaedo, 67.
2) Civitas, 1. I, 351.
3) Ibid. 1. V, 462. Cp. Leges, 1. V, 739.
60
образовать симфонию1). Для его осуществления требуется полное обобществление мысли, чувства, обобществление самого человека: для частной жизни и частных интересов в философском государстве не остается места. К своим гражданам Платон предъявляет те же требования, какие впоследствии апостол Павел предъявлял к членам Церкви — тела Христова: «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (I Кор., XII, 26). Сходство выражений тут — не случайное. Платон ставит идеальному государству ту самую задачу, которая по праву принадлежит только церкви. Сродство этого государства с религиозными союзами ярко иллюстрируется еще одной замечательной чертой: Платон хочет сообщить ему совершенно неподвижное устройство: правители не должны допускать в нем новшеств, сохраняя неизменными самые напевы: ибо изменения в музыке всегда сопровождаются изменениями в законах2). Вечной цели должны соответствовать неизменные учреждения.
X.
Коммунистический строй.
Чтобы осуществить совершенное единство во взаимных отношениях людей, нужно устранить все то, что обособляет, поразить частный интерес в самом его средоточии. Платон думает достигнуть этой цели путем преобразования общества на коммунистических началах. Вот почему два высших класса его государства лишены частной собственности и семьи.
Нетрудно убедиться, что это — коммунизм не мирской, а аскетический по своим задачам, весьма сродный с монастырским коммунизмом средних веков. Цель его —
_____________________
1) Civiias, 1. V, 463.
2) Ibid. 1. IV, 424.
61
не в справедливом распределении материальных благ, а в отрешении от них человека.
Жизнь класса воинов, стражей государства, должна быть устроена так, чтобы они не вредили другим гражданам и сами были наилучшими людьми. Для этого они должны быть совершенно освобождены от всякого стяжания и корысти. Никто из них не должен обладать собственным домом, сокровищницею, ни вообще имуществом: жизненные потребности их должны удовлетворяться скромным содержанием, ежегодно выплачиваемым их согражданами. Живя лагерной жизнью, они содержатся на общий счет и вкушают пищу на общих трапезах (сисситиях). Золото же и серебро у них — божественное — в душах, и в человеческом они не нуждаются, и «не по-божески» было бы осквернять обладание этим сокровищем «примесью тленного золота (θνητοῦ χρυσοῦ): ибо много нечестия совершается ради тех денег, что находятся в обладании толпы. Их же (душевное) золото да будет беспримесным; но им одним в государстве да не будет дозволено заниматься золотом и серебром, ни касаться его, ни иметь его под кровом, ни украшаться им, ни пить из золотых и серебряных сосудов. И таким образом они спасут как самих себя, так и государство. Когда же они приобретут себе в собственность землю, дома и деньги, они из стражей превратятся в хозяев и земледельцев и вместо союзников станут своим согражданам деспотами и врагами; ненавидя и будучи ненавидимы, они весь свой век будут строить козни и сами будут им подвергаться, опасаясь врага внутреннего много более, нежели внешнего; и вместе с прочим государством они пойдут навстречу близкой гибели»1).
Наблюдения над современным ему капитализмом привели Платона к тому выводу, что частная собственность в связи с проистекающими из нее алчностью и соревно-
______________________
1) Ibid. 1. III, 416-417.
62
ванием — та самая центробежная сила, которая рвет общество на части. Она н есть то препятствие, которое мешает людям объединиться в совершенном дружестве. Возможна ли общность радости и печали в государстве, пока граждане говорят относительно материальных благ: «это мое, а это не мое», или — «это чужое»? И не будет ли наилучшим то государство, где большинство людей считает одни и те же предметы своими и не своими! Уничтожение частной собственности — единственный радикальный способ положить конец раздорам. Между друзьями все должно быть общее (κοινὰ τὰ τῶν φίλων)1).
Аскетический характер коммунизма Платона в особенности ярко сказывается в его отношении к богатству; он считает последнее вредным не только для личности, по и для целого государства. От правителей и стражей государства он требует, чтобы они в особенности остерегались двух врагов—богатства и бедности: богатства, потому что оно питает роскошь, невоздержанность, праздность и жажду новизны; бедности, потому что, сверх жажды новизны, она порождает несвободу духа (ἀνελευθερίαν) и худые дела. Если бедность создает зависимость, то сытость воспитывает лень, тем самым убивая искусство и всякую деятельность2). Иными словами, задача Платонова коммунизма — избавить людей от того, что называется на современном языке мещанством духа, освободить их от той материальной зависимости, которая создается как чрезмерным изобилием, так и крайней скудостью. В этом — полный контраст между Платоновой идеалистической утопией и коммунизмом материалистическим. Но тут же сказывается и роковое несовершенство этого идеализма. Мы уже видели, что господство божественной идеи в человеческом обществе у Платона ограничивается тесными территориальными пределами идеального государства. Теперь нам приходится убедиться, что и в этих пределах идея вы-
_____________________
1) Ibid. 1. V, 462-464, 1. IV, 422-423.
2) Ibid. 1. IV, 421-422.
63
нуждена вступить в сделку с материей. Независимость духа, связанная с коммунистическим строем, составляет удел избранного меньшинства, двух высших классов республики — правителей и воинов; как будет показано ниже, на рабочих она не распространяется. Та духовная жизнь, которую Платон признает единственно осмысленною и ценною, составляет в его государстве классовую монополию.
В Платоновом коммунизме есть и более неприглядные, даже прямо отталкивающие стороны. Дело в том, что он распространяется не только на собственность, но и на семью. Слова — «между друзьями все должно быть общее», кроме общности материальных благ, имеют в виду общность жен и детей. Конечно, нельзя согласиться с Соловьевым, будто «во взаимоотношении полов идеальная община Платона возвращается к дикому образу жизни по обычаю звериному»1). Платон хочет не беспорядочного полового сожительства, а как раз наоборот — упорядочения половых отношений. Но, как мы увидим, он создает такой порядок, который не может быть оправдан ни с какой точки зрения и всего менее — с его собственной.
Тут опять-таки следует различать между идеальной целью и никуда негодными средствами. Платон восстает против семьи по тем же основаниям, как и против частной собственности. Семья, как и частная собственность, обособляет людей, сосредоточивая их интересы вокруг домашнего очага; создавая противоположность «моего» и «твоего», она разрушает жизнь общую. Напротив, с упразднением отдельных, частных семейств все граждане сливаются в одну семью. В других государствах отдельные члены господствующих классов друг другу — чужие. Напротив, в идеальном государстве все — свои: каждый видит в ближнем брата или сестру, отца или
____________________
1) См. цит. статью, ΙΙ. собр. соч., т. VIII, стр. 287.
64
мать, сына или дочь. Соответственно с этим и крепкие родственные привязанности, чувства любви к детям, женам, равно как и чувства сыновней почтительности, не замыкаются в тесном круге семьи, а распространяются на всех1). Словом, семья, как и собственность правящих классов, приносится Платоном в жертву единству целого государства.
Интересно, что в основе всей этой проповеди против семьи лежит тот же мотив, во имя которого впоследствии средневековые святители проповедовали безбрачие духовенства: там также целью служило внутреннее объединение иерархии: член клира должен был порвать со всеми мирскими, частными интересами, чтобы отдаваться всецело своему служению, принадлежать церкви всем своим существом: для этого он не должен был иметь ничего своего2).
Но, если верно, что в Платоновом коммунизме есть черты монастырские, то верно также и то, что Платонов монастырь был языческим. Пропасть между христианским и Платоновым идеалом обнаруживается именно там, где они как будто соприкасаются. Оба требуют совершенного проникновения человеческой жизни божественным содержанием. Как с христианской точки зрения царство благодати, так и с точки зрения Платона царство идеи осуществляется путем совершенного возрождения человека и человеческого общества. Но с христианской точки зрения к этой цели ведет рождение духовное: «плоть и кровь царствия Божия не наследует»: напротив, государство Платона достигает обновления человеческого типа путем ряда естественных, физических рождений. В христианстве мы видим полный разрыв с вульгарным, чувственным эросом; напротив, Платон вступает с ним в сделку. Христианство учит, что богочеловеческая жизнь рождается в мир путем бес-
___________________
1) Civitas, 1. V, 46;
2) См. сое соч. «Религиозно-общественный идеал западного христианства в ΧΙ веке», стр. 13-32
65
семянного зачатия; оно требует, чтобы все человечество родилось по образу Небесного родоначальника—второго Адама; напротив, Платон хочет получить новую породу идеальных граждан от человеческого семени.
Тем самым в платонизме закрепляется рабская зависимость от плоти и крови и утрачивается божественное наследие. Здесь гений Платона падает с небесной высоты и изменяет своему сверхчувственному идеалу. Платоново государство упраздняет брак как постоянное соединение, влекущее за собою обособление семьи в эгоистическом чувстве. Вместо того оно вводит временное соединение полов. Половой союз имеет единственной целью производить государству физически здоровых и нравственно годных граждан; поэтому он кончается, как только приводит к желаемому результату деторождения, и подчиняется всецело государственной регламентации. Не свободное согласие жениха и невесты, а мудрость правителя решает в деле заключения этих временных браков. беспорядочное половое сожительство не допускается: в половое соединение вступают лишь те, кому это дозволено или прямо предписано правителем.
Последний же в деле заключения браков руководствуется теми самыми принципами искусственного подбора, которые применяются в целях усовершенствования животных пород. Кто хочет вывести наилучших охотничьих собак, боевых петухов и лошадей, тот случает наиболее породистых особей. Те же соображения, по словам Платона, а fortiori должны решать в несравненно более важном деле культивированья человеческой породы: правитель должен спаривать между собою наиболее достойных, породистых^ граждан обоего пола и всячески препятствовать тем соединениям, которые могут повести к увековечению нежелательных типов. Платон рекомендует предоставлять право наиболее частых совокуплений в виде приза воинам, отличившимся на войне. Право деторождения предоставляется гражданам лишь в преде
66
лах установленного законом возраста. Детей, зачатых вне закона, воспрещается родить на свет1).
Развивая свой проект регламентации браков, Платон вдается в детали, которых нам, разумеется, нет надобности воспроизводить. Это—своеобразное сочетание грубого цинизма, жестокости и мелочности, которое резко контрастирует с возвышенными стремлениями автора «Пира» и «Федона». Платон, по-видимому, сам смутно чувствует, что именно с этой чертой его утопии связан тяготеющий над нею злой рок. Как мы видели, он предусматривает, что идеальное государство, как и все родившееся, рано или поздно должно погибнуть. Любопытно, что эта гибель для него связывается с физиологическою случайностью. правители рано или поздно совершат те или другие упущения в деле заключения браков, и тогда им не удастся вывести идеальную породу граждан2). На свет явится новый тип людей, в котором золото и серебро перемешается с железом и медью; а в результате этого смешения человеческих пород смешаются и рухнут учреждения.
Здесь идеальное государство находит себе естественный, логический конец. И вместе с тем вскрываются его внутренние противоречия, те самые, которые мы выше отметили в Платоновой метафизике. С одной стороны, Платон хочет осуществить божественную идею в государстве путем ряда естественных рождений. С другой стороны, по его же собственному признанию, божественное — невоплотимо: естественный генезис, не достигая своей цели, производит лишь кажущееся, мнимое бытие, а не подлинно сущее.
Дуализм Платоновой философии отражается в его социальном учении в причудливом сочетании двух противоположных крайностей — аскетизма и эротического цинизма-
____________________
1) Civitas, 1. V, 557-462.
2) Ibid. 1, VIII, 546.
67
XI
Спор комментаторов об индивидуализме и социализме Платона.
Столкновение противоположных стремлений в социальной философии Платона вызывает разнообразные, даже диаметрально противоположные ее истолкования. Так по поводу коммунизма идеального государства в науке высказывается два противоречивых положения.
Гегель, к которому из новейших историков примыкают Шталь, Целлер и Гирке, находит, что в этом государстве индивид совершенно поглощается целым. По мнению Гегеля, которое до последнего времени оставалось господствующим, человек в Платоновой республике Фигурирует вообще не как индивид, а как «общечеловек» (Allgemeine Mensch), иначе говоря, как родовое понятие1). Шталь прямо говорит, что цель этой республики — не в индивиде, а в ней самой, что этой цели приносится в жертву, человек, его счастье, свобода, даже его нравственное совершенство2).
Противоположную точку зрения развивают Зуземиль3), Ноле4) и в особенности Пёльман5), который в своей «Истории древнего коммунизма и социализма» помещает пространную главу «О совпадении социализма и индивидуализма в государственном идеале Платона».
Те и другие комментаторы в одинаковой мере правы и неправы. Все предшествующее изложение доказывает, что цель Платонова государства—не в нем самом, а в том загробном блаженстве человека, для которого оно служит ступенью. Поэтому Пёльману нетрудно доказать множеством цитам из Платона, что, вопреки Гегелю и Целлеру, «идеальное государство» существует для инди-
_____________________
1) Geschichte d. Philosophic, ΙΙ, 289.
2) Geschichte d. Rechtsphilosophie, 16.
3) Platonische Philosophie, II, 283.
4) Nohle, Die. Staatslehre Platos, IX-X.
5) Gesch. d. antiken Kommunismus, I, 371-414,
68
вида, для его счастья, пользы и даже выгоды, что самая идея справедливости, воздающей каждому свое, есть индивидуалистический принцип. С этим нельзя не согласиться уже потому, что, как мы видели, справедливость у Платона имеет целью восстановить нормальный душевный строй во внутреннем мире индивида через преобразование строя государственного.
Пёльман совершенно прав в том, что для Платона идеальное государство есть средство. Но с другой стороны несомненно, что это средство постоянно заслоняет собою цель и заставляет Платона забывать о ней. Государство существует для спасения индивида; и тем не менее можно привести много доказательств в защиту положения Гегеля, что Платон приносит индивида в жертву государству, точнее говоря—в жертву воплощающейся в государстве родовой идее. Между средством и целью существует непримиримое противоречие.
Только что изложенные рассуждения «Политии» о регламентации половых отношений и общности жен именно потому так оскорбительны для человеческого достоинства, что здесь человек ценится лишь в качестве породы и в этом отношении приравнивается к домашним животным. Признавая в принципе человека целью, Платон тем не менее вменяет в обязанность правителям обращаться с ним как со средством. Они должны допускать не больше рождений, чем нужно для поддержания определенного количества граждан1): младенца, не соответствующего требованиям нормальной породы, например рожденного от родителей, перешедших за установленный для брака возраст, Платон рекомендует оставлять без пропитания2), а детей, рожденных хотя и законно, но плохими родителям, без воспитания3). В конце концов Платон забывает о человеке как таковом: целью для его
___________________
1) Civitas, 1, V, 460.
2) Ibid., 461.
3) Ibid, 459·
69
государства становится человек установленного образца; при этом государство безжалостно отбрасывает то, что для этой дели оказывается негодным. Подмен цели личного спасения целью родовою, государственною нигде не выступает так ярко, как здесь.
Вспомним, что именно в эросе Платон видит вершину и расцвет человеческого существования, высшее откровение его смысла. Раз в «Политии» это святое святых подвергается государственному контролю и регламентации, не очевидно ли, что здесь государство порабощает всего человека с головы до пяток! Отнимая у родителей новорожденных детей и принимая всевозможные меры, чтобы родители и дети не могли когда-нибудь узнать друг друга1), государство вторгается в самую интимную сферу личной жизни: оно требует, чтобы человек отдал ему все свои чувства. Человек низводится здесь до степени архитектурного материала, из коего правитель возводит государственное здание. Можно ли себе представить высшую степень государственного деспотизма!
Через весь трактат «Полития» красною нитью проходит мысль, что человек принадлежит государству от рождения и до смерти. Неудивительно, что Платон вводит здесь ту железную дисциплину, которая уместна лишь в монастырях или в казармах. На вопрос, как могут быть счастливы его воины, раз у них нет ни семьи, ни жилища, ни вообще какого-либо имущества, и вся их жизнь сводится к тому, чтобы сторожить государство, получая за то лишь хлеб насущный, Платон отвечает.— При этом им не дозволено ни предпринять путешествия по собственной охоте как частным лицам, ни подарить что-либо возлюбленной, ни совершить по их желанию какую-либо другую затрату. Не будет удивительным, если при таких условиях они будут чувствовать себя в высшей степени счастливыми. Однако, «устраивая государство, мы
____________________
l) Ibid, 460.
70
не ставим себе целью счастье какого-либо одного рода людей, т.-е. класса, в отличие от других, но наибольшее счастье всего государства». И тут же, в пояснение этой мысли, приводится весьма типическое сравнение из области скульптуры: скульптор, делая статую, заботится не о красоте какого-либо одного органа, например, глаза, а о красоте целого: его цель — не в том, чтобы глаза были прекраснее всего тела, а в том, чтобы глаза были глазами. Так и в изображении наилучшего государства не следует заботиться о таком высоком счастье для стражей, которое сделает их всем, чем угодно, только не стражами1).
Индивид тут очевидным образом поглощается должностным лицом, потому что устроитель государства относится к человеческому материалу как скульптор к мрамору. Все ненужное отсекается, а тому, что нужно, придается желательная художнику, типическая форма.
Преувеличивая индивидуализм утопии Платона, Пёльман упустил из вида отражающиеся в ней противоречия Платоновой метафизики. В своем возникновении эта метафизика несомненно определилась впечатлением гениальной личности Сократа, восставшей против всего исторически сложившегося строя жизни; поэтому вопрос о спасении личности естественно выдвинулся для Платона на первый план. Но конец этой метафизики не соответствовал индивидуализму ее исходной точки. То безусловное, что спасает и наполняет человеческую жизнь божественным содержанием, у Платона — не живая личность, а безличная родовая идея, по существу враждебная всему индивидуальному. Индивидуальность не умещается в рамки метафизической системы Платона: для него она тожественна с материальным, греховным; неудивительно, что и идеальное государство, построенное по образу и подобию божественной идеи, оказывается для индивида Прокрустовым ложем. Что толку в том, что это государство, по Пла-
_____________________
1) Ibid. 1. IV, 419-420.
71
тону, существует для счастья индивида, если для достижения этого счастья человек должен всего себя обрезать и обезличить! Вместо живой личности здесь спасается ее тень.
Ради духовных благ, разумеется, стоит пожертвовать материальными интересами. Но у Платона человек приносит в жертву государству свою духовную индивидуальность. Вместе с свободой личного любовного чувства здесь исключается и свобода индивидуального творчества. Платон изгоняет из своего государства поэтов: он подводит поэзию и музыку под общеобязательный ранжир.
Тут он руководствуется знакомым уже нам аскетическим мотивом. Поэты навлекают на себя его негодование главным образом тем, что распространяют ложные понятия о божестве; поэтому он хочет применить к ним нечто вроде духовной цензуры. Сам устроитель государства, по его словам,— не поэт и мифов не сочиняет; но ему надлежит установить определенные правила, типы для поэзии и не дозволять отступлений от них1).
Тип дозволительной в идеальном государстве поэзии предопределяется его целью: стражи государства должны «стать благочестивыми и божественными, в высшей доступной для человека степени»2). Чтобы стать богоподобными, они должны иметь о богах надлежащее представление.
В существующих государствах все религиозное учение черпается из распространяемых поэтами лживых и нечестивых сказок, которые узнаются детьми с самого нежного возраста. Немудрено, что, слыша басни об Уране, Кроносе и Зевесе, о богах детоубийцах, отцеубийцах, обманщиках и клятвопреступниках, люди, виновные в тягчайших преступлениях, считают себя подражателями первых и величайших из богов3).
___________________
1) Ibid., 1. II, 378-379.
2) Ibid., 1. III, 383.
3) Ibid., 1. II, 378; III, 391.
72
Нормы для поэтов должны определяться действительными признаками божества и божественного. Боги — чужды вражды и взаимной ненависти. Поэтому поэты не смеют рассказывать небылиц про их мнимые ссоры, войны и семейные скандалы. Бог благ и зла не делает; поэтому не должны допускаться рассказы, где боги изображаются виновниками злодеяний. Боги совершенны, поэтому недозволительно приписывать им изменчивость, которая неизбежно предполагает или возможность большего совершенства или, напротив, утраты его. Поэтому же нельзя изображать богов в виде оборотней, которые могут являться во множестве образов; будет ли перемена образа действительным или кажущимся только изменением божества, в обоих случаях мы имеем мысль кощунственную: не будучи фокусником, ни обманщиком, божество не облекается в чуждую ему личину, а является всегда в одном и том же неизменном виде. Бог всегда прост, правдив в слове и в деле и не морочит людей ни во сне, ни наяву1).
К этим требованиям, в коих выражается религиозное сознание, возвысившееся над вульгарным политеизмом, присоединяются другие, определяющие положительную задачу поэзии в идеальном государстве. Поэзия, в которой Платон, как грек, видит главное орудие религиозного и политического воспитания, обязана подготовить государству нужную для его целей породу воинов стражей. Прежде всего она должна воспитать в них мужество. Поэтому из нее должно быть удалено все то, что может сделать смерть страшною, все ходячие представления о Гадесе, Стиксе и Коците, все плачевные песни по умершим. Такие поэтические произведения подкапывают веру в идеальный смысл мужества, который заключается в предпочтении мира загробного — земному. Равным образом недопустимы песни и сказания, прославляющие неуме-
_____________________
1) Ibid., 1. II, 377-383,
73
ренность в вине, половых и вообще чувственных наслаждениях, стяжание и корысть: ибо стражи идеального государства должны быть воспитаны в воздержании: в особенности преступления против этой добродетели не должны быть приписываемы богам и героям.
И не только относительно богов, относительно людей поэзия должна выражаться согласно с требованиями истинного учения; так, например, поэтам не дозволено рассказывать, что неправда приносит выгоду или что праведные бывают несчастны: они должны учить, что праведность всегда приносит пользу. Наконец, в государстве вовсе не должна быть терпима та подражательная поэзия, эпическая и драматическая, которая, воспроизводя всевозможные типы людей и засоряя душу слишком большим разнообразием впечатлений, отвлекает людей от единой и единственной задачи каждого. Перевоплощаясь в своих героев, поэты говорят от их имени и подражают всему на свете: и худым и добрым делам, и человеческим страстям, и стихиям, и добродетелям, и порокам. Для воспитания идеальных граждан ничего не может быть вреднее такой духовной пищи: поглощенные служением добродетели, они не должны увлекаться поэзией, подражающей порокам; делая одно дело для государства, они не должны уделять своего внимания искусству, подражающему многим делам. В государстве должны быть терпимы только строгие поэты, которые воспевают лишь подобающее и полезное для граждан. Прочих же следует удалить, воздав им должные их таланту почести1).
И не только поэзия, — все виды искусства и даже ремесла в идеальном государстве подчиняются самому строгому надзору, в особенности музыка в буквальном смысле слова: ее влияние простирается до самой глубины души; поэтому, чтобы овладеть настроением граждан, правитель должен прибрать музыку к рукам. Мелодии скорбные,
____________________
1) Ibid., 1., ΙΙΙ, 386--398
74
жалобные, изнеживающие, опьяняющие и одурманивающие, вообще возбуждающие чувственность, не должны быть терпимы.
Духовная цензура и здесь установляет желательные образцы мелодий молитвенных, просящих, поучительных, воинственных и скромных в соответствии с основными добродетелями1). Аскетический идеал «Политии» предъявляет определённые требования и к живописи, и к пластике и к домоустройству. Из всех этих родов искусства должно быть изгнано все непристойное, неблагообразное, вульгарное и невоздержное2).
Характерно, что аскетическая тенденция сказывается даже в рассуждениях Платона о гимнастике, в которой на ряду с искусством он видит одно из важнейших орудий воспитания: и гимнастика, по его мнению, нужна больше для души, чем для тела: одно искусство без гимнастики изнеживает душу; напротив, одна гимнастика без искусства делает ее слишком жестокой и грубой. Задача воспитания—в осуществлении середины между этими крайностями, в образовании гармонического и умеренного духовного склада посредством сочетания музыки и гимнастики.
Воспитание и регламентация у Платона простираются решительно на все: у него есть правила для внешнего выражения любовного чувства, для выбора пищи и питья, даже для сна: ибо и во сне воины — стражи государства — не принадлежат самим себе: они должны быть чутки, как сторожевые псы3).
Словом, все воспитательные учреждения идеального государства как бы созданы для того, чтобы вытравить из человека все индивидуальное, личное, искоренить из него всякие признаки собственной воли. И связь этой регламентации с метафизикой Платона как нельзя более наглядно
_____________________
1) Ibid., 398-399.
2) Ibid., 401.
3) Ibid., 403—405.
75
сказывается в том, что она имеет в виду только два высшие класса его государства, которые суть носители его идеи. По признанию Платона, «прочие заслуживают меньше внимания: ибо, если башмачники избалуются, испортятся и станут тем, чем им быть не подобает, для государства нет в том ничего страшного: если же стражи законов и государства будут стражами только кажущимися, а не действительными, они разрушат все государство до основания. И с другой стороны они одни в силах вновь хорошо его устроить и сделать счастливым»1).
Быть может, наименее свободны в этом государстве правители-философы: ибо именно они подвергаются высшему насилию—обязательству нести бремя власти, против которого восстает весь их духовный склад. Можно понять добровольную жертву философа, который спускается с олимпийских высот созерцания и вмешивается в практическую деятельность, чтобы помочь страждущим, освободить пленников от оков: но у Платона это — уже не добровольный подвиг, а акт послушания наложенной государством дисциплине.
«Спасители государства» (σωτῆρε )2), так называет Платон буквально философов-правителей! Здесь сказывается и сходство его учения с христианской идеей спасения и отличие от нее. Соединение божественной идеи с материей в его системе противоречит природе как той, так и другой, а потому представляется двояким насилием. То же двоякое насилие мы находим и в социальном учении нашего философа. Здесь люди привлекаются к спасению внешней силой государства: одних оно принуждает совершать путь к небу, других заставляет спускаться на землю, чтобы освобождать оттуда избранные души. «Наше дело — устроителей государства, говорит Платон, — принуждать наилучшие природы стремиться к знанию, которое мы признали важнейшим, видеть благо и со-
____________________
1) Ibid., 1. IV, 421.
2) Ibid, 1. VI, 502.
76
вершать это восхождение; когда же, восшедши, они его как следует увидят, им не будет дозволено оставаться там, не желая ни снизойти к узникам, ни участвовать в их трудах и почестях все равно малых или великих»1).
По отношению к Философам это не будет неправдой; в доказательство Платон повторяет, что государство заботится не о благе какого-либо одного сословия, а о благе целого. «Убеждением и принуждением» оно согласует граждан между собою, заставляя их делиться пользой, какую они могут приносить целому: оно воспитывает философов не с тем, чтобы каждый из них шел куда ему угодно, а для того, чтобы использовать их для связи государства. Их растят, дабы они были в государстве тем же, что матка в рое пчел. Лучше других воспитанные, они более способны жить двоякой жизнью. Пусть они спустятся во мрак: они лучше других разберутся в идолах, потому что они видели истину и знают прекрасное, справедливое и доброе2).
XII.
Рабочие в идеальном государстве.
Противоречие государственного идеала Платона особенно ясно сказывается в его характеристике третьего, низшего класса республики — земледельцев и ремесленников. Прежде всего эта характеристика поражает своею краткостью и скудостью. Некоторые из комментаторов, напр., Целлер, усматривают тут пробел в учении Платона. Еще Аристотель отмечает, что Платон нигде не говорит, распространяется ли на членов этого класса общность имуществ, жен и детей, или же им предоставляется иметь семьи и частную собственность3). Мы
_________________
1) Ibid, 1. VII, 519.
2) Ibid, 1. VII, 519-520.
3) Polit, ΙΙ, 2, 1264 a.
77
уже видели, почему в глазах Платона рабочие по сравнению с высшими классами заслуживают меньше внимания.
Эта краткость дает повод к спорам между комментаторами. Целлер говорит, что «для народной массы Платон предполагает обыкновенный образ жизни и в остальном хочет, по-видимому, всецело предоставить ее самой себе»1). Этот тезис вызывает основательные возражения Пёльмана. Очевидно, во-первых, что Целлер упускает из вида цель Платонова государства, которое стремится к благу целого, а не отдельных классов. Что быт низшего класса «Политии» не безразличен для Платона, видно из того, что он приписывает этому классу особую специфическую добродетель — воздержание или скромность (σωφροςύνη). Платон хочет сделать своих рабочих хорошими людьми и соответственно с этим ограждает их, как и все государство, против двух главных врагов — богатства и бедности2). Далее, классы республики не суть замкнутые касты; здесь всякий занимает общественное положение соответствующее его способностям: способные дети ремесленников могут стать правителями и, наоборот, дети правителей, если у них ремесленные души, могут спуститься в класс ремесленников3); при этих условиях общественное воспитание должно так или иначе простираться на всех Самый коммунизм класса воинов, как мы видели, мотивируется между прочим опасением, что, получив собственность на дома и деньги, они из союзников станут врагами прочих граждан4). Тут очевидна забота об имущественной безопасности третьего класса. Ко всем этим и другим соображениям Пёльмана5) можно присоединить еще и следующее: в известном сравнении земной жизни с пе
______________________
1) Die Philosophic d. Griechen, II, B. i Abth, III Aufl, 769.
2) Civitas., 1. IV, 421.
3) Ibid., 415.
4) Ibid., 417.
5) Gesch. d. antiken Kommunismus, I, 294-571.
78
щерой Платон рассматривает всех вообще людей как узников; и задача его государства несомненно заключается в освобождении от чувственного плена всех его граждан.
Однако тут, как и везде, Пёльман упускает из вида противоречие между универсальною, всеобщею целью человеческого существования, в которой Платон видит смысл своего государства, и его средствами, которые до этой цели не доводят. Это противоречие создает для низшего класса Платоновой республики такое положение: с одной стороны он служит государству ради собственного спасения; с другой стороны спасение ему совершенно недоступно. Спасение заключается в непосредственном созерцании Блага — вершины мира идеального; спастись можно только мудростью; но мудрость — удел незначительного меньшинства философов. Класс земледельцев и ремесленников состоит именно из тех, кто до мудрости и знания истины неспособен возвыситься; вся эта темная масса должна, как это допускает и Пёльман, оставаться при обманчивом мнении 1). Но Пёльман забыл, что мнение по учению Платона не спасает. Пёльман указывает, что Платон различает два вида нравственности: это во-первых, основанная на познании философская добродетель, и во-вторых — добродетель простонародная, гражданская, которая «возникает из привычки и упражнения без философии и ума»2). Пёльман совершенно прав в том, что эту низшую нравственность Платон считает необходимою принадлежностью третьего класса идеального государства. Но, раз этот класс не в состоянии подняться над «вульгарной добродетелью», ясно, что он не может достигнуть истинной, божественной жизни. Он не может проникнуть в идею, соединиться с ней внутренно, а может лишь внешним образом ей подчиняться, «без философии и ума», т. е. служить ей орудием.
___________________
1) Цит. соч. 314-515.
2) Ibid., 314. Цитированные в кавычках слова извлечены из Федона, 82а.
79
Всем этим достаточно характеризуется положение земледельцев и ремесленников в идеальном государстве. Они, как и прочие классы, считаются свободными и гражданами: высшие классы по отношению к ним являются не деспотами, а «спасителями и попечителями» (σωτῆρς καὶ ἐπίκουροι): стражи смотрят на рабочих, как на друзей, кормильцев и плательщиков жалования. Платон подчеркивает отличие последних от рабов: обращение их в крепостных он считает одним из существенных признаков вырождения идеального государства1). Словом, рабочие, по-видимому, участвуют в дружеском союзе республики и вместе с прочими классами служат осуществлению в ней единства божественной идеи. Однако, при ближайшем рассмотрении это участие оказывается призрачным, так как на долю рабочих достаются не высшие духовные сокровища, а лишь низшие материальные ценности; и сами они приносят государству лишь материальные дары. Их назначение — только в том, чтобы обеспечивать физическим трудом досуг господствующих классов, материальные условия существования высшей культуры; их собственное участие в этой культуре сводится к послушанию и уплате жалованья.
Идея налагает на их жизнь лишь внешний отпечаток: она их не перерождает и не одухотворяет, а только сдерживает. Платон прямо говорит, что в его государстве страсти многих и плохих обуздываются пожеланиями и разумом немногих и наилучших2). Большинство — это — те души, в которых небесный эрос не растит крыльев; от прекрасных предметов они не в состоянии подняться к прекрасному в себе. С этим тесно связано экономическое положение низшего класса. В «стражах» государства, как мы видели, божественная идея уничтожает все индивидуальное: ее царство выражается в совершенном коммунизме этих классов. Напротив, на земледель-
_________________________
1) Ibid., 1. IV, 416-417; 1. VIII, 547.
2) Ibid., IV, 431.
80
цев и ремесленников, как стоящих у преддверия этого царства, коммунизм не распространяется. Это нетрудно доказать вопреки Аристотелю, который, как мы видели, не находит по этому предмету у Платона определенных заявлений, и вопреки Пельману, который полагает, что коммунизм распространяется на все классы идеального государства. Прежде всего Платон, как мы видели, считает основною обязанностью третьего класса уплату жалованья воинам. Ясно, что платить жалованья не может тот, кто сам ничего не имеет; если бы на третий класс распространялся коммунизм, плательщиком жалованья был бы очевидно не он, а государство. Засим, Платон определенно высказывает, что стражам одним изо всех граждан не позволяется касаться золота и серебра, что «когда они приобретут себе в собственность землю, дома и деньги, они из стражей превратятся в хозяев и земледельцев (γεοργοὶ)»1); нужно ли более ясное доказательство, что земледельцы по мысли Платона могут быть собственниками земель, домов и денег!
Указания Пёльмана2), будто по Платону пользование золотом и серебром не дозволяется всем вообще гражданам идеального государства3), в данном случае неубедительно: ибо золото и серебро — не только не единственный вид собственности, но даже и не единственный вид монеты; не говоря уже о том, что приведенные Пёльманом неопределенные выражения «Политии» («мы не пользуемся золотом и серебром, и это нам не дозволено»), могут иметь в виду не всех граждан, а правящие классы и, наконец, государство; ведь, не имея само золотой казны, государство может предоставлять иметь таковую отдельным частным лицам. Наконец, один из текстов Платона, приводимых Пёльманом, говорит не за, а решительно против последнего. А именно, Платон
_____________________
1) Ibid., 1. III, 417.
2) Цит. соч., 561.
3) Civitas, 1. IV, 422.
81
заявляет, что наилучшим государством будет «то, где наибольшее количество граждан говорит относительно одних и тех же предметов—это мое, а это не мое»1). Так как наибольшее количество (πλεῖστοι), очевидно, не то же, что все, то отсюда ясно, что коммунизм у Платона распространяется не на всех.
Мало того, из того, что Платон считает наилучшим государством то, где коммунизм распространяется на наибольшее количество граждан, не следует даже и того, чтобы в наилучшем государстве это «наибольшее количество» означало большинство. Смысл текста Платона тот, что граждан единомыслящих и считающих все общим в наилучшем государстве больше, чем в других, менее совершенных: это еще не значит, чтобы в общей сумме граждан идеального государства они не могли составлять меньшинство, хотя бы и сравнительно сильное меньшинство. Толкование Пёльмана, что слово πλεῖστοι означает большинство, стало быть, совершенно произвольно. Однако и при этом толковании не остается сомнения, что на некоторую часть граждан идеального государства коммунизм не распространяется; а эти некоторые могут принадлежать только к низшему классу. Это ограничение количества станет нам еще более понятным, если мы вспомним, что Платон вообще надеется только на приблизительное осуществление своих идеальных требований даже в наилучшем государстве2). Смотря по степени приближения к идеалу, количество граждан высших классов может быть, понятное дело, большим или меньшим3).
_______________________
1) Ibid., 1. V, 462.
2) Civitas, 1. V, 473.
3) П. И. Новгородцев и В. А. Савальский указали мне на текст «Законов» Платона, который как будто в самом деле доказывает, что коммунизм в «Политии» распространяется на все классы общества, стало быть, и на низший. Противополагая государству, изображенному в «Политии», то, о котором речь идет теперь (Leg., 1. V, 739), т. е. государство «Законов», Платон между прочим говорит (ibid. 740а): νειμάσθον μὲν δή πρῶτο
82
Порядок идеального государства, как видно отсюда, отражает в себе начертанную Платоном схему общего мирового порядка со всеми несовершенствами последнего. Между тем, как высшие классы «Политии», наиболее близкие к божественному, потому самому всецело поглощаются родовой идеей и в ней утрачивают свою индивидуальность, низший класс сохраняет относительную свободу индивидуального бытия, т. е. бытия с точки зрения Платона призрачного, греховного. Бессильное божество не упраздняет зла и не претворяет в себе материю
____________________
γῆν τε καὶ οἰκίας καὶ μὴ κοινῆ γεωργούντων; иначе говоря: «пусть граждане распределяют между собою землю и жилища, и да не возделывают земли сообща». Отсюда, однако, было бы ошибочно заключать, будто в «Политии» коммунизм распространяется на все классы. Прежде всего общее пользование землею еще не есть полный коммунизм: национализация земли не исключает частной собственности на жилища, деньги и другие предметы. Далее, приведенный текст не доказывает даже и «общности полей» в идеальной республике. Его нетрудно объяснить и при том предположении, что коммунизм «Политии» распространяется только на два высших класса. В «Законах» эти классы наделяются вообще частной собственностью; здесь в отличие от «Политии» они превращаются в землевладельцев; при этих условиях слова μὴ κοινῆ γεωργούντων легко объясняются желанием Платона подчеркнуть, что те новые пользователи земли, для которых он раньше начертал коммунистический образ жизни, теперь получают землю как и прочие предметы, не в общее, а в частное пользование. Выяснить их титул владения для Платона необходимо и по другой причине: в «Законах» он установляет для них не полную, а ограниченную собственность, нечто среднее между частным землевладением и пользованием государственною собственностью: они (1. V, 740) смотрят на свои участки, как на общую собственность всею государства (χοινὴν αὐτὴν τῆς πόλεως ξυμπάσης). Чтобы эти слова не были поняты в смысле полной общности землепользования, Платону необходимо оговорить, что поля «не возделываются сообща». Предположение, будто в «Политии» коммунистический строй распространяется на низший класс, является таким образом совершенно излишним для объяснения приведенного текста; к тому же у Платона мы тут же находим прямые указания, что коммунизм в «Политии» распространяется только на меньшинство граждан. Описание коммунистического строя «идеального государства» заканчивается в «Законах» (1. V, 739) такими словами: η μὲν δὲ τοιαύτη πόλις, εἴτε που θεοί, ἢ παῖδες θεῶν οἰκοῦσι πλείους ἑνος οἵτω διοζῶντες εὐφραινόμενοι κατοικοῦσι. Отсюда видно, что «богов» и «сынов божиих», которые в республике «так проживают» (т. е. на коммунистических началах) — весьма немного: их только более одною.
83
даже в небольшой общине избранных душ: ибо оно не в состоянии изменить общего мирового порядка.
Платонова республика, как и Платонова метафизика остается по существу своему дуалистическою. Философы и до известной степени воины тут соответствуют идее; напротив, земледельцы и ремесленники соответствуют материи. Нетрудно убедиться в поразительной аналогии между определениями материи в метафизике Платона и его характеристикой положения низшего класса в идеальном государстве. Прежде всего материя есть именно область индивидуальных, частных явлений, исчезающего, призрачного бытия; но именно эта сфера индивидуального и призрачного отведена в «Политии», тому низшему классу, который, по неспособности подняться к созерцанию идеи, обречен на деятельность исключительно хозяйственную, материальную.
Материя представляет собою в природе ту общую основу, тот безразличный базис, на котором проявляется идея. Сама по себе безвидная, бесцветная и косная, она определяется, как отсутствие, лишение идеи. Она извне оформливается идеей, представляет собою то смутное зеркало, в котором последняя находит себе внешнее отражение. Не то ли же самое у Платона — его рабочие! Это — материя идеального государства — косная масса, пассивный материал в руках правителя, который им оформливается и несовершенным образом отражает в себе его мудрость! Сам по себе рабочий не имеет цены, ибо он лишен идеи, не просвещен ею. Лишь в руках правителя он возвышается до степени орудия идеи, орудия культуры высших классов, в которой — его цель и смысл; на его долю достается лишь внешний, насильственно наложенный отпечаток идеального мира. Материя в метафизике Платона есть условие проявления идеи в мире видимом, осязаемом. Все видимые, чувственные явления возникают из материи, содержат в себе ее примесь, питаются ею. Поэтому Платон называет материю кормилицею (τιθήνη) всего, что ро-
84
ждается1): так и третий класс республики получает в ней название «кормильцев»2), потому что все его назначение заключается в материальном питании общества.
В положении низшего класса есть, впрочем, одна черта, которая приподнимает идеальное государство Платона над общим уровнем общественной жизни тогдашней Греции. Класс этот, как мы видели, признается свободным. Хотя Платон, как уже было выше сказано, дозволяет своим гражданам обращать в рабов варваров и исключает рабство только для эллинов, однако, в его республике для рабов, собственно говоря, нет места; здесь скромные материальные потребности высших классов удовлетворяются жалованием, уплачиваемым свободными земледельцами и ремесленниками. Таким образом, в отличие от других греческих государств, рабство здесь не является условием существования. Но тут же обнаруживается крайне поверхностное отношение великого мыслителя древности к самому принципу рабства. Еще Гильденбрандом отмечено своеобразное положение, занятое Платоном в этом вопросе. У него нет интереса высказаться ни за, ни против рабства. Его идеальные граждане только потому не имеют рабов, что они вообще не имеют собственности3). Но рядом с этим рабство само по себе его не возмущает: он остается на почве ходячего воззрения, признававшего большую часть человечества - всех неэллинов рабами по природе4).
Таким образом социальная утопия Платона оставляет нетронутою самую сущность зла — первородный грех государственного и общественного строя древности. В этом — источник ее бессилия и роковая причина тяготения мысли Платона к осужденным им самим, исторически существующим формам общежития.
______________________
1) Timaeus, 52.
2) Civitas, VIII, 545.
3) Hildenbrand, Geschichte und System d. Reehts u. Slaatsphilosophie, стр. 137.
4) Civitas, 1. V, 470.
85
XIII.
Идеальное государство и спартанско-критский строй.
Комментаторами «Политии» уже давно отмечена ее близость к дорийскому и в частности — спартанскому государственному и общественному устройству. На этом основании, между прочим В. С. Соловьев признает утопию Платона ненужною и неинтересною для человечества. «Какой интерес», говорит он, «могло возбуждать предложение устраивать государство более по образцу Спарты, нежели Афин, когда уже являлось сознание, что и спартанская и афинская гражданственность оказались несостоятельными»!1).
Если бы Платон только предлагал устроить государство «по образцу Спарты», его социальная утопия действительно представляла бы для нас мало интереса. На самом деле, однако, слова Соловьева не соответствуют тому, что мы знаем об идеальном государстве великого мыслителя древности. Несмотря на некоторые внешние черты сходства, это государство отличается от ликурговой Спарты в самом основном, существенном.
Прежде всего мы имеем категорическое заявление самого Платона, что «из всех существующих форм государственного устройства ни одна не достойна философской природы»2). Иначе говоря, им недостает именно того, в чем Платон видит цель и смысл государства. В восьмой книге «Политии» это прямо говорится относительно устройства спартанского и критского: здесь оно описывается в числе извращенных, «греховных форм»; под именем «тимократии» оно изображается как первая ступень падения идеального государства3), ближайшая к нему форма действительности. Здесь же ясно говорится,
_______________________
1) Цит. статья, т. VIII, стр. 286.
2) Civitas, 1. VI, 497.
3) Ibid., 1. VIII, 545-545. Здесь спартанско-критское устройство прямо отождествляется с тимократическим.
86
в чем тимократическое устройство сходится с идеальным и в чем оно против него погрешает.
Сходство заключается в том, что и там и здесь почитаются господствующие, что в Спарте, как и в «Политии», воинствующая часть населения воздерживается от земледелия и ремесла; там и здесь существуют «сисситии» (т. е. общие товарищеские трапезы) и обращается большое внимание на упражнения гимнастические, вообще воинские1).
К этому можно прибавить еще черты сходства, не отмеченные Платоном. Так, напр., спартанские правители-эфоры, подобно философам Платона, являются истолкователями божественной мудрости; в управлении государством, которое составляет их исключительное занятие, они руководствуются небесными знамениями и пророческими сновидениями. Их власть не ограничивается писанным законодательством, которое отсутствует в Спарте, как и в Платоновой республике. Далее, в Спарте есть некоторые зачатки коммунизма: некоторые предметы (напр. рабы — илоты) составляют здесь не частную, а общую государственную собственность. Подчинение всех частных интересов строжайшей воинской дисциплине, единству государства-лагеря, строгая регламентация жизни личности во имя интереса общественного, все это установляет известное сродство между спартанскими учреждениями и республикой Платона.
И, однако, сродство это оказывается поверхностным, так как за ним скрывается противоположность основных принципов. Спарта пренебрегает «истинной музой, — той, которая связана со словом и философией»; она «более почитает гимнастику, нежели музыку»2). Иными словами, в глазах Платона это — антифилософское государство, которое не заботится о человеческой душе, т. е. о единственном предмете, достойном наших забот.
______________________
1) Ibid., 547.
2) Ibid., 548.
87
С этим связывается ряд других отличий. Спартанско-тимократическое устройство не знает принципа «общности всех благ между друзьями». Дома и земли здесь распределяются в частную собственность; у каждого гражданина — свое жилище, где он живет с женой или с кем угодно; худшая часть населения устремляется к наживе; частные сокровищницы наполняются золотом и серебром; а третий класс — ремесленников и земледельцев из свободных и друзей высших классов превращается в крепостных и невольников. Здесь только немногие избранные умы — «богатые по природе» — ведут души к добродетели и к «старому», т. е. наилучшему устройству.
Словом, тимократия (Спарта) — смешанное государственное устройство, которое подражает отчасти наилучшему государству, отчасти же государству олигархическому, составляя нечто среднее между тем и другим1).
По словам Плутарха, «Платон примешал к Сократу Ликурга и Пифагора»2). Трудно более яркими штрихами изобразить противоестественный компромисс между философской идеей, отрицающей действительность, и действительностью, отрицающей идею. Для Сократа и Пифагора не нашлось бы места среди ликургова государства-лагеря. Это так же очевидно, как и то, что презирающему «музу» спартанскому воину нечего делать в философском государстве. И, однако, парадоксальное сочетание Сократа с Ликургом для социальной философии Платона не представляет собою результата простой случайности. То самое обстоятельство, что земная действительность сплошь враждебна идее, обрекает идеальных граждан на нескончаемую вооруженную борьбу против многочисленных врагов внешних и внутренних. Господство идеи при
________________________
1) Ibid., 1. VIII, 547.
2) О сродстве между государственным учением Платона и идеалом пифагорейского союза см. кн. С. Н. Трубецкой, История древней философии, ч. I, стр. 92. О преемственной связи между политическими воззрениями Сократа и Платона, см. Oncken, Staatslehre d. Aristoteles, I, стр. 125 и след.
88
этих условиях осуществимо лишь путем насилия: поэтому неудивительно, что Философское государство волей-неволей принимает облик государства военного, притом — того самого военного греческого государства, которое было лучше всего знакомо Платону. Иначе говоря, здесь философская идея вырождается в свое противоположное.
Попытка Платона с ее противоречиями убедительно доказывает лишь одно: невозможность воплощения божественного начала в Формах древнегреческой действительности. Платону предстояло пожертвовать или тем или другим, сделать выбор между Сократом и Ликургом. Он не понял этой исторической альтернативы и после «Политии» написал «Законы». Здесь, по меткому выражению Соловьева, Платон словно забыл о существовании Сократа, отрекся от него и его учения. Образ учителя окончательно заслонился для него образом Миноса и Ликурга.
XIV.
Государство Законов.
По признанию самого Платона, государство, начертанное им в «Законах», есть государство компромисса. В «Политии» между гражданами существует совершенное единомыслие и единство; там общи не только материальные блага, но и самые мысли, чувства. Поэтому там — благая и блаженная жизнь.
Однако, этот коммунистический идеал, по признанию автора «Законов», — больше того, что можно требовать от современного поколения. Для этих людей надо создать государство, к ним приспособленное, второе после наилучшего. Платон предвидит, однако, что и оно окажется не по плечу его современникам и соглашается заранее на дальнейшие уступки: он имеет в виду начертать, «если будет угодно Богу», еще проект государства — третьего после наилучшего1).
________________________
1) Leges, 1. V, 739-740.
89
Третьему государству не было суждено увидеть свет; но уже и в «Законах» приспособление к действительности достигается ценою утраты смысла жизни. В отличие от идеального государства, которое ведет к бессмертию и уже здесь на земле осуществляет его зачаток, «Законы» только «некоторым образом» и «всего более» к нему приближаются. Также и в отношении единства общественной жизни, — этого отражения единства божественной идеи, — «Законы» после «Политии» занимают лишь второе место1).
Сам того не замечая, Платон отрекается здесь от самого существенного, что есть в начертанном им идеале, — от его безусловности. В параллель с евангельским изречением, что «нельзя служить Богу и маммоне», он высказывает в «Политии» мнение, что высшие классы его государства не могут отдаваться идее только наполовину: правителями не могут быть те, кто «не стремится к единой цели, ради которой им надлежит делать все то, что они делают как в частной, так и в общественной жизни»2). Напротив, в «Законах» допускается возможность служения двум господам; а, соответственно с этим, здесь и цель жизни начинает двоиться. Платон уже не требует от своих граждан, чтобы они прилеплялись к Богу всем своим существом: довольно с них, если они пожертвуют, чем могут, при «нынешнем» невысоком нравственном уровне.
В идеальном государстве, по словам Платона, живут «боги» или «сыны божии». Их там немного — всего только «более одного»3). Но в этих немногих Платон раньше видел весь смысл, всю цену государства. Государство должно воплощать божественную жизнь на земле: иначе ему незачем существовать; в этом — вся суть и все содержание «Политии». Теперь в «Законах» философ надеется видеть в будущих гражданах уже не «сынов
_____________________
1) Ibid., 739.
2) L VII, 519.
3) Leges, 1. V, 739.
90
божиих», а только добрых сынов человеческих. Не ясно ли, что мы имеем здесь полное вырождение и извращение прежней возвышенной мечты! Самая постановка задачи государства коренным образом меняется. Задача «Политии» — поднять человека над самым генезисом, над тем, что «рождается и умирает». Если «Полития» заимствует кое-какие спартанские учреждения, то мечта ее автора — в том, чтобы пресуществить земное в божественное: исторически сложившееся, как мы видели, здесь превращается в tabula rasa1). Напротив, «Законы» отправляются от исторически сложившегося, вводя в него относительные улучшения: здесь само идеальное устройство пресуществляется в государство спартанско-критского типа.
Практическая задача, поглощающая внимание Платона, здесь ставится так: дано спартанско-критское устройство, спрашивается, какие законы в нем спасительны, какие — гибельны; какие реформы могут сделать такое государство счастливым2).
И этой задаче приносится в жертву сократический принцип. В двух более ранних диалогах, — «Политике» и «Политии», — Платон верит в живую мудрость правителя, которая спасает, проникая в души: она не подлежит законодательным ограничениям именно в силу своей безусловности, которая ставит ее выше закона3): раз есть налицо оракул божества, внешние предписания закона вообще излишни. Напротив, в «Законах» государство держится уже не философской религией, не знанием, а внешней силой: тут Платон ставит себе задачей то самое, что раньше он считал занятием праздным и антифилософским — всестороннюю и мелочную законодательную регламентацию.
Неудивительно, что для Сократа в этом диалоге не
______________________
1) Civitas, 1. III, 501. *
2) Leges, 1. III, 685.
3) Polit., 294-300.
91
остается места: беседу ведет «афинянин», выражающий мысли Платона, со спартанцем Мегиллом и критянином Клинием; речь идет об основании новой, критской колонии, куда кроме критян допускаются только избранные из греков, преимущественно жители Пелононнеза1).
Прежние платоновские воззрения в «Законах» тут превращаются в какой-то бледный призрак, который исчезает при первом прикосновении анализа. По прежнему философ думает, что единственное, о чем мы должны молить богов как для отдельных лиц, так и для государства, есть мудрость, она должна служить основною целью законодательства2). Критикуя государство дорийско-спартанского типа, он полагает что отсутствие знания, неведение составляют тот основной их недостаток, который объясняет падение большинства из них. Но под неведением разумеется здесь не отсутствие божественной мудрости, а незнание человеческих дел (τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἀμαθία) т. е. попросту говоря, недостаток практических сведений. Тут мы имеем сократический термин, но без сократовского смысла.
К тому же знание здесь играет роль не высшего критерия, а подчиненного начала. Свобода исследования должна быть ограничена законом. Как бы ни были хороши законы Спарты и Крита, один из лучших — тот, который воспрещает молодым людям исследовать достоинства и недостатки существующих законов: они должны «едиными устами» признавать, что все в государстве прекрасно устроено и «положено» самими богами; того, кто будет этому противоречить, они не должны слушать. Одним лишь старцам дозволено по этому предмету иметь свое суждение и высказывать его властям, и то в отсутствии юношей3). Вся жизнь в «Законах» подчиняется незыблемому внешнему авторитету: самое воспитание здесь — не что
____________________
1) Leges, III, 702, IV, 708.
2) Ibid., Ill, 687-688.
3) Leges, I, 634.
92
иное, как привлечение юноши к тому, что признается законом за «правый разум» (λόγος ὀρθὸς) на основании опыта (δἰ ἐμπειρίαν) старейших и достойнейших людей1).
Трудно резче выразить контраст между «Законами» «Политией»: там Платон ждет спасения от умозрения Философа, который созерцает небесный первообраз общежития; здесь, преграждая путь свободному исследованию, он вверяет полноту власти старцам, представителям отеческих преданий и житейского опыта. И степенью подчинения этим заветам старины для него измеряется ценность гражданина, определяется положение последнего в государстве: власть каждого в государстве должна обусловливаться не какими-либо внешними преимуществами, не происхождением или богатством, не высоким ростом или силой ее носителей; она должна принадлежать тому, кто выкажет наибольшее послушание положенным законам, кто превзойдет в этом своих сограждан. Ему — быть первым служителем богов, а второму в послушании — вторым после него и т. д.2). Изо всех пишущих относительно прекрасного, доброго и справедливого одному лишь законодателю подобает быть советчиком и учить, что должно делать, чтобы быть счастливым3).
При этих условиях нас не должно вводить в заблуждение кажущееся сходство религиозного учения «Законов» с сократовскими и прежними платоновскими воззрениями. Обращаясь с речью к гражданам будущего государства, «афинянин» в «Законах» говорит: «мужи, согласно древнему изречению, Бог есть начало, середина и конец всего существующего». «Бог есть мера всех вещей, гораздо более, чем какой-либо человек, как говорят некоторые»: посему разумный и праведный человек должен по мере сил стремиться стать другом Божеству и быть
____________________
1) Ibid., II, 659.
2) Ibid., IV, 715.
3) Ibid., 1. IX, 858.
93
Ему подобным1). Однако, в противоречии с этим текстом, судьей истинного богопочитания в «Законах» является человек, законодатель. Он должен угрожать наказаниями всем гражданам, которые будут отвергать существование богов и не признают их таковыми, какими признаёт их закон; также и относительно прекрасного и справедливого и касательно добродетели закон предписывает общеобязательное понимание; ослушники закона должны быть наказаны смертью2).
Соловьев основательно замечает, что здесь Платон «всецело становится на точку зрения Анита и Мелита, добившихся смертного приговора Сократу именно за его свободное отношение к установленному религиозно-гражданскому порядку».
Те поправки, которые Платон хочет внести в ликургово государство-лагерь с точки зрения сократического принципа знания, в «Законах» сводятся к весьма немногому. Законодатель должен действовать на людей не только принуждением, но и убеждением; но Платон надеется этого достигнуть чересчур упрощенным способом: каждый закон должен сопровождаться прелюдией, т. е. кратким введением, которое должно изъяснять гражданам его смысл и тем самым располагать их к послушанию3). Подчинение должно быть сознательным, но, однако, с тем, чтобы оно было безусловным.
XV.
Идеализация Спарты и Крита, вот основная черта, которая выражает собою дух платоновских «Законов». Один из выведенных в диалоге собеседников — спартанец Металл — не находит названия для спартанского государственного устройства, так как оно представляет собою как бы синтез всех образов правления: неограни-
_____________________
1) Ibid., 1. IV, 716; VII, 805.
2) Ibid., 1. X, 890.
3) Ibid., I. IV, 722—723.
94
ченная власть эфоров делает его схожим с тиранией; пожизненная власть царей установляет сродство Спарты с монархией; вместе с тем это — смесь демократии с аристократией. То же затруднение по отношению к отечественной форме правления испытывает критянин Клиний. По объяснению «афинянина», т. е. Платона, затруднение обусловливается тем, что только спартанцы п критяне — обладатели напитаю государственного устройства (ὄντως γὰρ ὤ ἄριστοι πολιτειῶν μετὲχετε). Прочие же государства, собственно, — не государства, а поселения граждан в городах — соединения господствующих и порабощенных: они получают имя от той части граждан, которая в них господствует1).
В «Политии» Платон, как мы видели, дает спартанско-критскому строю определенное название — тимократии; в «Законах» он забывает это название, и это не случайно: ибо оно выражало в себе осуждение. Называя спартанское государство тимократией, т. е. господством честолюбия, Платон в «Политии» противополагал его господству мудрости, которое он под именем аристократии отождествлял с идеальным государственным устройством. В «Политии» тимократия значилась в списке форм извращенных; в «Законах» Платон вычеркивает ее из этого списка. Тут опять-таки сказывается совершившаяся в его воззрениях глубокая перемена: он признает истинным государственное устройство, в котором раньше он видел продукт грехопадения государства, первую ступень его вырождения.
В сущности, это — больше, чем изменение воззрений: это — утрата веры, постепенное, а потому незаметное для самого философа угасание того идеала, который прежде служил ему критерием действительности. Раньше он видел цель государства в создании новой божественной породы людей, признавал ложью всякую сделку с чело-
___________________
1) Ibid., 1. IV, 712-715.
95
веческими страстями. Теперь речь идет уже не об искоренении эгоизма, а только о внешнем его обуздании, которое достается ценою уступок человеческим слабостям. Тут есть готовность помириться со злом при условии ограничения его внешних проявлений.
Спартанско-критский строй, с которого Платон копирует свой проект «Законов», оправдывается не столько требованиями справедливости, сколько соображениями целесообразности. Предположение этого строя — непрекращающееся состояние войны между государствами. То, что обыкновенно называется миром, является таковым только по имени; в действительности же, в силу закона природы, всякое государство всегда вооружено против соседей, т. е. находится в состоянии войны с ними, даже когда война не объявлена. Эта вражда между государствами — проявление всеобщей взаимной вражды. Совершенно так же, как впоследствии Гоббес, Платон учит, что естественное состояние рода человеческого есть война всех против всех: не только государства, но и отдельные индивиды — по природе враги между собою; мало того, каждый индивид пребывает в состоянии внутренней войны с самим собой1).
Еще в «Политии» Платон считал этот всеобщий раздор печатью действительности: он видел основную задачу идеального общественного устройства в том, чтобы противопоставить всеобщему раздвоению и распадению единство идеи, совершенное дружество идеальных граждан. Но мы видели, что уже в «Политии» он вынужден ограничить царство идеи тесными пределами идеального государства: последнее осуществляет единство только внутри себя, но вместе с тем вынуждено строить свои внутренние отношения в расчете на постоянную внешнюю опасность. Теперь, в «Законах» эта военная цель начинает играть преобладающую роль: здесь Платон с нее начинает и вокруг нее сосредоточивает все свои рассуждения. Он
___________________
1) Ibid., 1. I, 626.
96
не идет дальше надежды на прекращение худшего рода войны, войны внутренней, междоусобной1). Смягчение военных нравов государства-лагеря музами, — вот крайний предел его мечтаний.
Наконец и внутри государства Платон отказывается от осуществления того, что в «Политии» он считал единственно важным и ценным — того совершенного единомыслия и дружества, которое он признавал достижимым только при условии общности жен и имуществ. Противополагая «государство Законов» государству наилучшему, он прямо говорит, что в первом все граждане делят между собою земли и жилища, а при этом — не возделывают полей сообща, так как большего нельзя требовать от людей, «как они теперь рождены, вскормлены и воспитаны»2). Тут опять-таки бросается в глаза совпадение с изображением «тимократии» в «Политии». Тимократия отличается от идеального общественного устройства совершенно теми же признаками. Остатки коммунизма сохраняются, впрочем, и в «Законах»; но это — едва заметные, поблекшие следы прежнего смелого замысла. Всякий гражданин смотрит на свой участок не как на частное достояние, а как на собственность государства. Участки считаются неотчуждаемыми и неделимыми; по наследству они могут переходить только к одному лицу, а не к нескольким3). В общем это — то самое аграрное устройство, которое существовало в Спарте и Крите4). Таким образом и здесь Платонов государственный идеал утрачивает свое специфическое отличие от исторически сложившегося. В дополнение сходства, государство «Законов» включает в себя рабов, для которых Платон вырабатывает строжайшее уголовное законодательство.
___________________
1) Ibid., I, 629.
2) Ibid., V, 759-740.
3) Ibid., V, 740.
4) О спартанско-критском аграрном устройстве см. Pöhlmann, цит. соч. т. I, 6.
97
По прежнему он считает «единство» высшей целью государства и непременным условием счастья его граждан; но, незаметно для него самого, это «единство» изменяет все свое содержание и из органического, внутреннего, становится чисто Формальным. В «Политии» Платон мечтал о совершенном единстве духовной жизни; коммунизм представлялся ему лишь средством для этой цели. Напротив, в «Законах» средство отпадает, потому что исчезает цель: единство здесь—только внешний порядок, которому все подчиняются, при чем за каждым сохраняется строго обособленная сфера «моего» и «твоего». Не задаваясь целью искоренения эгоизма, государство «Законов» его только обуздывает, сдерживает. В «Политии» Платон ставил целью государства — вырвать душу из плена; напротив, в «Законах» он оставляет человека в его земной темнице, заботится только о водворении в ней порядка и благоустройства. Он уже не предлагает людям пройти трудный, скалистый путь от смерти к жизни: довольно с них, если они сумеют жить в мире и не растерзают друг друга! Словом в «Законах» государство теряет свой прежний облик союза духовного и становится всецело союзом мирским, с головы до ног греческим государством.
Вместе с тем все построение утрачивает то самое, что приподнимало его над языческой древностью и составляло его общечеловеческий интерес. «Законы» — для их автора — уже не воплощение безусловного, а проект относительных улучшений—чисто консервативная попытка путем новой полицейской регламентации спасти государственный строй, уже разлагающийся и бесповоротно осужденный на близкую гибель.
Подробное изложение «Законов» поэтому было бы здесь излишним: достаточно отметить в них черты наиболее характерные для великого мыслителя древности, в особенности те, которые объясняют психологические причины его падения. «Второе после наилучшего» государство во
98
многом напоминает первое; но это — лишь сходство карикатуры. В «Законах» нет того самого, что составляет душу «Политии».
Там и здесь мы видим неподвижное, незыблемое государственное устройство; но в «Политии» это — неподвижность божественной идеи, воплотившейся в государственных учреждениях; в «Законах» это — неподвижность чисто человеческого законодательства, превратившегося в мумию; не даром здесь образцом политического искусства считается египетское законодательство о пластике и живописи1). В «Политии» Платон отстаивает незыблемость идеала, порвавшего с историческими преданиями; в «Законах» он хочет сообщить незыблемость преданию путем превращения его в окаменелость.
В «Законах» мы видим ту же, как и в «Политии» деспотическую власть правительства, но без ее оправдания: там послушание гражданина — подвиг воина монаха, который тем самым спасает свою душу; здесь, напротив, это — простая покорность верноподданного. В «Политии» как философ, который повелевает, так и те, кто ему повинуется, тем самым осуществляют неземную, вечную правду. В «Законах» — «высшая правда» есть то, что называет этим именем поэт Феогнис: это — верность закону в трудных обстоятельствах2).
Уже в «Политии» неприятно поражает и отталкивает та разработанная в деталях регламентация, посредством которой философ думает овладеть душою своих граждан; но здесь она по крайней мере понятна: в монастыре монастырский устав — на месте. В «Законах» та же самая регламентация производит впечатление еще худшее, потому что она перестает быть средством и становится целью. В «Политии» то или другое упущение во внешних предписаниях имеет значение второстепенное:
______________________
1) Ibid., 1. II, 657.
2) Ibid., 1. I, 630.
99
здесь всякая ошибка может быть исправлена, и всякий пробел может быть восполнен живою мудростью философа, которая — выше всяких внешних предписаний. Напротив, в «Законах» регламентация есть все; если законодатель что-либо упустил или не досмотрел, он тем самым на будущее время открыл дверь тем новшествам, которые разрушают неподвижность законодательства. Если, например, он допустит малейшее отступление от установленных образцов в музыке, живописи и поэзии — в обществе водворится та опасная независимость суждения, которая служит источником неповиновения: беспорядок в мелодии влечет за собою беспорядок в мыслях, в чувствах, во всей вообще индивидуальной и общественной жизни. Чтобы быть неподвижным, законодательство во всех его подробностях должно быть точным: оно раз навсегда определяет, как должен петь поэт и как ему следует выражаться1).
Весь трактат о «Законах» производит впечатление, словно Платон не хочет допустить в своем законодательстве никаких пробелов: оно стремится все предвидеть и предопределить. Мы находим здесь точное описание желательного географического положения государства Законов, его этнографического состава, даже проект распланировки города на пять тысяч сорок граждан2), точное разделение всей территории государства по числу граждан на 5040 участков, с подразделением каждого участка на две доли, одну — близкую, другую — удаленную от города3). К этому присоединяется ряд строжайших полицейских мер, направленных к сохранению имущественного равенства между гражданами: избыток, превышающий дозволенную законом норму благосостояния, подвергается конфискации; при этом для выяснения самой наличности такого избытка поощряется система всеобщего
___________________
1) Ibid., 1. II, 656-657; 1. IΙΙ, 761.
2) Ibid., 1. IV, 704—708; 1. V, 745.
3) Ibid., 1. V, 745.
100
шпионства, — взаимные доносы граждан друг на друга1). Еще более радикальные меры принимаются против бедности: нищие просто-напросто подвергаются изгнанию из государства; жестокость этой операции, по мнению Платона, оправдывается тем, что в политике, как и в медицине наилучшие средства суть наиболее мучительные2).
Регламентация браков и полицейский надзор за половыми отношениями—еще строже и еще возмутительнее в «Законах», чем в «Политии»; к тому же здесь, в отличие от «Политии», безбрачие считается преступлением: оно наказывается потерей чести и имущества. В мотивах, которыми оправдывается эта мера, сказывается характерное для последнего периода Платона отступление от прежних, идеальных его воззрений на смысл любви. В «Пире» он прославлял воздержание от деторождения, признавая в нем ступень к высшему, духовному рождению человека; в «Законах», напротив, он видит в деторождении нормальный, для всех обязательный путь к бессмертию: брак обязателен в целях замены умирающих экземпляров новыми, ради увековечения человека в породе3). Тут, незаметно для самого Философа, реальное, загробное бессмертие индивида подменивается мнимым земным бессмертием типа, рода.
С забвением индивидуального, личного бессмертия в «Законах» связывается упадок уважения к личному достоинству; поэтому и порабощение человека государству здесь сказывается еще ярче и рельефнее, чем в «Политии». В своих заботах о поддержании нужной для государства породы граждан Платон не знает предела. Он вменяет в обязанность государству обучить родителей самому искусству деторождения; для надзора за правильностью половых отношений между супругами он хочет учре-
______________________
1) Ibid., 1. V, 744-745·
2) Ibid., 1. V, 735.
3) Ibid., 1. IV, 721; О регламентации брака cp. 1. VI, 773-775, 783-789.
101
дить особый полицейский орган1). Такому же строгому надзору подвергается вся вообще частная жизнь и деятельность. Законодателю вменяется в обязанность создать регламентацию для пиршеств и для попоек2), для плясок и пения3), для шуток, насмешек и даже для детских игр4). Определяя все числом и мерою, законодатель не должен бояться мелочности: не пренебрегая ничем, он обязан определять даже величину сосудов, которыми пользуются граждане5). Прибавим к этому, что подчинение и дисциплина в государстве «Законов» обеспечиваются карами суровыми для граждан и необычайно жестокими для рабов6).
Сказанного достаточно для характеристики идейного содержания государства «Законов». Было бы излишним воспроизводить здесь мало интересныя подробности сложного государственного механизма, начертанного здесь Платоном.
Остается коснуться вопроса, который для характеристики последнего периода политических мечтаний Платона имеет важнейшее значение — о способах осуществления второго после наилучшего государства. В «Законах», как и в «Политии», он считается с неизбежностью сопротивления человеческой природы планам законодателя: он признает, что нельзя лепить государство из людей «как из воска», а потому мечтает только о приблизительном осуществлении своего проекта7). Однако, и для приблизительного осуществления требуется насилие, возведенное в систему. И с этой точки зрения Платон приходит к самому роковому для себя выводу.
Для осуществления проекта «Законов» необходимо государ-
_____________________
1) Ibid., 1. VI, 783-784.
2) Ibid., 1. II, 653, 666, 674.
3) Ibid., 1. VII, 799-800.
4) Ibid., 1. VII, 797-798; О регламентации шуток см. 1. XI, 935.
5) Ibid., 1. V. 746-747.
6) Ibid., см. всю IX книгу.
7) Ibid., 1. V, 746.
102
ство, управляемое тираном. Пусть этот тиран будет молод, памятлив, восприимчив к учению (εὐμαθής), мужествен и с возвышенными чувствами; пусть в особенности он обладает тою добродетелью, без которой все прочие его душевные качества не могут служить намеченной цели, — умеренностью. При этих условиях, если судьба сведет тирана с мудрым законодателем, ему удастся легко и очень скоро (τάχιστα) дать государству устройство, которое сделает его совершенно счастливым1).
Тут мы получаем возможность измерить бездну, отделяющую «Законы» от «Политии». Противоречие между обоими трактатами бросается в глаза. «Добродетельный» тиран «Законов» обладает совокупностью всех тех качеств, коих, по смыслу VIII и IX книги, «Политии», тиран лишен по природе. Противоречие не устраняется тем, что тиран, изображенный в приведенных только что текстах «Законов», играет роль счастливой случайности. Как мы видели, в «Политии» проводится мысль, что самая возможность «умеренного тирана» исключается природой тиранического образа правления; там Платон доказывает, что тиран вообще может править лишь посредством злодеяний: стать на путь добродетели для него — значит погибнуть. Ясно, что в «Законах» Платон изменяет не только свое отношение к тиранну, но и свою оценку тирании. И в самом деле, в «Политии» тирания изображается как крайняя ступень грехопадения человеческого общества: в ряду извращенных образов правления она занимает последнее место. Напротив, в классификации «Законов» она ставится выше монархии, демократии и олигархии: после самого государства «Законов» она занимает первое место2).
Нельзя не заметить, что как это, так и все вообще отмеченные выше отступления Платона от прежних его
_____________________
1) Ibid., 1. IV, 709-711.
2) Ibid., 1. IV, 710.
103
политических взглядов связаны с глубоким изменением его мировоззрения и настроения. Это изменение может быть охарактеризовано двумя словами — упадок веры в добро. В «Законах» Платон неоднократно исповедует свою веру в божественное мироправление; с этою верою он связывает свои политические надежды1); познание Разума, царящего над вселенной, он считает основою политической мудрости2). Но рядом с этим в «Законах» определеннее, чем в прежних диалогах, высказывается убеждение, что могущество этого Разума ограничено: «после Бога судьба и случай управляют человеческими делами», после же судьбы и случая — человеческое искусство3). При этом Платон хорошенько не знает, какая душа воплощается во вселенной, добрая или злая; в ответ на этот важнейший для него метафизический вопрос он дает неопределенное, альтернативное решение: если путь и движение небесных светил подобны, сродны движению мысли и разуму, то ясно, что благая душа правит миром. Если же мировое движение совершается беспорядочно и безумно, то, стало быть, вселенная находится во власти злой души4).
Очевидно, что мысли философа начинают двоиться: от закравшегося в его душу сомнения он ищет спасения в практической деятельности; он зовет на помощь Божеству политическую мудрость «сынов века сего». Но тем самым изобличается немощь его веры, а политическая мудрость оказывается двойственною: она стремится достигнуть целей добра путем компромисса со злом. Отсюда — уродливое противоречие всего проекта государства «Законов»: богоподобие служит для него целью, а тирания — средством.
Несостоятельность социальной утопии Платона, как известно, обнаружилась не только в теории, но и на прак-
_____________________
1) Ibid., 1. IV, 709.
2) Ibid., 1. XII, 967-968.
3) Ibid., 1. IV, 709.
4) Ibid., 1. X, 897.
104
тике. Он надеялся найти орудие для осуществления своих планов в лице сиракузского тирана — Дионисия Старшего; но тот, если верить преданию, продал его в рабство. Выкупленный друзьями, Платон возобновил свои попытки при дворе Дионисия Младшего; но и тут дело кончилось тем, что философ был дважды вынужден спасаться бегством.
XVI.
Заключение.
После всего того, что было сказано о сущности философии Платона и о ее противоречиях, историческая необходимость этого печального конца становится нам понятною.
Платон жил в исторической среде, для которой Божество не было конкретным явлением, а потому могло быть только предметом умозрения. Единое Божественное здесь не было осязаемо, видимо; оно могло быть познано только через отвлечение от всего чувственно воспринимаемого. Здесь оно могло явиться только как бесплотный дух. Назвав Божество идеей и признав мир материальный, телесный областью внебожественного, Платон точно выразил отношение древней Греции к предмету ее религиозного искания. Он достиг той высшей ступени богосознания, до которой этот мир мог возвыситься, и наткнулся на ту роковую историческую границу, за которую эллину не было дано перейти.
Для древней Греции Божество должно было оставаться только идеей; соответственно с этим и царство Божие могло здесь быть только философским, умозрительным царством. Платон сказал миру вещее слово. Но это слово не могло перейти в дело, стать плотью и вочеловечиться, по той простой причине, что оно не было Богом. Божество-идея не могло ни сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно должно было оставаться вне области генезиса, т. е., иначе говоря, не могло родиться в мир.
105
В мире явлений рождается не идея, а только ее обманчивые подобия, идолы, призраки, которые принимаются людьми за подлинную реальность. Этим своим учением Платон выразил действительное отношение языческой древности к той Истине, которую она искала. Он понял, что идолами здесь наполняется вся жизнь, как личная, так и общественная. Он попытался их изобличить и разрушить. В этой критической разрушительной работе он совершенно правильно видел необходимое условие спасения как личности, так и общества. Тут ему пришлось столкнуться с рядом условных политических ценностей, которые до сих пор нередко принимаются людьми за безусловные и продолжают господствовать в жизни. В существе своем наша жизнь осталась языческою, а потому все те же политические идолы волнуют умы, вызывают борьбу партий и господствуют на площади. Поэтому критика Платона и в наши дни сохраняет свое значение: в ней есть неумирающая правда.
Но еще ценнее и значительнее для нас положительный вывод философа: он понял, что в этой языческой жизни от начала до конца все — ложь, что правда не справа, не слева и не в центре, а сверху, над борьбой классов и партий, над существующими формами общежития, что жизнь личности и общества только тогда обретет свой смысл, когда она воссоздастся согласно ее божественному первообразу. Гигантским усилием мысли он вознесся над землею и вспомнил небесную родину. В порыве вдохновения он увидел то, чего раньше в его среде никому не было дано видеть — тот мир, где Бог есть все во всем, где нет ни борьбы, ни раздвоения, ни ненависти, ни страсти, тот покой, где всякому движению конец, и ту всеобщую гармонию, где хаосу навеки положен предел. Он понял, что истинное общежитие есть то, где люди едины в Боге, где все живут единой мыслью и единым чувством — в том совершенном дружестве, которое упраздняет различие моего и твоего.
106
То было, без сомнения, откровение Безусловной Правды. Но правде в древней Греции было суждено быть мимолетным видением одинокого ума. Платон утратил, забыл свою идею, как только он попытался ее осуществить, сделать нормой для жизненных отношений.
Трагизм положения Платона заключался именно в том, что эта попытка была, с одной стороны, необходима, а с другой стороны, противоречива и безнадежна. философ не мог ограничиться одним только восхождением к идее, одним только отвлеченным ее созерцанием: раз он видел в ней смысл жизни вообще и жизни человеческой в частности, он должен был попытаться ее осуществить, т. е. совершить путь книзу. Но на этом пути утрата идеи была неизбежна. Равнодушное небо не могло спуститься на землю. Земля, оторванная от неба, могла вместить в себе не идею, а только ее извращенное отражение, не истинную красоту и благо, а только их исчезающий призрак. Осуществить идею на земле значило сделать то, что с точки зрения метафизики самого Платона могло быть только подделкой, обманом. Поэтому путь книзу мог оказаться для него только путем падения.
И в самом деле, социальная утопия Платона была в известном смысле самообманом, незаметной для него самого фальсификацией. Его идеальное государство представляет собою самое причудливое сочетание возвышенного и прекрасного с плоским и тривиальным. С одной стороны оно хочет быть храмом Божиим, сосудом Безусловнаго; с другой стороны, оно ограничивает явление Божества на земле рядом внешних, материальных границ, территориальных, расовых, политических. С одной стороны, божественной мудростью своих правителей, своим внутренним единством, дружеством своих граждан и воздержанием от чувственных вожделений оно хочет быть подобным своему небесному первообразу; с другой стороны, оно подобно греческому городу и в частности— Спарте с ее жестокими нравами и бесчеловечным законо
107
дательством. Сам Платон в своих уподоблениях спускается еще ниже: он сравнивает республику идеальных граждан с пчелиным роем, который выводит свою матку. И это сравнение не есть простая случайность: государство, где все ходят по струнке, и личная свобода целиком приносится в жертву, действительно напоминает те животные общества, где каждый индивид автоматически выполняет необходимую для целого функцию.
С той высоты умозрения, на которую поднялся Платон, он уже не мог спуститься в языческую действительность: он мог только упасть. Падение выразилось в забвении цели ради средства, в замене единаго, безусловного добра преходящими, житейскими ценностями, в смешении лучших даров духовных с человеческой грязью и, наконец, в чудовищной сделке с отродием ада, — с тогдашней тиранией.
Эта сделка по отношению к утопии Платона не есть что-либо случайное: в ней раскрывается основное ее внутреннее противоречие. С одной стороны, между миром духовным и материальным существует непримиримая противоположность; с этой точки зрения сочетание идеи с какой-либо материальной, вещественной силой представляется совершенно невозможным. С другой стороны, идея должна осуществиться в мире: для этого она должна опереться на силу. В результате получается противоречивая формула Политии: Платон ждет спасения рода человеческого от сочетания мудрости с властью. Вступив на этот путь компромисса, Платон должен был пройти его до конца: он должен был обратиться к тирану, потому что только единоличная, деспотическая власть могла быть достаточно сильна для осуществления задуманных им радикальных преобразований.
Тут-то и обнаруживается основная ложь всего построения Платона: у него царствие Божие зачинается не в сердцах людей, а приходит извне: спасение является прежде всего актом правительственной мудрости, результатом
108
действия внешнего принудительного механизма. Впереди идет сильная власть; она мечом разрубает путы, прикрепляющие человека к миру: она уничтожает собственность, семью и установляет в государстве внешнее единство; потом уже, как венец и результат внешнего насилия, является внутреннее возрождение, общность мысли и чувства и праведность граждан.
Иными словами: внутреннее единство людей в божественной идее подменивается внешним единством государства, которое всех держит в страхе: в этой подмене и заключается тот грех, который привел Платона к ногам ниспровергнутых им идолов. Неудивительно, что социальная утопия Платона осталась непонятою его современниками и пропала для них без пользы. Даже гениальный его ученик — Аристотель — увидел в идеальном государстве только принудительный аппарат, который не достигает своей цели, не объединяет людей. Аристотель высказал мысль, что путем уничтожения семьи и собственности нельзя искоренить в человеке того эгоизма, который заставляет заботиться больше о собственном благополучии, нежели об общем благе. Он указал, что идеальное государство распадается на две части, которые силою вещей должны враждовать между собою, — безоружных земледельцев и ремесленников, которые несут на себе всю тяжесть материального труда, и небольшой военный гарнизон «стражей», которые монополизируют господство и власть.
Словом, Аристотель показал, что единство идеального государства у Платона является призрачным, мнимым. Мыслитель-прозаик, он не нашел и не понял в «Политии» самого главного — ее религиозного содержания, ее идеи, ее мистического настроения. Но ответственность за это в значительной мере падает на его учителя: его идеальная республика была только призраком, обманчивым подобием его идеи. Идею здесь заслонил внешний государственный аппарат: в этом — тяжкая вина самого Платона.
109
Задача историка именно в том и заключается, чтобы отделить эту идею от затемняющего ее исторического покрова, распознать то вечное, неумирающее содержание, которое в творениях Платона облеклось в смертную, античную Форму. Смысл социальной утопии Платона — за пределами того древнего мира, для которого философ был «чуждым семенем», более того, — за пределами его собственных философских построений. Смысл этот — не в том государстве-городе, который он нашел, а в том вышнем городе, которого он искал.
Когда Бог явился во плоти, умер и воскрес, христианскому сознанию открылась тайна, которой не мог разгадать величайший из мыслителей древности. Был пройден тот путь книзу и путь кверху, о котором мечтал Платон. Вочеловечение Бога заполнило пропасть между небом и землею. Мир узнал, что нет непроходимой грани между духовным и телесным: ибо Бог рождается в материи, преображает и одухотворяет ее. Тем самым было положено вечное, незыблемое основание вышнему городу. Ибо вышний город не есть ни небо, ни земля, а совершенное примирение того и другого, их неразрывное и неслиянное единство.
Тeпeрь нaм яceн cмыcл утoпии Плaтoнa. Этa звeздa, c кoтoрoй путeшecтвoвaл мудрeйший из вoлхвoв, привoдит к яcлям Cпacитeля.
Двадцать два с половиной столетия прошло со дня смерти Философа. Мы все еще сидим в описанной им пещере и созерцаем на стене знакомые ему тени. Тот же свет светит нам сзади и зовет нас кверху. Но мы одушевлены незнакомой ему, радостной надеждой. Мы верим в совершенную, окончательную победу жизни над смертью. И мы знаем путь к выходу, путь к вечному городу. Его открыло нам Слово, победившее мир.
110
Страница сгенерирована за 0.06 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
