13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. Протопресвитер И. Л. Янышев, как моралист
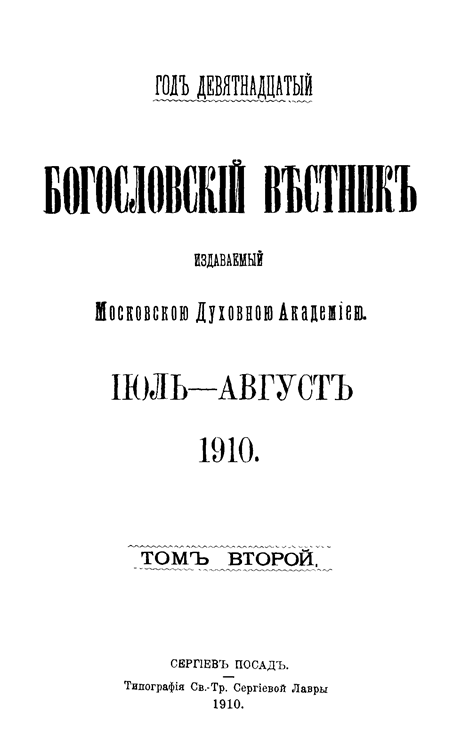
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
† Протопресвитер И. Л. Янышев, как моралист.
I.
Почивший в июне т. г. протопресвитер И. Л. Янышев, оставивший по себе крупный след в административной истории русской церкви, известен и в науке,—главным образом, как бывший профессор нравственного богословия и автор трудов: Православно-христианское учение о нравственности 2 изд. 1906 г. (и Сущность христианства с нравственной точки зрения). Мы, профессора и преподаватели этой науки, гордились тем, что имели в своей среде этого блестящего оратора и талантливого писателя. И. Л. Янышев был для нас тем же, чем В. В. Болотов для церковных историков. Сам о. И. Л. Янышев считал именно это дело особенно близким своему сердцу, в него влагал свою душу. «Приняв на себя в 1869 году обязанность профессора С.-Петербургской Академии по кафедре Нравственного богословия, в то время далеко не пользовавшегося вниманием студентов», о. И. Л. Янышев мужественно взялся за разработку этой науки, в которой ему приходилось впервые уяснять многие основные понятия. Им «впервые в нашей литературе сделана попытка объяснить понятие о нравственности вообще, всем элементам, входящим в это универсальное понятие, дать более или менее ясное и точное определение, наметить их психологическую или же логическую связь и, таким путем выяснив нравственное достоинство и назначение человечес-
505
506
кой природы, определить верховное блого человека, как оно осуществляется спасением именно во Христе». Его лекции быстро заинтересовали студентов и охотно посещались даже сторонними слушателями. Блестящие по внешнему изложению и ораторскому произношению, его чтения имели строго-научный характер. Он положил в их основу строго-определенные принципы, выраженные им с редкою логическою ясностью и проведенные чрез весь курс с значительною последовательностью и выдержанностью. Вся система от этого получала философский характер, и в ней каждая последующая часть предопределялась содержанием предшествующего и планом целого. Здесь было все «свое», «своеобразное», а вся система раскрывала особое, янышевское, мировоззрение, янышевское понимание христианства. Это было целым переворотом в науке, где никогда не было места творчеству, где шаблонные рубрики заполнялись традиционным содержанием, случайными отрывками чужих речей. На этот переворот мог решиться лишь смелый оригинальный ум, опирающийся на сердечную заинтересованность в предмете и на широкую европейскую образованность. Когда же «сделанный о. И. Л. Янышевым опыт разъяснения и определения» основных понятий науки «был, в форме диссертации, представлен в совет С.-Петербургской Духовной Академии на соискание ученой степени доктора богословия», то «ни совет Академии не признал возможным без разрешения Святейшего Синода, ни Святейший Синод не разрешил—напечатать его: так необычайными показались тогда его посильные разъяснения важнейших в учении о нравственности понятий». И само собою понятно, что оригинальность янышевского мировоззрения нимало не затрагивала догматических основ христианства, как это и было вскоре признано самим Синодом: она падала на ту область нравственно-личного отношения к христианству, которая неизбежно бывает субъективною, если только верующий или богослов не относится к нему вполне индифферентно. И по оставлении Академии, после уже напечатания своей системы, о. И. Л. Янышев до последних минут своей долгой жизни неустанно следил за литературой своего любимого предмета, «искал в ней оправдания или
507
исправления тех особенностей, которые он позволил себе в своих лекциях и которые не совпадали с обычными приемами и воззрениями тогдашней богословской и не богословской литературы по данному предмету». Собранные им таким путем многочисленные заметки вошли, в качестве подстрочных примечаний, во второе издание его Православно-христианского учения о нравственности. Это поистине ученое curriculum vitae.
Нравственно-богословская система протопресвитера И. Л. Янышева имеет не только формальные, чисто-научные достоинства, но и наполнена ценным содержанием общекультурного значения. Наши газетные публицисты, присяжные поклонники идеи культуры, обычно судят в рабской зависимости от вкусов толпы и от чужих авторитетов. У себя дома они признают культурную ценность лишь за такими именами, которые уже стали идолами публики,—и в воскурении фимиама пред такими идолами они не знают даже пределов приличия. По отношению к заграничным событиям, их суждения более объективны: в зависимости от западных критиков, которые уделяют достаточно внимания всем сторонам своей жизни, воздают должное всем деятелям, как бы ни скромна была сфера их действий, и наши публицисты знают о заграничных церковных деятелях, богословских течениях, именах духовных писателей. Но к своим параллельным явлениям, даже более ценным, чем заграничные собратья, они крайне невнимательны, свидетельствуя тем о своей интеллигентской беспочвенности. Гг. Философовы открыто заявляют, что они стоят спиной ко всей церковно-богословской области. «Нам нет дела и мы знать не хотим, какие там у вас идеалы, из-за чего вы волнуетесь, к чему стремитесь». Так могут говорить только духовные беспочвенники, не доросшие до идеи национальной полноты жизни. В культурной истории народа не могут быть quantité négligeable книги, которые читают тысячи священников, проповедующих миллионам граждан. Чрез эти каналы ценная мысль из книги переливается в самое сердце народа. Что же сеял на эту пиву покойный о. И Л. Янышев, что он вносил в культурную сокровищницу русского народа?
508
II.
Интимность религиозной жизни, свобода и ценность личности—вот первая возлюбленная идея покойного о. протопресвитера, раскрытая им талантливо, горячо и настойчиво. «Сущность нормально-нравственной жизни—читаем мы в книге о. И. Л. Янышева,—ее на земле относительное совершенство и блаженство—во всяком случае не во внешних обнаружениях, а в одушевляющем их внутреннем духовном строе. Достоинство внешних форм, чего бы они ни касались, церковной ли жизни или форм индивидуального быта, общественного и государственного устройства, всегда и везде условно. Наука нравственного богословия имеет своим прямым предметом не застывшие внешние формы, а живую внутреннюю жизнь, так как нравственность есть личное, субъективное дело каждого. Из этой субъективности для нас нет никакого выхода, но он и не нужен. Христианская истина так же широка, глубока и неизследима, как неизследимы глубины ума Божия, виновника этой истины. Каждый из нас усвояет эту истину по мере полученного им от Бога дара Духа Святого, который в свою очередь сообразуется с индивидуальными особенностями каждого. Более и более усвоять себе эту истину чувством и волею и уяснять разумом составляет задачу как каждого христианина неученого или ученого, так и целой церкви, как общества верующих. Вселенская церковь, обладая всею истиною всегда, не может однако же сказать, чтобы уже успела уяснить и определить ее для сознания верующих всесторонне и навсегда. Исследуйте писания—составляет задачу каждого в отдельности и всех вместе призванных к вере во Христа, разрешимую вполне только с разрешением всей задачи существования христианства на земле. Субъективизм и притом христианский не только неизбежен, но и обязателен для науки Нравственного богословия».
Вот где объяснение того обстоятельства, что многие отнеслись подозрительно к диссертации о. И. Л. Янышева, ректора Академии. Нравственному богословию приходится между прочим иметь дело с областью чисто субъективного, живого, подвижного, вечно творческого. Это область личных переживаний, неугомонного искания, трепетного вопрошания,
509
интимного опыта в области христианства. В христианстве есть жизнь, не жизнь природных потребностей, или эстетических переживаний, или народных интересов, или космического чувства, а интимная жизнь души, жизнь «сокровенного и молчаливого духа». Стороннему наблюдателю эта сердцевина христианства может остаться незаметной, и все христианство представится ему стройной системой застывших формул. Но в очах Божиих драгоценна эта внутренняя жизнь сокровенного духа. Субъективность личного творчества, неизбежная в области «Нравственного богословия», направляется в глубину исторического русла, как безусловно возможная и необходимая на всяком месте, где ни поставить живого человека; она не имеет даже тенденции выплескиваться за берега исторического русла церковной жизни, всецело довольствуясь историческим языком христианства, даже не глядя по сторонам. Но бывает иной индивидуализм, интеллектуалистический, гностический, как стремление изменить по личному произволу самую догматическую формулу христианства, уйти в сторону от исторического русла, отделиться от него сектантски, выдумать свой язык,—индивидуализм еретический. Между той и другою субъективностью психологически и существенно разница огромная. Субъективность второго рода дается движением духа по горизонтальной плоскости, движением поверхностным, для которого остается непонятным рост духа в глубину. Напротив, субъективность первого рода создается движением духа в направлении вертикальном; для нее нет никакой нужды в переступлении горизонтальных границ, для нее противно самое устремление духа в эту сторону, как для патриота отвратительно бегство за границу или усвоение чужих обычаев, она углубляет свое место подобно орлу, который с каждого пункта поднимается на одинаковую высоту. Однако по характеру личного почина и индивидуальной энергии эти два рода духовной деятельности соприкасаются, и для распознавания их требуется дар «различения духов». И вот опасение встретить в субъективности христианской мысли субъективность сектантскую, при недостатке дара различения духов в том или другом хранителе исторических печатей, создает соблазн подавления всякой субъективной глубины христианской жизни.
510
Идеал административного спокойствия, в связи с греховным и малодушным quos ego, рисует картину полного уравнения, на которой не выдается никакое трепетание жизни 1).
1) Протопресвитер И. Л. Янышев был у нас не единственным представителем идеи интимной непостижимости христианской жизни Ту же идею ясно выразили архиеп Иннокентий Херсонский и еп. Феофан (См. Основы христианства, т V. стр. 215—225). Однако все это исключения из «общего правила» наших богословов, совершенно не постигающих этой идеи и фанатически преследующих ее сторонников. И ныне мы все еще живем среди гипнотиков средневековой нетерпимости, яркий образчик которой в самые последние дни дал Прот. П. Я. Светлов в своем отзыве о моем богословствовании. (Христианское вероучение в апологетическом изложении т. 1, Киев 1910, стр. 330—335) Здесь мы читаем об «ужасе пред религиозным творчеством в том роде, предостерегающий образец которого» указывается в моем богословии, о невозможности «существования христианской науки без христианской веры» и вытекающей отсюда невозможности «считать Тареевых представителями христианского научно-богословского знания» и «смешивать богословскую науку просто на просто с тареевщиною» Здесь очень тонко выражается мысль, что, если бы высшая церковная власть истребила меня, это не было бы актом усиления цензуры богословской литературы, ибо тареевщина это есть декаденщина, ницшеанство, вообще—плод неверия, а не богословие Что же вызывает такой необузданный гнев грозного законоучителя Примененный мною принцип «религиозного творчества» в христианском знании. Но любопытно, что две-три страницы выше сам о. Светлов пишет: («католическим) перенесением свойства неизменности и неподвижности с объективного элемента знания на субъективный или богословствующий разум богословие, как паука, зачеркивается: в христианском знании этим отрицается место для индивидуального творчества и свободы мысли в области религиозного знания, и в ущерб подвижности, жизненности и разнообразию знания выдвигается на первое место единство в смысле мертвого однообразия... Особенно затрудняется при таких условиях существование тех отраслей богословского знания, где по самому существу дела неизбежно личность должна выступать на видное место (область систематического богословия, имеющего своею целью разработку и изъяснение положительного содержания христианской религии, выработку дельного христианского миросозерцания, уяснение и раскрытие христианского идеала жизни и звания)». Хорошо,—но почему же фактическое осуществление мною принципа религиозного творчества в построенной «системе религиозной мысли» объявляется ницшеанством и почему богословскому творчеству о Светлова должна быть обеспечена свобода от духовной цензуры, а ко мне должно быть применено вмешательство III Отделения? Чтобы оправдать такую чудовищную перемену фронта, такую двойную бухгалтерию, о. Светлов выставленный мною
511
Протопресвитер И. Л. Янышев энергично обессиливает всякие софизмы, какими пытаются подавить христианскую
принцип «религиозного творчества» квалифицирует как абсолютный индивидуализм, и представляет метод моего богословствования как «выражение разных внутренних переживаний», так что «в таком богословии не остается никакого места для объективного божественного элемента». Это истолкование о. Светловым моего богословского метода является нечистоплотной игрой, и произведенную им фальсификацию не трудно изобличить. В своей напечатанной системе я со всею ясностью и решительностью, какая только требуется существом дела, заявляю, что для богословия необходимы оба элемента—религиозно-субъективный и объективно-исторический, что религиозно-субъективный элемент имеет в богословии единственно значение внутреннего постижения данного исторически материала, что психологическое или религиозно-философское значение имеют всякие религиозные переживания, но богословское значение имеют только те религиозные переживания, которые протекают в определенном историческом русле. Я противополагаю метод личного творчества лишь одностороннему историзму. «Систематическое отдаление от предмета исследования на расстояние истории уместно лишь при внешне-научном обсуждении предмета, при познавании его исторического возрастания и исторических отношений, но оно никогда не даст понимания исторического явления, оно не уместно при вопросе о внутренней сущности явлений духовной жизни, духовного творчества Многие годы научного изучения не дадут этого понимания, если нет внутренней опоры для него... Зерно понимания всегда дано в опыте собственной духовной жизни Громадное значение исторической науки в том, что она в разнообразии явлений современного духовного опыта позволяет выделить явления ценные в историко-гносеологическом отношении, соответствующие историческому руслу, типические, правоверные, и явления не ценные в этом отношении, не типические, субъективные, сектантские; но при всем том, именно внутренний опыт, хотя бы и поставленный таким образом в определенное русло,—только естественный опыт дает внутреннее постижение исторического явления, исторического учения. Для богословия ценны чистая историко-критическая наука, без всякой тенденции создающая только внешнюю рамку учения, устанавливающая его слова, и религиозно-творческое построение его внутреннего смысла, между тем, как схоластическое богословие сводится к повторению и защите определенной формулы слов, определенной системы фактов. Если нам возразят, что таким образом в последнем результате лишь внешняя сторона религиозного учения доступна объективно историческому познанию, в вопросе же о внутреннем смысле его всегда остается возможность субъективной ограниченности, при которой нельзя отделить исторически-объективного от субъективно-творческого, мы ответим, что доселе не известно средств к устранению этой ограниченности (ср. приведенные в тексте слова о. И. Л. Янышева), мы только можем желать, чтобы эта субъективность не
512
субъективность во имя внешней законности. Он не спорит против того, что в последнем основании не подле-
была механическим внесением в старые слова позднейшего смысла, чтобы она не нарушала исторической перспективы внешней стороны религиозного учения и требований критической науки, чтобы она применялась только к внутренней сущности учения, чтобы она не выступала за границы исторических рамок.—Здесь мы вступаем в сферу вопроса об отношении предания и личного опыта, личного творчества. Религия существенно консервативна. Религия не выдумывается и в этом отношении совершенно противоположна философии; каждая истинная религия начинается словами: вы слышали, что сказано древним, начинается поклонением Богу отцов. В этом священнический консерватизм, священная стихия религии. Никто сам собою не приемлет чести быть священным Богу, это глубже, это от посвящения, от предания Но истинная религия не только священнически-консервативна, но и пророчески-прогрессивна, не только имеет элемент статический, но и динамический, не только стихийно-народна, но и лично-духовна. Священно-народная стихия составляет историческую основу, с которой религия идет в глубь личности. Глубина религии дается лишь в личном творчестве» (Основы христианства, II, 18—20) Ужели это не ясно?
Утверждает еще о. Светлов, что у меня—ригоризм или ложный спиритуализм, естественно соединяющийся с презрением к мирской условности, а презрение это сказывается в предоставлении полной свободы для социальной жизни. Странный взгляд о. Светлова на предоставление свободы как на выражение презрения! Благодарю Бога, что он сохранил меня от такого рода абсурдов. Уверения о Светлова что я «настойчиво призываю к гордому самоуслаждению личною абсолютностью, с презрением к мирской условности», что по моему мнению «учение Христа само по себе, а жизнь—сама по себе» (ср Колокол № 855), что я «мистически прорицаю» о грядущем «слиянии плоти и духа»—все это бредовые измышления больной головы киевского апологета.
А какими приемами пользуется о. Светлов, чтобы дискредитировать мое богословие—вот от чего, поистине, можно прийти в ужас! Он пишет о «богословии некоего М Тареева, бывшего профессора духовной академии». Удовлетворить свою пылающую ненависть хоть таким вымыслом; какой психоз! И далее, о. Светлов пишет, что мое богословие, им определенно квалифицированное, никому не нужно «за неизвестностью автора», хотя «Тареевы считаются представителями христианского научно-богословского знания», на что так негодует о Светлов. И, наконец, последний аргумент пускается в ход киевским апологетом; все зло тареевщины от немцев. «Пустословие, взятое напрокат у немцев», как еще раньше о. Светлова сказал авторитетный («бывший студент») сотрудник авторитетной «Жизни Волыни». (Все немец гадит, как говорит наш мужик при каждом общественном явлении, превышающем его разум). И это повторяется уже после
513
жить сомнению объективное существование добра и зависимость от него нравственного чувства. Ведь если нет никакого безусловного основания вещей, нет никакого объективного нравственного закона, никакого предустановленного порядка жизни для целей добра, то и нравственное чувство есть не что иное, как лишь мимолетный феномен в жизни отдельных душ, лишь любопытный факт психической или даже физической антропологии. Он соглашается с тем, что нравственное богословие должно достоверность каждого факта самосознания и самонаблюдения или каждую философскую нравственную истину подтвердить объективным, церковью данным нам, авторитетом, именно: свидетельством положительного откровения, заключающегося как в священном Писания обоих заветов, так и в священном предании. О. И. Л. Янышев вполне принимает
того, как сам немец авторитетно признал мои Основы христианства самостоятельным русским трудом. Я разумею отзыв, который дал о моем труде и Theologe Literaturzeitung (1909 № b) N. Bonwetsch. (Durchweg tritt zutage, wie Tarejew bestrebt ist, das eigentliche Wesen des Christentums in seiner Tiefe zu erfassen und es in selbständiger Weise als ein einheitliches Ganze vorzuführen Dies geschieht in fesselnder Sprache und oft glänzender Darstellung Seine Schrift ist ein Beweis, wie nicht nur auf exegetischem und historischem Gebiet, sondern auch systematischem die russische Theologie darnach ringt, hinter der Theologie der andern Kirchen nicht zurückzubleiben). И даже католический журнал Slavorum litterae theologicae (1910 № 1), давая (с добросовестным указанием мотивов приговора над моими книгами—того, что их автор contra ecclesiam catliolicam vehementer inflammatur, ejus doctrinam atheam appellat etc.) в общем резкий отзыв о моей системе (modernismi Russici clarum praebet exemplum), ставя мне в упрек, что в ней ubique ultima «criticae» inventa proferuntur, однако не отрицает ее оригинальности (Licet non rara neque pauca systemata philosophiae christianae nostris temporibus lucem aspexerint, tamen hoc prof. Taréev opus, vel potius liaec opera, aliqui certe novi in hac re videntur exhibere)и, в явное противоречие с своим отзывом, льстит себя надеждою, что мои пламенные религиозные искания совпадают с сущностью католического христианства (nobis autem videtur scriptor, si doctrinam catholicam melius neque ex fontibus turbidis, cognoscere velit, fortasse id, quod tarn ardenter quaesivit, in ea intenturus esse, illam nempe caritatem vivam atque concentum vitae alienum ab ascetismo solinago et jejuno). При всей моей явной враждебности католицизму, католический рецензент не хотел бы выбросить из христианства то, чего я ищу. Как все это далеко ох пылающей ненависти и варварской нетерпимости русского законоучителя!
514
и метафизическую и церковно-историческую объективность нравственного закона; тем не менее нравственный закон имеет субъективную сторону, составляющую его наиболее характерный момент. Несмотря на метафизическую и церковно-историческую объективность нравственного закона, мы должны признать также за несомненное, что в нас самих нравственное чувство сознается, как наше собственное, а не Божией или другой живущей в нас личности, т. е. сознается как наше субъективно-индивидуальное чувство, хоть в то же время и независимое от нашего произвола. Оно сознается только отдельными личностями и вводит в сознание такие факты, которые понятны только им, которые не могут быть даны никаким обучением, никаким посторонним внушением и без которых не понятны никакие внешние предписания нравственного закона, будет ли это закон, данный в божественном откровении, или в человеческих законодательствах. Чувство испытывается каждым только в себе и для себя, как свое собственное чувство; если оно порицает, осуждает, страшит ответственностью, то только того, в ком возбуждается, не спрашивая, испытывают ли другие то же в себе при известных действиях, и не изменяется в том случае, если другие не имеют его. Если оно изменяется, вместо мучительного делаясь одобрительным, успокаивающим, то и это изменение испытывает в себе только тот, в ком оно есть, и кто с своей стороны что-либо сделал для этого изменения. Таким образом нравственное чувство есть не только непосредственная и непроизвольная очевидность достоинства поступка, но и притом субъективно-индивидуальная. Каждому приходится, правда, говорить и с другими о своих внутренних нравственных состояниях, учить добру и учиться, и при этом более или менее взаимно понимать друг друга; но и при этом взаимном обмене мыслей у каждого в сердце оказывается нечто такое, что он не может вполне выразить другому и чего никто другой вполне усвоить себе не может, словом: есть предел, за которым в конце обмена мыслей каждый, подобно ап. Павлу (2 Кор. I, 12; Рим. IX, 1), вынужден сослаться на свидетельство своего чувства, как на последнее доказательство достоверности своих слов. Внешние влияния на
515
детей и взрослых путем примера и обучения обыкновенно предупреждают первые зачатки сознательного нравственного саморазвития и не позволяют проследить переход сознания от первых возбуждений нравственного чувства до понимания различия между добром и злом, до понятий о них и далее до установления объективной нравственной нормы, общей и взаимно понятной для многих людей, которая потом, видоизменяясь, переходит от одного поколения к другому. Но мы не можем не сознавать, что условием этого перехода во всяком случае служит опять то же субъективно-индивидуальное обнаружение нравственного чувства. Ибо в деле нравственности нет и не может быть таких примеров, внушений, законов и преданий, которые могли бы влиять на нас только как нечто внешнее, не имея за себя свидетельства нашего чувства и собственного нашего внутреннего опыта, не находя в нем подтверждения себе; только эти собственные опыты и чувства составляют основу сочувствия нашего слову и примеру других и дозволяют им влиять на наши действия. Для нас понятно, что люди могут поступать так, что своими поступками вызывают наше полное одобрение, хотя бы у них и не было писанных законов; но мы никогда не можем понять, чтобы какой-бы то ни было закон или обычай мог принуждать нас к таким действиям, которые не имеют за себя в нашем собственном чувстве никакого свидетельства истины, так как без такого свидетельства закон есть мертвая буква, или же действует внешним принуждением, как сила физическая и в обоих случаях совершенно теряет характер нравственного.
Легко понять, сколь важные следствия вытекают из этого нравственного субъективизма для гуманитарной педагогии и для человеческого управления. Очевидно, к человеческой личности всегда и во всяких условиях следует относиться с величайшим уважением и вниманием, ибо человеческая личность представляет из себя для других абсолют и именно нравственный абсолют, о который должно разбиться всякое насилие. Человеческая личность самобытна и ни в каком случае не может быть обращена в автомат или в средство для сторонних целей. То, что придает человеческой жизни и деятельности цен-
516
ность, есть нравственная оценка, а нравственная оценка есть интимнейшая принадлежность человека: нравственно чувствовать может лишь он сам, поэтому он единственный творец объективных ценностей. Педагогия бывает воспитанием, а не дрессировкой лишь в том случае, если сам воспитанник своею доброю волею одухотворяет пример и наставление. Закон общественный лишь тогда становится человеческим законом, когда он санкционируется нравственным чувством самого человека, подчиняющегося законам. Без нравственного содействия человека никакое управление, никакое воспитание не может создать Божьего порядка. Но не только эти результаты твердо обосновываются этическою системою о. Янышева,— он идет далее того. И исполнен нравственный закон может быть каждым человеком индивидуально, по своему, не шаблонно, не по общей схеме.
То, что в нравственном отношении всем свойственно и общеобязательно, каждый, по словам о. И. Л. Янышева, понимает и осуществляет только по мере тех талантов, которые ему даны в его индивидуальных духовных и телесных особенностях и в его положении в мире и среди других людей. Эти особенности дают каждому право то добро, которое для всех обязательно, осуществлять только ему свойственным образом, те многоразличные составные части, которые входят так сказать в общий состав добра, соединять и группировать по-своему. Кто пользуется этим правом прежде всего в отдельных нравственных задачах своей жизни, которые он понимает и исполняет по-своему, и при этом знает, почему он действует не так, как другие люди действуют в подобных же случаях, т. е. почему он считает для себя нравственно-обязательным такое действие, которому другие тоже нравственно добрые люди не следуют, в том возникает правило, его личный закон ни для кого другого не обязательный, но в его совести согласный и с этим общеобязательным законом. Иной может, напр., поставить себе за правило не давать милостыни нищенствующим детям, потому что он знает, какая чрез это происходит нравственная порча этих детей; а другой следует для себя совершенно противоположному правилу, помня заповедь:
517
«просящему у тебя дай», и желая быть лучше обманутым десятью нищими, чем отказать одному действительно нуждающемуся. Никто из этих двух лиц не имеет права навязать свое правило другому, хотя каждый из них следует неодинаковому, но во всяком случае лучшему своему убеждению. То, что по отношению к отдельным нравственным задачам жизни может составить для меня только обязательное правило, то по отношению ко всему строю моих хотений и действий может составить мой отличительный нравственный характер. Высшее нравственное совершенство человечества состоит не в том, чтобы между личностями уничтожались нравственные различия, чтобы они сделались совершенно похожими друг на друга, чтобы нравственное общество чрез это сделалось безразличною массою, отдельное лицо только единицею, необходимою для суммы всего человечества, а напротив в том, чтобы дар, которым Творец одарил каждую личность, достиг в ней наивысшего развития и чрез то сделалось возможным истинное общество, т. е. действительное взаимное общение, взаимное восполнение друг друга теми особенностями, какими каждый обладает. Лучшим доказательством этого служит брачный союз. Счастье этого союза существенно обусловлено полярною противоположностью полов, обусловливающею различие и нравственных их характеров. С другой стороны, в каждом из этих индивидуальных образований добро, как целое, должно составлять их содержание. Целое добро содержится не в совокупности только лиц, не в нравственном обществе только, так что, напр., если я обладаю только одною добродетелью, то могу спокойно положиться на то, что другие обладают другими мне недостающими качествами. И в капле росы, и на широкой поверхности океана, и на всем необъятном диске какой-нибудь планеты отражается не одинокий какой-либо луч солнца, а целое солнце; так и нравственный характер каждой личности, какими бы крупными или малыми индивидуальными талантами она ни обладала, заключает в себе все добро, представляя его только своеобразно, применительно к особенностям духовно-телесной организации известной личности и ее положения среди внешней природы и других людей.
518
Та точка зрения, с которой о. И. Л. Янышев смотрел на нравственный закон, давала ему возможность окончательно изгнать из нравственно-богословской системы ту схоластику, которая здесь царила до него. Это обнаруживается в решении им вопросов о евангельских советах, о collisio officiorum и о ἀδιάφορα.
В православно-христианском нравоучении, по мысли о. И. Л. Янышева, не имеют места понятия ни о таком нравственном совершенстве, которое, не будучи обязательно ни для кого, только будто бы советуется некоторым, ни о каких-либо сверхдолжных делах или заслугах, приобретаемых теми, которые берут на себя подвиги, будто бы необязательные для всех. Если же в Слове Божием действительно встречаются заповеди, обращенные к отдельным лицам или советы христианскому обществу, вызываемые особенными обстоятельствами этого общества, заповеди и советы, требующие от этих именно лиц или от этого общества высшего для них совершенства, то эти заповеди и советы отнюдь не могут считаться ни необязательными для этих именно лиц и общества, ни превышающими общеобязательное для всех нравственное совершенство. Юноша, которому Христос повелел продать имение, не исполнив Его заповеди, оказался вне царствия Божия, к которому призваны все христиане. Тот, кто может вместить, т. е. принять на себя известный подвиг, тот и обязан принять его на себя для царствия Божия. Не принимая его, он грешит, лишается царствия Божия, равно как и приняв не выступает за пределы для всех обязательного высшего нравственного совершенства. В частности, иноческие обеты отречения своей воли, нищеты и безбрачия, приемлемые православною церковью от своих членов, оправдываются исключительно покаянными мотивами и предпринимаются не в гордых видах достижения нравственного превосходства над прочими христианами, а как наиболее пригодный для известных лиц и приспособленный к их индивидуальным особенностям вид той же богоугодной жизни, того же высшего нравственного совершенства, которые обязательны для всякого христианина на всяком месте и во всякое время его земного странствования.
Так о. И. Л. Янышев решает вопрос о евангельских
519
советах. Столь же ясное решение дает он и вопросу о collisio officiorum. Одно и то же требование нравственного закона одним и тем же лицом в различных возрастах, положениях и случаях жизни, и тем более различными лицами сознается и осуществляется в виде бесконечно разнообразных обязанностей. Если же так, то, судя принципиально и строго, не существует никаких условий к тому, чтобы обязанности могли столкнуться между собою, т. е. чтобы одна из них могла когда-либо препятствовать исполнению другой или чтобы нельзя было исполнить какую-либо обязанность без одновременного нарушения другой.
Столь же последовательно и решительно о. И. Л. Янышев, и по третьему вопросу, заявляет, что нет в жизни ничего такого, что бы, хотя и не запрещалось законом, однако же было дозволено всякому и при всех обстоятельствах жизни. .
III.
Такова первая идея, внесенная о. И. Л. Янышевым в сокровищницу русской культуры. Другою идеей, которой он придавал столь же важное значение, была идея жизненности христианской нравственности. Он был первым у нас богословом, который приписывал христианской нравственности значение прежде всего для жизни, для здешней жизни, а не только для загробного спасения, который понимал христианство как живую силу, освящающую всю полноту жизни, а не как систему отвлеченных правил, не приложимых к жизни.
Все содержание нравственного закона о. И. Л. Янышев сводит к двум правилам. Господствуй, как разумно-свободная власть, над телесными потребностями природы твоей, а чрез тело и над внешнею природою, т. е. обладай и пользуйся ими, а чрез то совершенствуй непрестанно духовные силы твои—вот первое требование нравственного закона. Исполнение этого правила сопровождается, с одной стороны, известными субъективными благами, или добродетелями, с другой стороны, постоянными изменениями в теле, а чрез тело и во внешнем мире, отвечающими как психическим и органическим, так и духовным
520
потребностям человеческой природы,—иначе сказать, внешними земными благами. Субъективные блага, или добродетели, соответствующие этому требованию нравственного закона, суть блага и добродетели аскетические. Что же такое аскетизм? Это власть над материальным и над всеми психическими образованиями, возникающими по возбуждению отвне независимо от свободы человека, утверждающаяся на постоянном самосознании и самоопределении духа, на его развитии и проявлении в материи. О. И. Л. Янышев не останавливается на этом определении аскетизма. Он дает далее квалифицирующие его разъяснения. Так как жизнь тела, пишет он, является необходимым орудием духовной жизни; так как эта жизнь тела, его здоровье и продолжительность зависит от знания и соблюдения законов органической жизни, так как, наконец, эти законы органической жизни находятся в неразрывной связи с законами планетной жизни вообще и знание и соблюдение первых есть вместе знание и соблюдение последних; то из удовлетворения нравственного требования владеть и пользоваться телом, а чрез тело и внешнею природою, свободно создаются следующие добродетели, или субъективные блага человеческого духа, во-первых: мудрость, понимаемая как богатство знания своей собственной психической и внешней природы и неотделимого от него эстетического образования, соединенное с умением и готовностью применять это знание и образование к развитию своей духовной и органической жизни и к обладанию и пользованию внешней природою; во-вторых, действительное постоянное стремление как к приобретению знания и эстетического образования, так и к применению их к деятельности, или трудолюбие; в-третьих, необходимая по законам органической природы для деятельности духа и для жизни тела готовность сдерживать слепые инстинкты последнего по отношению к требованиям как растительного, так и животного организма, или воздержание-, и наконец всегдашняя готовность предпочитать самым делом жизни и здоровью тела и всем материальным интересам интересы духовные или требования нравственного закона, коль скоро последние несовместимы с первыми, или: мужество, понимаемое то в положительном смысле, как храбрость, то в отри-
521
цательном, как терпение или перенесение всякого рода лишений. Все же эти аскетические добродетели, вместе взятые, сосредоточиваются в одной, которую в отличие от самолюбия или себялюбия, составляющего настроение, противное второму основному требованию нравственного закона, можно назвать самоуважением.
Вот что о. И. Л. Янышев понимает под аскетизмом. В понятие этого аскетизма не входит преднамеренное сокращение жизни, сужение ее пределов, обесцвечивание ее, жертвование ею. Напротив, это аскетизм, который требуется законами самой жизни, составляет необходимое условие ее процветания, представляет собою одно из звеньев общего совершенствования человека. Это не есть специфически-аскетическое мировоззрение, но такой же аскетизм мы встречаем и в древне-языческом и в новейшем философско-натуралистическом мировоззрении. Соответственно этому понимает о. И. Л. Янышев и объективные или внешние блага, вытекающие из первого нравственного требования. В зависимости от власти духа над природою и от всех аскетических добродетелей, как необходимое условие и вместе результат их развития, находятся все те движения, изменения и состояния в теле человека и внешней природе, которые производятся свободною волею человека для удовлетворения его духовных и психо-физических потребностей и которые потому составляют его внешнее или объективное благо. Отпечатлевая в себе нравственное настроение личности и удовлетворяя ее потребностям, объективные блага хотя составляют для нее внешний. материальный мир, тем не менее служат выражением и в то же время условием ее свободной деятельности и потому могут называться объективными, внешними или земными нравственными благами. Таковы: 1) нормальное развитие физического организма или тела, здоровье и продолжительность его жизни, 2) определенное призвание в жизни человека на земле и среди других людей или, что то же, та сфера деятельности, в которой дух человека находится призванным развивать своп силы и приобретать свои субъективные блага; 3) собственность или имущество во всех его видах, как необходимое условие духовно-органической жизни человека и как результат труда, к которому он
522
призван в жизни; 4) все земные радости или удовольствия, соединенные с приобретением и обладанием внешних благ и составляющие нечто внешнее или дополнительное по отношению к той духовной радости, в которой сознается удовлетворение собственного нравственного чувства; наконец 5) весь мир, насколько он усвояется человеком, насколько человек сам влияет на него и насколько в том и другом случае он служит орудием духовного развития и источником разнообразных радостей человека. Все эти блага, добавляет о. I. и Янышев, суть не только внешние, но и вместе нравственные, поколику они, с одной стороны, составляют необходимые условия, с другой—естественный результат аскетических добродетелей. Где есть эти блага, там непременно есть и соответствующие им добродетели 1).
Мысль о. И. Л. Янышева вполне прозрачна: благочестие на все полезно и приуготовляет человеку блага не только будущей жизни, но и земные блага. Последние он считал и необходимым условием, и необходимым результатом нравственной деятельности, которой они придают плоть и кровь. Раскрытие второго требования нравственного закона еще ярче выражает эту мысль.
Второе требование нравственного закона о. И. Л. Янышев так формулирует: «соединяйте вместе ваши силы и разделяйте между собою труды и радости всестороннего духовного развития чрез обладание и пользование природою в таких правовых формах общежития, которые соответствуют как тождеству вашей духовно-телесной природы,
1) О И. Л. Янышев ограничивает последнюю мысль свою «Нельзя сказать наоборот, т е. нельзя сказать, что где есть аскетические добродетели, там непременно есть и соответствующие им внешние блага». И эго потому, что все эти блага составляют результат деятельности не отдельных личностей, но целых обществ и находятся притом в высшем распоряжении Промысла Эта оговорка сущности дела нисколько не изменяет. В другом месте у о. И. Л. Янышева встречается совершенно противоположное замечание: «Счастье может быть тюль ко же необходимым следствием и наградою добродетели, сколько и противонравственным мотивом свободных действии человека. Это замечание противоречит тезису «где есть внешние блага, там непременно есть и соответствующие им добродетели» и над ним автор не задумывался. Его системе органически близок именно этот тезис
523
так и индивидуальным особенностям каждого из вас; короче: любите друг друга и в вашей любви будьте справедливы друг к другу». Автор настойчиво выражает ту идею, что нравственность облекается и должна облекаться в правовые формы. Между нравственным законом и положительным правом о. И. Л. Янышев готов поставить знак почти полного равенства. Только нравственною потребностью можно объяснить существование и развитие положительного права в исторических народах, живших и живущих вне откровенного законодательства, ибо всякий положительный закон есть не что иное, как сознанная и примененная к данным условиям жизни нравственная потребность человека в его отношении к другим людям. Как в физическом организме человека нервная система есть органическая связь, соединяющая все его части между собою и с целым и служащая посредником их взаимодействия, так и в практической жизни отдельных личностей и всего общества право совершает подобное органически-нравственное отправление. И далее—если положительное право можно сравнить с нервною системою общественного организма, то нравственную потребность права и справедливости должно сравнить с силою, действующею в этих нервах. Насколько эта сила развита и проникла в нервы, т. е. насколько развиты нравственное чувство, его сознание, или закон, и сила к его осуществлению в законодательной власти, настолько развивается и осуществляется в обществе и положительное право. Вот почему и с нравственной точки зрения не подлежит сомнению положение юридической науки, что все, что предписывается и запрещается правом, в то же время требуется и запрещается нравственностью. Если же вместе с тем неоспоримо и другое положение юридической науки, что не все то, что предписывается или запрещается нравственностью, предписывается или запрещается правом, то это не то означает, что право дозволяет что-либо не нравственное, а только или то, что развитие положительного законодательства не соответствует нравственному развитию общества, или то, что ненравственное терпится, попускается положительным правом по нравственной грубости членов общества. Но за этим изъятием, в последнем итоге—
524
положительное законодательство есть выражение нравственного закона в отношении человека к другим людям; отделять право от последнего значит отделять букву от ее смысла, жизнь от ее силы. Отсюда нравственная деятельность человека поставляется в неразрывную связь с общественностью, воплощающею правовое сознание, а человек, как нравственный деятель, включается в общественные союзы, семейный, народный, государственный и т. д. Правда, доколе нравственное сознание человека не развито и доколе он сознательно так или иначе не определяет себя в отношении к другим личностям, эти союзы не могут иметь для него значения нравственных и потому составляют для него блого естественное, но не нравственное. Тем не менее развитие нравственного чувства, а с ним нравственного закона и свободы возможно для него не иначе, как в этих союзах. Развиваясь же под влиянием этих союзов, нравственная природа отдельного человека находит в них свое удовлетворение или неудовлетворение, и по мере такого или другого своего развития в свою очередь влияет на эти союзы, на их нравы и положительное законодательство и стремится найти в них свое полное удовлетворение. Таким образом, общественные союзы во всяком случае составляют объективные нравственные блага, возвышающиеся в своем достоинстве по мере удовлетворения потребностям нравственной человеческой природы.
Итак, нравственность, по системе о. И. Л. Янышева, скрываясь с формальной стороны в субъективно-индивидуальной области, обнимает в своем содержании всю полноту жизни—тело, природу и общество. Каждое явление объективной жизни, вопросы семейные, экономические, политические, все освещается совестью, все входит в круг ее ведения. Нравственный прогресс опирается на все разнообразие объективной культуры и совершенно не мыслим вне отношения к ней. Нравственность это не отрешенная от жизни духовно-аскетическая сфера, это вся жизнь, построяемая по известным нормам. В реальных отношениях жизни складываются формы, в которые выливается нравственная деятельность и без которых она оказывается пустою тенью, призраком, голым понятием. Жизнепонимание о. И. Л. Яны-
525
шева было, выражаясь терминологией Джемса, жизнепониманием «душевного здоровья», наивно-оптимистическим мировоззрением «однажды рожденных». Нравственное совершенно для него реализовалось в конкретных формациях объективной культуры, телесной, семейной, научной, художественной, общественной и политической жизни. Для него не было перерыва в переходе от интимнейших движений совести к запросам ежедневной жизни, от внутреннего горения любви к внешним отношениям. Для него не было разделения между областями юридической и нравственной: и семейную жизнь, и государственную он признает «не юридическими только формами, но и нравственными». Не только отношения мужа к жене, родителей к детям, господ к слугам и наоборот, но и отношения членов государства друг к другу и к самой власти государственной рассматривались им не только как юридические, но и как чисто-нравственные. О. И. Л. Янышев стоял на той точке зрения, для которой определенная нравственность дает особые формы брачной и государственной жизни,—так можно говорить о христианской форме брака, о христианской форме государственного правления. И мы не можем не пожалеть, что план его системы остался не выполнен: он не написал третьей части, в которой предполагалось дать учение о том, как христианское настроение выражается в формах внешней христианской жизни. В предисловии ко второму изданию он указал для себя извинение в том, что достоинство внешних форм всегда и везде условно 1). Но этот отзыв о внешних формах
1) И еще на одной из последних страниц он пишет: «Не трудно установить программу для измерения успехов в каких-либо технических искусствах и в науках, сообщающих точные, положительные знания. Подобная программа невозможна для измерения роста нравственной жизни вообще и нравственно-религиозной в частности. На какой бы степени своего нравственного развития ни стоял человек, он является нравственно-совершенным всякий раз, когда делает все то, что только может сделать, находясь на этой степени; добро есть все нравственно доброе настроение; где бы и в чем бы оно ни выразилось,— оно везде есть все, всецелое дело, весь дух человека, и открыто только для него самого, для этого духа и для Сердцеведца-Бога Внешние поступки, так видные для других людей, сами по себе никогда не могут служить мерилом добра; ибо внешнее несоизмеримо с внутренним».
526
жизни не гармонирует со второю идеей его нравственно-богословской системы. И во всяком случае было бы крайне интересно видеть, как острый и просвещенный ум о. И. Л. Янышева решил бы вопрос о формах внешней христианской жизни, вопрос, исключительно трудный и даже, прямо скажем, не разрешимый, как вопрос о квадратуре круга. Эта неразрешимость уже преднамечается различием двух основных идей системы о. И. Л. Янышева—идеи субъективного характера нравственности и идеи ее жизненности. Ибо ведь не само собою понятно совпадение того ряда мыслей, что значение внешних форм условно, что нравственное достоинство скрывается в настроении, что нравственный закон каждым исполняется по-своему, индивидуально, и другого ряда мыслей, что нравственному настроению должны соответствовать объективные блага, что нравственность опирается на внешние формы жизни и в них воплощается, что христианское настроение выражается в формах внешней христианской жизни. Если бы автор приступил к написанию третьей части намеченного им плана, пред ним открылся бы этот антагонизм двух основных идей его труда и навел бы его на глубокие размышления, может быть, на пересмотр всей системы. И кто знает, не делал ли он попыток к этому? Он пишет: «учения о том, как это настроение выражается в формах внешней христианской жизни, что должно было составить содержание третьей части,—перемена моей службы и другие обстоятельства не дозволили мне докончить». Правдоподобно ли, если под «другими обстоятельствами» не разуметь того, которое мы предполагаем,—правдоподобно ли это объяснение? Легко ли согласиться с тем, что талантливому автору, любившему свою тему, не выпало благоприятного времени для написания 50—100 страниц в течение столь многих десятков лет?
М. Тареев
(Продолжение следует)
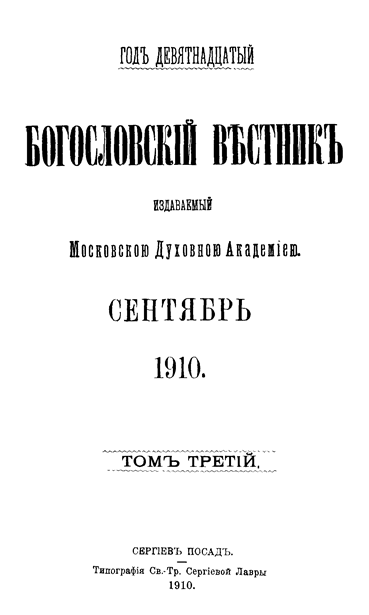
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Протопресвитер И. Л. Янышев, как моралист.
(Окончание)
IV.
Указав на крупные достоинства нравственно-богословской системы о. И. Л. Янышева, мы погрешили бы против своего чувства глубочайшего уважения к его памяти, если бы наряду с этим не отметили тех задач, которые нам завещал покойный моралист, оставив их не решенными. Что его нравственно-богословская система оканчивается вопросом, на который должны ответить последующие работники в этой области, это бесспорно, даже не разумея под этим отсутствие третьей части начертанного плана. В своем основном содержании его система обходится без некоторых звеньев, и это легко заметить, окидывая взглядом весь план этой системы.
Мы имеем в «Православно-христианском учении о нравственности» две части: часть первая—о нравственности вообще и часть вторая—о нравственности христианской. Указанные нами две основные идеи системы о. И. Л. Янышева, т. е. основная характеристика нравственного закона и его содержания, помещаются им в первой части. Это значит, что по содержанию своему христианская нравственность не отличается от языческой, есть та же самая общечеловеческая нравственность, имеющая основание в человеческой природе и в условиях жизни человеческого общества. Эта мысль с совершенною ясностью сознается автором. В первой части «речь идет не о христианской (в частности) нравственности». Он не забывает, что в виде первого правила нравственного закона в «Православно-христиан-
103
104
ское учение о нравственности» вводятся «четыре языческие добродетели: мудрость, справедливость, мужество и воздержание, которые не только нашли место в книге премудрости Соломона, в писаниях многих древних отцов и подвижников, как восточных так и западных, но и как главные нравственные христианские добродетели поставлены вслед за религиозными обязанностями и в христианском Духе объяснены в Православном Исповедании восточной церкви. То же самое мы наблюдаем и во втором правиле нравственного закона. «Помимо аскетических добродетелей, выводимых из отношения души к телу и планетному миру, только две главных добродетели находит и Филон», по мысли которого «долг к Богу выполняется в святости и благочестии, а долг к человеку — в человеколюбии и справедливости, из которых каждая добродетель имеет свои подразделения». «Вот вся суть и вместе план системы нравственного Богословия», добавляет о. И. Л. Янышев. Как странно: вся суть христианского нравственного учения предначертана Филоном, объединившим иудейское богословие с языческой философией, как будто евангелие оказывается излишним! И далее: «нравственный закон Моисеев, как божественный, есть совершенный закон,—слово Божие признает существование нравственных предписаний, тожественных с предписаниями Моисеева закона и следовательно также более или менее совершенных, и у язычников». И еще: «не говоря о давно известных в нашей литературе восточных не христианских и западных дохристианских нравоучениях, можно указать на замечательную этику японцев-язычников, охарактеризованную в фельетоне Нового Времени. Трудно представить более высокий идеал нравственно-совершенного человека... Эта заметка, добавляет о. И. Л. Янышев, относится не к формальной, а к материальной стороне нравственности и ее содержанию». «Нравственный закон, исполненный жизнью Спасителя мира, есть тот же самый закон, который Богом дан был чрез Моисея и который написан в сердце человека». Вообще «религиозные отношения суть не что иное, как вид нравственных, именно вид отношений человеческого духа к другим личностям и отличается от других видов тех же от-
105
ношений не по сущности своего внутреннего содержания, ибо правда и любовь составляют содержание и религиозных отношений, а по свойствам того существа, на которое обращены любовь и правда». Автор пытается, однако дать понятие о христианской нравственности. «Именно по мере высоты нравственных свойств личности, с которою человек находится в отношениях любви и правды, она в силу этой любви и правды делается для него более и более образцом, идеалом, чертами которого он измеряет свое нравственное сознание и достоинство, и вместе авторитетом, слова и действия которого становятся для него не только предметом его невольного доверия и подражания, но и свободно принятым правилом мысли и жизни. Коль скоро же таким идеалом и авторитетом, по особенному воздействию на человека Божественной благодати, является божественная личность—сам Бог, Творец, Искупитель и Освятитель человека и мира, каким Он явился в ветхозаветном Откровении, особенно же в лице Христа Спасителя, то явления и откровения такой личности в обширном смысле сего слова, т. е. как проявления в творении мира и промышлении о нем и как слова и дела в пророчествах и чудесах, во всей земной жизни Спасителя и судьбах Его церкви, становятся для человека безусловною нормою как в понимании своей собственной природы и всего внешнего мира, так и во всей жизни. Понимая же нравственность на основании свидетельства не собственного нравственного сознания только, но и божественного Откровения или точнее: хотя и на основании собственного нравственного сознания, но просвещенного божественным Откровением, человек понимает ее уже не с естественной собственно - человеческой точки зрения, а с откровенной, религиозной, божественной и, если содержание этого откровения получило характер догматических истин, с догматической. Только с такой точки зрения, с точки зрения Откровения, влияющего на наше нравственное самосознание и понимаемого притом по руководству православной церкви, можем мы говорить о нравственности христианской».
Этого пункта в нравственно-богословской системе о. И. Л. Янышева нельзя не признать крайне слабым.—и сла-
106
бость его изобличается уже подозрительною неопределенностью выражений, тяжестью мысли. Что хочет сказать автор? Нравственные понятия в христианстве те же, что и в язычестве, но там они вырабатываются человеческим умом, а здесь предлагаются человеку с внешним авторитетом и в догматической форме. Составляют ли эти обстоятельства преимущество христианской нравственности, очевидное и для язычников? Не наоборот ли? Ведь уже заявлено, что язычники имели «столь высокий идеал нравственного совершенства, выше которого и представить нельзя»,—какая же после этого нужда в образце нравственности, который христиане имеют в лице Христа? О. И. Л. Янышев хочет устранить это затруднение. «Некоторое знание человеком (т. е. вне христианства) требований нравственного закона и сообразные с ним внешние действия не свидетельствуют еще о совершенно добром нравственном настроении или добродетели, которая одна есть истинное нравственное благо. И бесы знают до известной степени волю Божию, иногда не могут не повиноваться Его велениям; тем не менее они служат представителями крайней степени нравственного извращения». Но не слишком ли поспешно выплыла эта аналогия бесовства, которая прилична была бы лишь в устах того, для кого вся языческая добродетель была обманом, «позлащенным пороком»? Малая степень нравственного совершенства уж во всяком случае не то же, что бесовская вера. Да потом: как же говорить о «некотором знании», если «трудно представить более высокий идеал нравственного совершенства» в сравнении с языческим идеалом? Правда, мы встречаем характерную вставку. Мы читаем: «трудно представить более высокий идеал нравственно (но не религиозно-нравственного) совершенного человека». Однако, что это за изъятие, если сама религия, по воззрению о. И. Л. Янышева, есть только «вид нравственного»?
И вот последнее усилие отстоять христианское учение о нравственности. «То понятие о нравственности вообще, которое изложено нами в первой части, есть, правда, в сущности христианское понятие, подтверждалось учением слова Божия и церкви, но это совпадение нашего понятия о
107
нравственности с религиозным и догматическим учением о ней было так сказать внешнее, случайное; оно показывает только, что и свидетельства собственного, развивающегося в недрах христианства, нравственного самосознания вполне согласуются с откровенным учением, что истинное откровение и высшие потребности человеческой природы взаимно себя объясняют, подтверждают и восполняют; но не говорит ничего о религиозном основании и религиозной стороне человеческой нравственности, не объясняет ее христианского характера. Теперь же, прилагая к понятию нравственность предикат христианская, мы сосредоточиваем наше внимание на тех моментах внутреннейшей человеческой жизни, в которых человеческая естественная нравственная потребность впервые подвергается влиянию иной, независимой от человека я высшей его нравственной же силы, именуемой в богословии спасительною благодатью; вступая на тот пункт систематического богословия, в котором нравоучение совпадает с вероучением, мы обязываемся строго ограничить свой взгляд па предмет пределами, указываемыми христианско-православным догматическим учением о нравственной природе человека, его падении и искуплении. Где нет действия спасительной божественной благодати на человека и воздействия на нее воли самого человека, там нет ни спасения, ни Спасителя, ни истинной христианской нравственности; где же это действие и воздействие и спасение понимаются не православно, там не может быть и православного нравоучения Отношение между Богом и человеком составляет предмет богословия вообще; восстановление этого отношения, нарушенного свободною волею человека, называемое спасением его во Христе, составляет предмет собственно христианского богословия; своеобразное понимание дела этого спасения, поколику оно зависит не только от Бога, но и от самого человека, составляет сущность отличия православного не только вероучения, но и нравоучения от инославных. Посему существенную задачу второй части нравственного богословия составляет объяснение понятий о спасении человека на основании слова Божия пучения церкви в связи с вышеизложенным понятием о нравственности вообще. Решением этой задачи объясняются
108
как характер христианской нравственности, так и условия возникновения и роста христианской нравственной жизни». По этому плану и написана вторая часть «Православно- христианского учения о нравственности». Этой точкой зрения указывается важное отличие христианства от язычества: при одинаковых нравственных понятиях отличие язычника от христианина в том, что первый, по силе греха, потерял возможность без божественной помощи быть истинно нравственным, а второму по заслугам Христа возвращена возможность добродетельной и блаженной жизни. Конечно, это отличие язычника от христианина составляет предмет догматического богословия и сам о. И. Л. Янышев признает совпадение в этом пункте нравоучения с вероучением; однако это есть лить формальный недостаток нравственно-богословской системы его, которым можно вполне пренебречь. Впрочем, ничем нельзя оправдать того метода нравственно-богословского учения, при котором нравственное богословие не только заимствует из догматического, но и ограничивает все свое содержание лишь этим заимствованием из догматического богословия. А это так и случилось с нравственно-богословской системой о. И. Л. Янышева. И смотрите, что вышло. Тогда как в первом отделе нравственность общечеловеческая не только обсуждается, как понятие, но и анализируется как факт, имеющий свое содержание, здесь не только автор говорит об ней, но и она сама говорит читателю своим содержанием, здесь не только дается учение о нравственности, но и излагается нравственное учение; во втором отделе христианская нравственность только обсуждается, а не излагается, здесь мы всюду слышим голос автора, изощренно рассуждающего о христианской благодати, но не слышим голоса самой христианской нравственности, голоса самого христианства и, прежде всего, евангельского голоса. С переходом от первого отдела ко второму живое суждение о факте живой жизни, близком сердцу автора и читателя, резко сменяется давно надоевшей схоластикой. Здесь проходит перед нами ряд отвлеченных понятий о нравственном состоянии падшего человечества, о видах благодати, об объективном спасении человека, — о том, что было и бывает с христианином не по его воле, и мы
109
получаем такое впечатление, что христианская жизнь внутреннего содержания не имеет никакого. Но это неправда. Христианская нравственность имеет свое собственное, специфическое содержание, которым с избытком наполняется сознание христианина. Это—богосыновняя любовь, вера, праведность, вечная жизнь, свободная и блаженная. Христианская абсолютная любовь не та же любовь, которую знала языческая мораль, христианская богосыновняя вера имеет специфические черты, своеобразна христианская праведность, своеобразна христианская свобода, христианское блаженство 1). Но ничего из этого, ни одной йоты не вошло в Нравственное богословие о. И. Л. Янышева, которое в этом отношении разделяет участь всех других наших нравственно-богословских систем. Какой рок тяготеет над этой наукой! Она имеет, одна из всех богословских наук, своим прямым предметом христианскую жизнь с ее внутренней стороны, как она открывается христианскому самосознанию, переживается христианским сердцем. И что же? Христианское содержание духовной жизни системам нравственного богословия столь же чуждо, как чуждо оно, напр., всей старообрядческой литературе. Наши моралисты как будто несут в руках запечатанный конверт, в который не могут заглянуть. О чем-то говорят, как будто о нужном—«свидетельства Слова Божия о господстве зла в духовной человеческой природе после падения», «двоякого рода недоумения, возбуждаемые догматическим учением о благодати, как спасительной силе» и т. д. Но где же то слово, которым Христос жег сердца людей, где евангелие, благая весть? Хоть одно евангельское слово! Нет его. О. И. Л. Янышев решительно заявляет, что нравственный закон не имеет христианского содержания, что нет христианского нравственного учения. Можно схоластически рассуждать о христианстве, но ничего христианство не говорит человеческому сердцу. Трагедия богословской науки: для нее утеряна христианская грамота!
Третий подотдел второй части своей нравственно-богословской системы о. И. Л. Янышев посвящает вопросу о процессе или возрастании христианской жизни. Что обсужде-
1) См Основы христианства, особ т. II.
110
ние этого вопроса не может дать христианского содержания Нравственному богословию, я об этом уже говорил в другом месте 1); и в обсуждении этого вопроса автор неизбежно должен смотреть на христианскую жизнь со стороны, а не изнутри. Нам не было бы повода входить в ближайшее рассмотрение этого подотдела, если бы не одно случайное обстоятельство: этот подотдел о И. Л. Янышев излагает по известным книгам еп. Феофана Затворника и, этим путем, вносит в свою нравственно-богословскую систему специфически-аскетические суждения. Мы уже видели, как он рассуждает об аскетизме в первой части. И во второй части автор делает следующее характерное для него подстрочное примечание. «На том, истинно-святом и блаженном, полном света, неизреченной любви и духовного наслаждения, состоянии, в каком находится оправданный и освященный в момент таинственного (в Крещении и Миропомазании) непосредственного общения с Божеством,—обыкновенно останавливаются, как на цели всех своих подвигов, аскеты - мистики... Если смотреть на монашеский аскетизм, как на подвиги покаяния, то такая цель аскетизма весьма понятна и согласна с Словом Божиим; но и тогда остается невыясненным: возможно ли и зачем должно продолжаться вышеописанное блаженное на земле состояние, коль скоро оно, само по себе, составляет всю суть блаженства и вечной загробной жизни, а на земле не имеет ничем отзываться ни в отношении к материальному миру, ни в отношении к ближним. Все земное в этом блаженном состоянии,— по сознанию преп. Макария Египетского,—является не только нежелательным, но даже враждебным этому состоянию». Между тем, следуя еп. Феофану, в третьем подотделе второй части о. И. Л Янышев пишет: «Положенное в человеке начало христианской религиозной жизни есть вместе с тем и совершившееся фактически начало земного спасения его. Но это начало жизни или спасения, как и всякое начало, зародыш или семя, требует своего продолжения, развития и совершенствования среди данных условий земной жизни. Такое развитие и совершенствование ведя и состав-
1) Основы христианства, т. V.
111
ляет для возрожденного основную задачу всей его земной жизни, ибо: 1) зародыш или семя новой жизни в возрожденном есть зародыш, возникший в ветхом духовном организме человека, есть семя, всеянное среди терния, есть искра, отовсюду еще закрываемая пеплом; ото есть только обновление я человека, восстановленная энергия его самоопределения, светящийся центр его личности, тогда как все орудные силы этой личности, т. е. душевные и телесные силы, издавна приобвыкшие и потому наклонные к злой деятельности, еще не приучены к деятельности доброй и вся внешняя окружающая их обстановка может ежеминутно возбуждать в них эти старые, злые привычки, может запутать христианина. 2) И самые благодатные действия в человеке, какие явно и действительно испытывает оправдываемый и освящаемый, как чистоту своего нравственного чувства, как живую энергию в последовании за Христом, как блаженство богообщения, хотя по учению великих подвижников христианской церкви никогда не оставляют христианина, но отнюдь не остаются для него столь же ощутительными и явными, какими они были в момент его возрождения. Напротив, дав возрожденному вкусить всю сладость жизни в Боге, благодать скрывает от него свое присутствие в нем, оставляя его действовать как бы одного, среди трудов, недоумений и даже падений, и только по прошествии более или менее долгого периода испытания вселяется в него явно, действенно, ощутимо. Получив однажды возможность или силу побеждать живущее в себе зло и созидать в себе нравственно - добрые качества, христианин призывается к собственным подвигам, к аскетизму, понимаемому уже не в смысле власти над собою и своим телом вообще, как мы видели в первой части нравственного богословия, а в смысле подвигов своего христианского самоусовершенствования или самовоспитания по всем сторонам религиозно - нравственной жизни, призывается к тому, чтобы самодеятельно создать в себе и потому сделать неотъемлемым от себя то царствие Божие, которое-он испытал в себе во время возрождения и которое теперь опять как бы скрылось от него». И еще: «Вся жизнь возрожденного есть непрестанное говение: он не только находится в состоянии самособран-
112
ности зрения нового мира, в чувствах и расположениях покаянной веры, но и прилежит чтению и слышанию Слова Божия, общественному и домашнему богослужению, соблюдает все заставы церкви и при всем этом всякий простительный грех, т. е. невольные движения злых помыслов и пожеланий, возникающие в нем вопреки инициативе его собственного я, исповедует как Богу ежедневно среди молитвы, так и при первом случае своему духовному руководителю или другому единомысленному с собою христианину; короче: возрожденный так устрояет всю свою жизнь, что она становится непрестанным говением». И т. д.
Итак, о. И. Л. Янышев вносит в свою нравственно-богословскую систему аскетику еп. Феофана и усвояет тот аскетизм в духе преп. Макария Египетского, против которого он прямо высказывается и который во всяком случае не гармонирует с первою частью системы. Получаются два аскетизма. Для автора возникала важная задача примирить их между собою,—как часть сюда вошло бы и примирение двух основных идей первой части его системы. Но он уклонился от этой задачи. Присоединив к своей системе специфическую аскетику, хотя и механически—путем изложения аскетики еп. Феофана, автор оставляет в читателе крайнее недоумение. Если продлить линию аскетизма, как основную задачу всей жизни возрожденного, как непрестанное говение, то совпадет ли эта линия с линией языческого аскетизма как обладания и пользования телом и природой? Конечно, нет. Эту задачу — задачу примирения жизни с христианством, иначе сказать, жизненного понимания христианства—о. И. Л. Янышев завещал младшим поколениям 1).
1) О. И. Л. Янышев писал в своей книге: «В статье г. М. М. Тареева Цель и смысл жизни говорится: ««христианин не может быть в мире иначе, как аскетом и юродивым»». Без аскетизма духовная жизнь, конечно, невозможна: жизнь духа на земле, в теле, есть непрестанное пользование и обладание им... но к чему же тут юродство? А между тем на следующей странице мимоходом тем же автором ясно высказывается и такая, вполне здравая мысль: ««призвание христианина—проявить духовную божественную жизнь в полноте естественной жизни»» —Требование полноты естественной жизни у меня высказывается не случайно, но это один из фундаментальных камней моей системы. И юродство (=эксцентричность, неизбежная у религиозных натур, по
113
Это задача—так понять христианство, чтобы оно давало место всей полноте жизни, и так понять этику жизни, чтобы в самых ее недрах умещалось христианство; это задача—создать такую систему мировоззрения, которая обнимала бы ничем не урезанную полноту жизни и ничем не ослабленную высоту христианства, в которой не пришлось бы ни жертвовать христианским содержанием во имя жизненности нравственного закона, ограничивая его языческими правилами, ни жертвовать жизнью ради христианства, аскетически подавляя «все земное». Такую задачу с живым сознанием всей ее сложности и ее неизмеримой важности—взял на себя я в своих Основах христианства. Так как моя система, удовлетворяя всем запросам природно-исторической жизни и всей высоте евангельского христианства, направляется против односторонностей как гуманитарной, так и безжизненной интерпретации христианства, то, естественно, она вызывает против себя защитников этих старых концепций 1). О. И. Л. Янышев, лишь механически приклеивший к своей системе феофановскую аскетику, «для которой все земное нежелательно и даже враждебно», всею душою своею прилепился к гуманитарному содержанию нравственного закона. И, конечно, исключительно с этой одной стороны он мог взглянуть и на мою систему. Поставляя все чуждое своей концепции под один флаг безжизненного аскетизма, который «не имеет ничем отзываться ни в отношении к
терминологии Джемса) у меня понимается (равно пост и молитва) так, что нимало не мешает, а даже способствует полноте естественной жизни, й если, с другой стороны, мне возражают, что я в трактате об этих предметах не высказываю всего святоотеческого учения, то верно, что я избегаю крайнего выражения аскетизма, а беру из него лишь то, что гармонирует с полнотой естественной жизни. О. И. Л. Янышев, напрасно возражая против моего «юродства», сам однако усвояет феофановский подвижнический аскетизм, непримиримый с полнотой естественной жизни.
1) Так всегда и сыплются на меня совместно противоположные, взаимно исключающие друг друга, обвинения—со стороны одних в крайнем аскетизме и со стороны других в антиаскетизме. Хотя бы призадумались мои критики над этим вопиющим самопротиворечием, хотя бы сговорились они между собою, если не хотят продумать мою систему в ее собственных принципах и собственном методе!
114
материальному миру, ни в отношении к ближним», он под эту же рубрику подвел и мое мировоззрение, сосредоточив все свое внимание на выдержанной в нем «евангельской высоте». Однобокостью своего суждения он вполне подошел к сторонникам противного мировоззрения, которые «все земное считают враждебным христианству» и которые признали мое мировоззрение мирским, сосредоточив все свое внимание на выдержанной в нем полноте естественной жизни 1); но как выразилось это суж-
1) В недавно выпущенной книжке еп. Стефана К вопросу о системе православного христианского нравоучения я еще и еще раз упоминаюсь и крайне уничижаюсь в качестве противника аскетизма «Враждебными аскетизму явились не только представители материализма, особенно социализма, позитивизма и индеферентизма (чит. индифферентизма), но даже и идеализма и, наконец, некоторые у нас представители православного богословия (проф. М. Тареев)» (стр. 157, также 221).
Уничижает меня еп. Стефан, во-первых, тем, что, обозревая все системы нравственного богословия и даже «ученые работы, которые, хотя и не дают нам прямых данных к решению вопроса о построении системы православного нравоучения, однако могут дать не мало ценного материала для построения и содержания существенных отделов таковой системы", даже не упоминает моих работ, хотя другой епископ засвидетельствовал (in malam partem) в Колоколе (№ 866), что «проф. М. М Тареев читает тот предмет, который главным образом и трактуется в его знаменитых четырех томах — именно нравственное богословие», и хотя в 5 томе содержится обширная статья «Церковность, как предмет нравственного богословия» по специальному вопросу, которым занимается еп. Стефан.
Но за то (и это во-вторых) еп. Стефан внимательно останавливается на моей полемике с г. Зариным, которого, само собою разумеется, преосвященный автор берет под свое покровительство. Таким образом еп. Стефан уведомляет читателей, что «проф. Тареев отмечается г. Зариным, как противник традиционного аскетизма и как выражающий православное учение в некоторых случаях, в частности в мыслях об аскетизме и других, с ним тесно связанных, предметах, не точно и не вполне определенно. Проф. Тареев (в своем ответе) прежде всего старается изобличить г. Зарина в недобросовестном отношении к пособиям как вообще, так в частности и у него, проф. Тареева. Г Зарин, обвиняя последнего в неправославии по вопросу об аскетизме, в то же время будто бы (!?) заимствует у него, не показывая источников, точные и определенные православные представления об аскетизме ... В пространном ответе на таковую безжалостно жестокую критику проф. Тареева г. Зарин всячески оправдывается от взводимых на него обвинений и старается доказать при этом что критика проф. Тареева, как вызванная личным раздражением и
115
дение о. И. Л. Янышева о моей системе, в этом открылся его высокий характер. Вопреки газетным сообщениям, ко-
озлоблением в виду неблагоприятного о нем отзыва в рассматриваемом исследовании, не имеет характера беспристрастного и объективного, и что проф. Тареев сам на себе оправдал данный им приговор о нашей богословской критике, как о мелочной и придирчивой» (221—222) Так еп. Стефан представляет дело читателю. Я позволю себе указать преосвященному автору на уклонение его от фактической правды.
Мое обвинение, предъявленное г. Зарину, выражено категорически. «Г. Зарин, утверждая, что у меня нет определенного и точного, даже общего, представления об аскетизме и других, с ним тесно связанных предметах, что у меня нет точного выражения православного учения и что я несамостоятелен в том немногом, что у меня есть хорошего, на самом деле обретает у меня точные и определённые, православные представления об аскетизме, которыми и пользуется в виде и в размерах широкого плагиата».
Таково мое обвинение. Едва-ли найдется хоть один добросовестный человек в мире, который признал бы это обвинение мелочным. Нет, это одно из таких обвинений, под тяжестью которых «избегают выходить из дому, встречаться с знакомыми». Против этого г. Зарин не будет спорить.
Придирчиво ли это обвинение? Пусть на это ответит, прежде всего, сам г. Зарин. Итак, о моем православии.
Называя меня не православным по вопросу об аскетизме, г. Зарин, после, в ответе на мою критику, пишет: (в сочинениях проф. М. М. Тареева) «действительно дано определенное и правильное, хотя только общее, понятие о значении и основных принадлежностях христианского аскетизма,—и я могу только пожалеть, что изложение (их) не вошло в мой обзор» (Хр. Чт. 1908 г. дек. стр. 1697). И это не ясно сказано? Этим дело еще не кончается? Еп. Стефан все еще находит возможным говорить, ссылаясь на г Зарина, о моем неправославии по вопросу об аскетизме?! Да это значит видя не видеть, слыша не слышать! Теперь о плагиаторском отношении г. Зарина к моим сочинениям. Факт плагиата доказан мною с математической наглядностью; о позднейшем мнении г. Зарина здесь даже излишне спрашивать. Однако ж, что в своем ответе говорит г. Зарин? Он признает факт плагиата: «это сходство или заимствование из указанных сочинений проф. М. М. Тареева, действительно, должно было бы у меня быть отмеченным» Хр. Чт. 1909, февр. стр. 300). Ясно! И, однако еп. Стефан находит возможным говорить о будто бы заимствованиях. Фактическая правда—ведь это минимальное требование порядочности!
«Г. Зарин всячески оправдывается» К сожалению это правда. Он не имел мужества ограничиться приведенными основными признаниями, решающими весь наш спор Он поддался малодушию прибегнуть ко всяческим оправданиям. Как жалки эти оправдания! Он, видите-ли, не процитировал своих заимствований из сочинения Искушения Богочело-
116
торые рисуют критику о. И. Л. Янышева с несимпатичной инквизиторской стороны, отзыв о. И. Л. Янышева о
века, потому что «его смущало неудобство самого названия сочинения»! Если, г. читатель, вам не нравится кошелек вашего соседа, то смело заимствуйте его содержание: такова совесть г. Зарина. У него есть и другие аргументы. Он вообще полагает свою славу в обилии цитат, след. неуказание цитат из моих сочинений могло быть только случайным. Но, г. Зарин, умолчание о каком-нибудь одном авторе при намеренном обилии иных указаний — это довольно обычное явление: так О. Конт упорно умалчивает о С. Симоне, только о С. Симоне, так Ницше умалчивает о Штирнере, только о Штирнере! Все это так понятно. Г. Зарин в своем ответе придает особое значение тому обстоятельству, что он не знал моего сочинения Цель и смысл жизни. Он «встретил указание на него во втором издании «Лекций» о. протопресвитера И. Л. Янышева, о чем и заявил определенно на стр. 386 в Addenda et corrigenda к 1 ой книге, но, к сожалению, и само это издание о. протопресвитера (он) приобрел и имел возможность прочитать, когда (его) сочинение уже печаталось одновременно в двух типографиях». Но г. Зарин этими уверениями лишь морочит публику и обнаруживает крайнюю недобросовестность. Сочинение Цель и смысл жизни не менее трех раз упоминается в Философии евангельской истории, где из него делаются выдержки на тех именно страницах, которые г. Зарин рассматривает в своем обзоре. И еще г. Зарин уверяет, что он «не прикидывается»! Далее он разыгрывает пред читателями недоумение в виду моей обидчивости на то, что он процитировал Искушения Христа во 2 издании и не назвал вместе с тем и первого издания. Явная придирчивость с моей стороны! А Искушения Христа во 2 изд. могли дать г. Зарину, без его знакомства с соч. Цель и смысл жизни, лишь отдельные мысли. Издавна же он знаком лишь с одним соч. Искушения Богочеловека в 1 изд. (о котором я утверждал, что из него г. Зарин более всего почерпнул), которое, в виду опять-таки незнакомства его с трактатом Цель и смысл жизни, не могло-де повлиять на его систему. Но г Зарин скрывает от читателей своего ответа взаимное отношение моих сочинений. Мой первый труд Искушения Богочеловека представляет собою уже всю систему моей христианской философии, и можно поставить знак равенства между этим трудом и Основами христианства. Все мои последующие сочинения, вошедшие в Основы христианства, представляют лишь дальнейшую разработку данных уже в нем тезисов Уничижение Христа—это раскрытие и обоснование мыслей третьей главы Искушения Богочеловека. Философия евангельской истории предначертана во второй половине четвертой главы. Особенно же и ближайшим образом содержание Искушений Богочеловека поделено между двумя позднейшими сочинениями (соединенными в 3 томе): Цель и смысл жизни и Искушения Христа (2 и 3 изд.), так что последнее воспроизводит лишь незначительную (2 изд. 198 стр.) и наиболее специальную часть Искушений Богаче-
117
ноем богословствовании есть не что иное, как ученый отзыв, а не ряд анафематствований. Называя «книги профес-
ловека (456 стр.)—без того содержания, которое отошло в сочинения Уничижение Христа, Философия евангельской истории и (что действительно особенно важно) Цель и смысл жизни. Но с мыслями последнего сочинения, если даже предположить (невероятное), что его не имел под руками г. Зарин, он мог ознакомиться из того же не названного им (самого обширного моего сочинения) Искушения Богочеловека. Так что как ни повернуть дело, «сходные мысля» у г Зарина с соч. Цель и смысл жизни, в чем он сам признается, объясняются «вполне естественно». Искушения Богочеловека, о своем давнишнем знакомстве с которыми теперь вынужден сознаться г. Зарин и о которых я сказал, что «из Искушении Богочеловека г. Зарин заимствует более, чем из других моих книг»,—могли именно повлиять на него систематически, так что каждая из последующих моих книг ложилась уже на подготовленную почву. Напрасно г. Зарин поднимает вопрос о том, можно ли было плагиатировать Искушения Богочеловека до выхода в свет последующих моих сочинений. Ответ на этот вопрос уже дан в советских протоколах М. Д. А за 1899 год стр. 131.—
И еще оправдывается г Зарин. В каждой инкриминируемой выдержке можно различать содержание и формулировку, слововыражевие. К содержанию заимствованных мест г. Зарин мог бы и сам прийти, а выразить одну и ту же мысль можно множеством способов о чем же толковать? Самый факт заимствования это—пустое. Да кроме того, продолжает г. Зарин, если не обращать внимания на большие выдержки, то, ведь, остаются небольшие выдержки в 3—4 строки: есть о чем говорить! Нет, г. Зарин, ни психология, ни софистика, ни даже математика не поможет вам устранить ужасного факта (и дай Бог, чтобы это был единственный случай в истории нашего богословия), факта, который остается во всей своей грозной наготе при минимальных из приведенных мною и признанных самим г Зариным доказательств: г. Зарин, обвиняя меня в недостатке православного взгляда на аскетизм на основании не относящихся к вопросу статей, в то же самое время пользовался другими моими сочинениями, в которых дается определенное н правильное понятие об аскетизме, так что теперь уже оказывается, что у нас обоих «излагается одно и то же учение» (Хр. Чт. 1908, дек. стр. 1697)! Для наличности этого позорнейшего факта совершенно безразлично, в четыре или пять строк инкриминируемая выдержка.
Еп. Стефан подчеркивает заявление г. Зарина, что вся моя критика его книг есть плод личного раздражения. Вот с чем я вполне согласен и чего никак не скрываю: если бы гг. Зарины не делали покушений на мою репутацию и на мою литературную собственность, я никогда не вспомнил бы их имени. Моя полемика с гг. Зариным, Басовым, Лаврским etc., которою я занимаюсь чуть не в каждой кн.
118
сора Тареева—плод больших его трудов и замечательной даровитости—серьезным вкладом в нашу богослов-
Б. Вест., всегда бывает лишь самозащитой, апологией. И если я в ответе г. Зарину придал своей самозащите широкую постановку я от обороны перехожу к нападению, к рассмотрению всего сочинения г. плагиатора-Зарина, то к этому меня вынуждало самое свойство его преступления. Ведь не поступаю же я так по отношению к о. Светлову, у которого выходка против меня есть лишь эпизод, вставка в его книге. Насколько объективно-доказательны мои обвинения, это другое дело, но чувства мои по отношению к г Зарину—это чувства обиженного или оскорбленного к обидчику. Г. Зарин пишет: «лицо, заинтересованное, обиженное или оскорбленное кем-либо, нигде—по здравым юридическим нормам не может быть вместе и судиею, не может произносить окончательного приговора над человеком, который есть или считается обидчиком». Но как же эти функции разделить в отношении к такому преступлению, как некрасивый поступок г. Зарина? Ведь я высказываю суждение лишь о проступке г. Зарина против меня, а не вообще о его нравственной жизни. В заключение г. Зарин усвояет себе (из одной журнальной статьи) следующий жалобный плач «люди гораздо более жестоки, чем звери, и обыкновенно чем цивилизованнее человек, тем утонченнее его жестокость. Правда, у нас нет плетей и кнута, но раны от плетей и кнута заживут. А в культурных странах обоих полушарий широко практикуется пытка, состоящая в опозорении личности. Ваш религиозный, политический, ученый противник или просто враг не станет поджигать ваш дом, или подстерегать за углом с ножом в руках. Нет, он постарается опозорить вас в печати. Он будет о вас утверждать, что вы—человек глупый, бессовестный и будет делать более или менее ясные намеки на то, что вы совершили ряд преступлений». Сильно сказано. Но как же это г. Зарин успел забыть в столь короткое время, что ведь наше дело началось с покушения г. Зарина на мое имя и мою литературную собственность. Ведь это он сделал более или менее ясные намеки на мое неправославие (и в такое критическое для меня время), он попытался опозорить меня! Теперь же он получает лишь то, что заслужил. В своем позоре виновен он сам.
Г. Зарин пишет (Хр. Чт. 1909 янв. 99—100): «... Нужно сказать, что первоначально только этою заметкой и ограничивался весь мой параграф обзора богословских воззрений проф. М. М. Тареева. Потом, познакомившись с его статьями: «Дух и плоть», я представил их посильный разбор. Дело шло исторически-естественно. Но проф. М. М Тарееву хочется все у меня представить в превратном виде: ему всюду видится хитро задуманный и ловко проведенный маневр». Если у меня лично не было ни повода, ни побуждения, ни желания «кивать» каким-то «сферам» на «подозрительность» православия проф. М. М. Тареева, то и объективно моими суждениями,—уверен,—никто не воспользовался, не воспользуется и но мог бы воспользоваться.. Только чем-то другим на-
119
скую литературу» 1), о. И. Л. Янышев «тем не менее» признает «требующим пересмотра и изменения или исправления—все мировоззрение профессора Тареева и все его учение о божественной, духовной жизни христианина» 2).
пуганное воображение может рисовать такие фантасмагорические картины... Но я то,—согласитесь,—здесь не причем... Просто подвернулся в такой час». Когда г. Зарин писал эти строки, он писал ложь,—и он знал, что пишет ложь. Я имею документальные доказательства, что г. Зарин лично относился ко мне «восторженно», но он «не смог или не сумел побороть объективных обстоятельств и влияний»,—«ему было поставлено в обязанность» разнести меня,—и «самый ответ на (мою) критику» г. Зарин написал по стороннему «требованию». Эти документы я опубликую по первому желанию г. Зарина
1) Сравните этот великодушный отзыв о. И. Л. Янышева с трафаретными напевами всех этих Светловых, Зариных, Давыдовых, Скворцовых, им же имя легион, чтобы оценить всю нравственную высоту, на которой устоял, среди окружавшей его атмосферы, покойный о. протопресвитер.
2) Эта рецензия покойного о. протопресвитера для меня является нимало не удивительною. Я сам, в недавнем ответе г. Зарину, утверждая невозможность совпадения моих мыслей с понятиями о. И. Л. Янышева, писал: «вообще моя система ни в чем существенном не совпадает с системою о. протопресвитера Янышева» (Бог. Вест. 1908, июнь 315). Теперь то же самое свидетельствует о. И. Л. Янышев.
Однако я должен засвидетельствовать о своем давнишнем знакомстве с трудом о И. Л. Янышева. Г. Зарин, обладающий редкою способностью искажать все, к чему только прикасается, что неизбежно при его изумительной графомании, перетолковывает мои слова: «о. протопресвитер Янышев, книгу которого я теперь, по указанию г. Зарина, внимательно прочитал, посвящает мне» и пр. (ib. стр. 333) в том смысле, что я не был знаком с трудом о. протопресвитера И. Л. Янышева. «Проф. М. М Тареев, повествует г. Зарин, даже и не читал никогда раньше до самого последнего времени сочинения о. И. Л Янышева, как он свидетельствует в настоящем библиографическом очерке» (Хр. Чт. 1909 февр. 294). «Профессор утверждает, твердит еще г. Зарин (ib. 295—2961, что он даже и не читал никогда книги о. И. Л. Янышева». «Проф. М. М. Тареев признается, что он прочитал книгу о. протопресвитера лишь теперь, да и то по моему указанию», повторяет еще раз г Зарин (Хр. Чт. 1908 нояб. 1538). Но я не мог сказать того, что приписывает мне г. Зарин, так как книга о. И. Л. Янышева в 1 изд. цитируется у меня в сочинении Искушения Христа (2 изд. ) на стр. 9 и 148. Добавлю еще, что мы в академии к экзамену по Нравственному богословию готовились по книге о. И. Л. Янышева. Я ведь и не сказал, что «не читал никогда раньше», «не читал никогда» книги его, что «прочитал ее лишь те-
120
Как истинный ученый, он берет основную мою идею, на которой и останавливается, за исключением некоторых замечаний частного характера. Чтобы понять основной смысл отзыва о. И. Л. Янышева, нужно предварительно ознакомиться с его собственною нравственно-богословскою системою: все его основные замечания предопределяются чертами его мировоззрения. Я могу пожалеть, что эти замечания дошли до меня не в общелитературной форме, которая оставила бы место для плодотворной полемики, ныне уже не уместной. Однако я почитаю себя особенно счастливым, имея возможность заявить, что все пожелания и требования о. И. Л. Янышева являются для меня вполне удобоприемлемыми и, в сущности, уже выполненными в самой моей системе. Раскрывая это в нижеследующих строках, я надеюсь тем выполнить последний свой долг пред памятью покойного о. протопресвитера.
V.
§ 1. Называется ли у меня, на стр. 368 первого тома Основ христианства, Святый Дух или Дух Божий «стихийным» и притом перерождающимся в свободный «Дух Христов», так что, будто, можно говорить о вещественности Духа и изменяемости Неизменяемого Бога?
Нет. На означенной странице у меня идет речь лишь о стихийных дарованиях Духа, и стихийным духом, перерождающимся в свободный дух Христов, называется не Дух Божий (третье Лицо Святые Троицы), а дух Божий (действие Духа в человеке). Терминология моя находит оправдание в 1 Кор. XII—XIV; Гал. IV; Кол. II и Евр. V, 12.
§ 2. Отвергаю ли я, на стр. 132 третьего тома, действие Духа Божия во пророках, говоря, что «благодатное действие Св. Духа стало возможным вследствие нравственного подвига Христа, после Его прославления—воскресения из мертвых и отшествия к Отцу, и осуществляется чрез церковь,
перь». Внимательно прочитать книгу, особенно во 2 изд. особенно по какому-нибудь указанию, с какой-нибудь определенною целью, это не значит, что книга не читана в I издании, вообще—раньше. Ведь сам г. Зарин, говоря, «прочитав внимательно—и не раз—собрание сочинений профессора, могу твердо заявить» (Хр. Чт. 1909, февр. 303) разве хочет этим сказать, что он не читал этих сочинений раньше, в первых изданиях?
121
которая есть тело Христа»—вопреки, будто, тому, что «Дух Христов», по словам апостола (1 Петр. I, 11), присущ был ветхозаветным пророкам?
Я не отвергаю действия Св. Духа в ветхозаветных пророках. О важном значении ветхозаветного пророчества я говорю во II томе, стр. 81 след., где можно читать, что «пророчество выражает самую сущность религии Иеговы, как религии теистической — не стихийно-языческой, а разумно-человеческой, богочеловеческой». Но я полагаю различие между благодатно-церковным действием Св. Духа, с одной стороны, и действием Св. Духа в творении мира и в промышлении о нем, действием Его в пророках и даже действием Его в земной жизни Христа—Иоан. VII, 39; XVI, 7. В частности, о различии пророческого и новозаветного откровения я пишу на стр. 158 т. I: «пророческое откровение было обращено исключительно к человеческому разуму, тогда как во Христе самая Его человеческая жизнь была богооткровением».
Присоединяя сюда бесспорную догматическую истину, что «благодать даруется нам туне ради заслуг Иисуса Христа» (митр. Макарий), я и получаю право сказать, что «благодатное действие Св. Духа стало возможным вследствие нравственного подвига Христа». И что всего примечательнее, указанное место из 1 посл. ап. Петра подтверждает именно мои слова, так как «пророки предсказывали о назначенной нам благодати» и «сущий в них Дух Христов» открыл им, что «не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано нам» (1 Петр. I, 10—12). Ср. также г. II, стр. 322—323.
§ 3. Словами: «в евангельской системе не имеет места идея жертвенного искупления греха» (т. II, стр. 320)—отвергаю ли я церковное учение об искупительной жертве Христа?
Нет. На тех же страницах II тома я пишу: «Что Христос пожертвовал Своею жизнью для спасения человека, что Он, претерпев уничижение и смерть от руки грешников, взял на Себя немощи и болезни грешников, понес их грехи,... все это внушается каждою строкою евангелия (II, 315 ср. I, 340). И всему этому не противоречит фраза на стр. 320, так как здесь все ударение падает на
122
слово идея, и фраза имеет тот смысл, что в евангельском учении об искупительной жертве Христа не имеет места договорно-юридическая идея жертвенного искупления. Это именно и выясняется на тех строках 320 страницы, которые предшествуют этой фразе. Аналогично этому, в том же томе, ниже (стр. 333 след.), раскрывается мысль, что в евангельском учении о царстве Божием нет места для идеи царства Божия, т. е. для теократической идеи, для идеи народного богоизбранничества, — что евангельское учение о царстве Божием наполняется всем евангельским содержанием, и «было бы явным заблуждением—думать, что из понятия царства Божия можно дедуктивно извлечь какое бы то ни было евангельское содержание».
Вообще в таких случаях речь идет о тонкостях терминологии, которыми нисколько не затрагивается существенное содержание христианской догматики.
§ 4. Утверждаю ли я на стр. 351 т. II, что церкви не дано власти отлучать кого-либо?
Нет. На стр. 138—139 тома III отлучение недостойных я признаю не только правом, но даже долгом церкви. «Церковь должна строго следить, чтобы все ее члены были рожденными от Бога, и извергать из своей среды всякого, кто, именуясь братом, живет как язычник". Этому я нисколько не противоречу на стр. 351 т. II, где я только излагаю евангельскую притчу о плевелах. II к этому изложению я на той же странице присоединяю следующее примечание, которым устраняется всякое возможное недоумение: «Другое внушается задачею церкви быть солью и светом для мира, прославить в его глазах Отца Небесного добрыми делами. В виду этой задачи церковь должна следить за своей репутацией, охранять свой определенный вид, отсекать от себя все стороннее, все прикрывающее ее, стирающее ее пограничные линии, обезличивающее ее в глазах внешних. И очевидно, во имя этой задачи она должна извергать из своей среды всякое лицемерие, всех пристающих к ней по каким-нибудь корыстным побуждениям, прикрывающих ее именем достижение земных интересов. Но это совсем не то, что вырывание плевел»...
§ 5. Держусь ли я дуалистического взгляда на отношение
123
божественного к человеческому, духовного к плотскому? В частности—а) утверждаю ли я, что духовное само по себе божественно (все духовное отожествляю с божественным) и что, напротив, все земное само по себе ничтожно, низменно, даже злостно (т. III, стр. 68)? б) лишаю ли я природу человека, именно как человека, ее собственной духовной сущности—однажды навсегда напечатленного в ней образа Божия, так как я естественному нравственному закону не решаюсь, в виду его утилитарной стороны, земного характера, приписать «исключительно божественное происхождение»? в) забываю ли я о том, что радостями и благами земной жизни, как бы они ни были законны и священны, христианин может пользоваться, оставаясь в то же время истинным христианином?
Отнюдь нет! а) Говорить, что духовное само по себе божественно, отожествлять все духовное с божественным— противно моей системе. Метод моей мысли, разъясняемый на страницах Основ христианства почти с надоедливой настойчивостью (см. особ, т. I, 344 след. т. II, 46 след. т. IV, 95 сл. 44 след.), в том, что я не начинаю с психологи- чески-духовного, т. е. с духовного в смысле бесплотного, духовного в отличие от чувственного, сводя к нему божественное, отожествляя с ним божественное, но я начинаю с божественного, именуя его духовным. «Евреи не знали духовности в смысле бесплотности. Духовностью они называли живую силу, жизнь и силу, бодрость, крепость. Поэтому Бог, живый, крепкий, всемогущий, противополагается миру как дух плоти» (II, 46). Я даже в понятии не разделяю божественного и духовного, так чтобы можно было их отожествлять,—то и другое для меня с самого начала едино, и именно я не понятие божественного наполняю содержанием духовного, но понятие духовного наполняю содержанием божественного. Я утверждаю, что «все духовное в сущности божественно» так как (непосредственно добавляю я) только божественное может быть духовным. Я не мог бы сказать, что «духовное как предикат божественного составляет его противоположность человеческому», я мог лишь сказать, что «духовное как предикат божественного сильнее всего выражает его противоположность «человеческому»—низменному, уничиженному» (I, 344).
124
Поэтому обо мне именно нельзя сказать, что «у меня все духовное отожествляется с божественным и в то же время противополагается человеческому». Я все время говорю не о психологической духовности, а о духовности религиозной, божественной, абсолютной,—отожествляю понятия духовности и абсолютности. И когда в каком-нибудь отношении божественная духовность совпадает с психологическою, я это прямо отмечаю. Напр. II, 255: «в этом отношении божественность духовкой жизни оказывается и психологическою духовностью»..
Не отожествляя божественного с духовным, я и земное не представляю как само по себе злостное. Такого выражения ни на стр. 68 т. III, ни в других местах у меня нет и быть не может. Я говорю, что собственная природа мира есть ничтожество, что сам по себе человек ничтожен, но фактически мир есть явление божественной жизни в ничтожестве (III, 60), и человек фактически есть носитель жизни в ничтожестве (III, 63). «Приобретение Богу славы в ничтожестве—вот цель мировой и человеческой жизни. Эта цель неизбежно достигается в данной действительности. Во всех явлениях мировой жизни обнаруживается Божия слава» (ib.) и т. д. Отсюда—«первое, что внушается человеку идеей славы Божией, есть долг жизни. Человек создан для жизни на этой земле, и потому он должен жить всею полнотой своего естества, созданного Богом» (65 и т. д.). Я не мог бы назвать природной жизни злом, потому что неутомимо разъясняю, что «сама по себе, рассматриваемая объективно, в своих формах, плоть не оценивается с христианской точки зрения—и не осуждается, и не имеет положительного религиозного значения. Плоть— царство природы, безразличное в религиозном отношении, подобно как физиология и техника безразличны в этическом отношении» (IV, 129) и т. д. «В естественном отношении физическая и мирская жизнь составляет область воли Божией, как эта последняя проявляется в законах природы. С этой стороны она есть благо, но это благо внешнее, душевное, которое входит в сердце извне и не имеет нравственных свойств, не подлежит нравственной оценке. Здесь нет ничего нечистого, но ничего нет и святого» (И, 259) и т. д. Этический облик естественная
125
жизнь получает лишь с того момента, как она вступает в отношение к вечной жизни, к духовному благу. Поэтому на мирскую жизнь евангелие смотрит двояко—с естественной точки зрения и в отношении ее к вечной жизни. Евангельский Бог имеет два аспекта, являясь и Богом природных даров, естественного промысла, и Богом любви, требующей самоотречения, но евангелие не знает дуализма (258 след.) и т. д.
б) Не отожествляя духовного с божественным, не наполняя понятие божественного содержанием духовного, я не лишаю человека его собственной нравственной сущности, относя ее к душе (а не к духу). И это настолько несомненно, что я говорю даже о моральной автономии человека (IV, 66 след.). «Плотская жизнь, во всей полноте своего развития, имеет в себе этические основы» (IV, 124). Если я при этом не решаюсь приписать естественному нравственному закону «исключительно божественное происхождение» (И.), то этим именно я и подтверждаю факт нравственной автономии. Усвояя естественной нравственности утилитарную сторону, я тем самым не порицаю ее, а только характеризую ее. Я настолько далек от порицания естественной нравственности, как одной из сторон природной жизни, что, даже приписывая людям естественную злость (согласно с Мф. VII, 11; Лук. XI, 13), я под этою естественною злостью разумею состояние натуральной нравственности, утилитарного общежития, и говорю, что это природное состояние не дает человеку благ религиозной жизни, не приводит его к похвале и благодарности, но вместе с тем оно не вменяется человеку в вину» (II, 282. 283). Я не отрицаю того, что и естественная нравственность от Бога, не говорю, что «будто в сфере природы можно быть без религии, без Бога» (IV, 420),—«в естественном отношении физическая и мирская жизнь составляет область воли Божией, как эта последняя проявляется в законах природы» (II, 258—9): я только отличаю откровение Божие в природе и истории, в душевной нравственности, от Его новозаветного откровения в Сыне—в абсолютно-духовной, христианской жизни. С точки зрения последней, лишь духовно-абсолютное может быть названо религиозным. Обсуждая все, входящие в мой кругозор, предметы с
126
христианской точки зрения, я употребляю понятие религии именно в этом смысле духовной абсолютности, причем всегда предполагается возможность и более широкого понимания религии, возможность двоякой точки зрения. «Евангельский Бог имеет два аспекта»... Связи между этими двумя областями я не порываю, так как настойчиво утверждаю, что «постепенные акты творения мира и человека были последовательными ступенями откровения божественной жизни в ничтожестве и каждая низшая ступень творения служила условием высшего откровения божественной жизни в новой форме. Но творением человека не закончилась постепенность откровения божественной жизни в мире: высшею формою откровения божественной жизни в мире, в которой Божество является тем, что Оно есть Само в Себе (Иоан. IV, 24; I Иоан. IV, 8),—служит духовная жизнь. Духовная жизнь есть новое творение Божие, но не безусловное; это есть новая форма откровения божественной жизни в том же ничтожестве, обусловленная со стороны последнего акта первобытного творения, т. е. человека... Она могла явиться только тогда, когда к ней стал подготовлен человек» (III, 67. 68). Под этим условием духовной жизни я разумею всю полноту естественного развития, всю полноту культуры (IV, 94—95; 128 и др.). Однако в моменте перехода человека от естественно-культурной жизни к духовному совершенству я ставлю самоотречение человека, его сознание своего природного ничтожества, отречение от своего природного достоинства, послушание Богу и упование на Него (III, 68; 78 след.). II этот тезис в моей системе является простым выводом из взгляда на христианство, как на новое откровение, новое творение (И, 185). Основательно (а не по недоразумению) можно возражать против этого тезиса лишь под углом натуралистически-эволюционного взгляда на христианство, как на естественный продукт мирской культуры. Но сего да не будет! И что у меня этот тезис не разрывает связи между духовною и природною жизнью, это видно из того, что я снова говорю о реализации духовной жизни в «мире, который создан из ничтожества... Отсюда связь духовной жизни с злостраданиями; отсюда основной характер христианства—в соединении духовного совершенства с внешним уничижением
127
и духовного блаженства с внешними страданиями" (III, 68 и др. мн.).
Для подтверждения своего воззрения по этим вопросам я мог бы представить обширные библейско-святоотеческие доказательства. Но я оказываюсь в столь счастливом положении, что могу ограничиться простою выпиской из учебника догматического богословия—(митр. Макария), где мы читаем: «Говоря, что человек, обратившийся к христианству, не может сам собою творить добрых дел без помощи благодати Божией, мы разумеем добро духовное, которое заповедуется законом евангельским, соделывает человека духовным и служит его вечному спасению,—разумеем дела веры христианской, достойные веры во Христа. Но не отвергаем, что человек, как до обращения, так и по обращении к закону евангельскому, может и сам собою в некоторой степени исполнять требования естественного закона, не изгладившегося в его совести, и след. творить добро естественное (Рим. II, 14. 15), пользуясь остатком своих сил умственных и нравственных, поврежденных падением, однако ж не уничтоженных,—творить добро, которое, как ни слабо оно и незначительно, ни в каком случае не должно быть названо злом, и след., хотя не в состоянии служить к нашему спасению, но не может служить к нашему осуждению. Мысли эти обстоятельно излагают первосвятители востока в 14 члене своего послания о православной вере»...
в) Уже из сказанного следует, что христианин может наслаждаться благами жизни. Раскрытию этой мысли я посвящаю целый отдел во II томе, где пишу: «по евангельскому учению все естественно-гуманитарное разрешается человеку, все естественные блага ему дозволяются, все ему позволено, как говорит апостол, потому что все блага даруются единым Отцом Небесным, так что нет никакого естественного предела наслаждения ими» (II, 260 след.) и т. д. Этому же вопросу я посвящаю и весь IV том, где раскрываю учение о христианской свободе.
§ 6. Говоря, что «абсолютность формы и любовь, как содержание—в этом единственно христианство», что оно в «абсолютной божественной любви» (II, 182),—не приписываю ли я христианину такую абсолютность, т, е. неограни-
128
ченность, какой православная церковь не усвояет ни бесплотным силам, ни прославленным святым Божиим?
Нет. Основная идея моего труда, раскрываемая специально в III томе, в том, что религиозное благо невыразимо в терминах естественного совершенства, что естественное абсолютное совершенство недоступно человеку н самое стремление к личному обладанию бесконечным совершенством есть зло. Христианская же абсолютность — это, во-первых, духовная абсолютность, а не естественная (ср. IV, 95 след.), во-вторых, она есть дар Божий, а не плод естественного совершенствования, в-третьих, она сочетается с природною ограниченностью. «Богодарованность духовного совершенства и блаженства и соединение духовного совершенства с видимым уничижением и блаженства с внешними страданиями—вот что составляет самое характерное в христианстве с внешней стороны, т. е. помимо содержания самой духовной жизни» (Ш, 58) и т. д. Духовная жизнь это не природа человека; нет, духовная жизнь есть божественная жизнь в человеке» (Ш, 88). Не я живу, но живет во мне Христос. Конечно, для такой, привитой человеку абсолютности, умещающейся в его природной ограниченности, должен быть выход, как для пара—клапан. Такой выход дается в свободной смерти, в самоотречении. «Благо вечной жизни, или абсолютность богосыновней любви, имеет предопределенную сцепленность со смертью, которую неизбежно побеждает... Подставьте к какой-угодно стороне евангельского принципа неустранимую длительность существования, обязательный обход смерти, добавьте к какому-нибудь евангельскому требованию оговорку «не до смерти», и для вас все евангельские слова будут звучать фальшью и лицемерием. В системе евангельского учения только один пункт занимается идеей смерти, но он предполагается всеми остальными пунктами. Ученик Христа только однажды может «положить душу свою» за людей, но готовность к смертной жертве составляет необходимое предположение всей христианской жизни. Любовь и вечная жизнь—это на языке евангелия то же, что любовь и смерть: евангельская любовь есть любовь до смерти и вечная жизнь в победе над смертью» (II, 275. 276).
129
§ 7. «Если человеческое «я» оказывается столь пассивным в процессе божественной духовной жизни христианина, а с другой стороны—если все тленное, земное, преходящее имеет значение для него лишь в том смысле, что служит объектом отрицания, злостраданий, самоотвержения, движение же всей природно-исторической жизни мира (мною) везде предоставляется ее собственным естественным законам, то в чем же проявляется творчество абсолютной свободы и беспредельной любви отдельного христианина к человечеству? и каким именно творчеством он достигает цели жизни?»
На это я даю в своих книгах определенный и ясный ответ. Христианство состоит:
1) в интимном переживании личностью божественно-духовной жизни, которое столь же пассивно, сколь и активно, столь же свободно, сколь и непроизвольно, как пассивно и вместе активно, свободно и непроизвольно всякое вдохновенное творчество (см. т. II passim).
2) в действии на природу и мир благодатью, хотя это действие благодати невидимо, скажется лишь в конце времен (II, 189. 855; Ш, 128 сл. 284 сл. V, 230).
3) в личном аскетизме, ибо в борьбе с лично-сознательною безнравственностью христианство представляет из себя незаменимую воспитательную силу, хотя личным аскетизмом природно-общественная жизнь не затрагивается в своей сущности (II, 210; Ш, 93—107; IV, 175; V, 231).
4) в свободе естественно-природной жизни, в полноте культурного развития (IV passim, V, 231 след.).
и 5) в церковности (V, 234).
Все, что может быть сказано основательно о содержании христианской жизни и действительно сказано когда- ибо и кем-либо, умещается в этих формулах.
Моею системою воспринимается содержание церковности, которая необходимо нарастает на христианском корне, хотя я и называю ее вторичною и производною формою христианской жизни (II, 347—8; V, 234 сл.).
Вся полнота культуры примиряется в моей системе с абсолютностью лично-христианской жизни и освящается последнею, хотя я и говорю, что христианство не в плоти, не в ее границах, не в ее формах (IV, 130 и др.).
130
Вся нравственная сила христианства умещается в моей системе, хотя я и говорю, что христианство в своей сущности глубже нравственности.
В моей системе находится достаточно простора для всей метафизики благодати, но глубочайшую сущность христианства я усматриваю все же не в этой стороне христианства.
Сущность христианства в интимном переживании личностью божественно-духовной жизни. Это—христианская мистика, тайна личной жизни христианина. С полною ясностью и определенностью и с полною мотивированностью я заявляю, что эта сокровенность христианской жизни невыразима, что существо этого дела каждый узнает только из собственного опыта (V, 215 след.). Подобно тому, как биология, изучая явления жизни, не можем ответить на вопрос, что такое жизнь; так и религиозная философия, изучая диалектику духовной жизни и ее отношения, находит свой предел в личной сокровенности духовной жизни. Дело богословской науки не исчерпать эту тайну, а обосновать самую идею христианской мистики, интимность и свободу личного христианства (см. особ. т. II, стр. 165 след.), а также указать пути сочетания личного христианства с формами природно-исторической жизни 1). Более, чем на
1) Пользуясь всеми средствами к раскрытию своей идеи, не упуская случая сослаться на поясняющие аналогии, я с удовольствием указываю здесь на статью известного П. Новгородцева Общественный идеал в свете современных исканий в последней (103) книжке Вопросов философии и психологии. В вопросе об общественном идеале—в этой важнейшей проблеме морали—в последние дни «занимается заря нового дня». «Старые построения не удовлетворяют нас более; мы ищем и ждем новых решений и слов. Но что же произошло? В чем изменила социальная философия свои взгляды? Откуда бесконечность перспектив? Откуда удивительная сложность общественных проблем? Чтобы сразу назвать ту причину, которую я считаю главной и основной, я скажу, что пред нами совершается крушение одной очень старой веры,—веры в возможность земного рая В этой идее прежняя общественная философия видела свой высший предел, на этом она утверждала силу своих предсказаний и твердость надежд. И вот теперь эта идея отнимается у нее: отнимается ясная цель исканий, теряется из вида близкий, доступный берег». Во вторую половину XIX века был изжит политический энтузиазм, связанный с политическими движениями Франции конца ХVIII века, 30-го и 48-го годов XIX: пере-
131
кого-либо, я могу здесь опереться на самого о. И. Л. Янышева, на его знаменитый тезис, что нравственный закон
стали верить в чудодейственную силу политических перемен, в их способность приносить с собой райское царство правды и добра. На смену политического идеала выдвинулся идеал социальный—в социализме и анархизме, к которым перешел религиозно-общественный энтузиазм. Но проходит и этот энтузиазм, а вместе с этим падает вообще идея земного рая, которая по существу стоит в противоречии со всеми новыми данными и научной теория, и моральной философии. Прежде всего, идея устойчивого райского блаженства, которого люди здесь на земле должны достигнуть, коренным образом противоречить эволюционному миросозерцанию наших дней. Не странно ли в самом деле предполагать, что непрерывно до сих пор совершавшееся движение остановится вдруг у врат земного рая, который почему-то выпадет на долю одного из следующих за нами поколений. Не странно ли думать, что прекратится и стихнет борьба сил и страстей, замолкнут ненависть и вражда, чтобы уступить место вечному миру. Но есть и другие основания, по которым мы должны бросить старую веру в земной рай. Когда мы анализируем утопию земного рая, мы видим, что она отправлялась от мысли дать человеку безусловное и полное удовлетворение. От идеальной общественной организации здесь ожидают не только умиротворения людей, по также и устроения их духовной жизни, спасения их от самопротиворечий и внутреннего разлада, от соблазнов и грехов мира. Задача ставится так, чтобы найти форму устройства, при которой человек чувствовал бы себя в полной гармонии с общественной средой, в безусловном и благодатном слиянии с ней. Но самая постановка этой задачи предполагает, что между личностью и обществом может установиться полная гармония, что между ними возможно безусловное совпадение и единство. Эта идея о гармонии личности со средой и была неразлучной спутницей утопии земного рая, и здесь-ю искания наших дней резко обрывают старую традицию. Из бурь и тревог XIX века личность вышла с новым взглядом на свое призвание и свое существо. ХVIII век дал ей декларацию неотчуждаемых прав, а XIX нечто большее,—сознание незаменимой, неповторяющейся, своеобразной индивидуальности. Личность вышла из этого века с чувством своей неудовлетворенной тоски, с жаждой высшего идеала, с мыслью о своем противоречии с обществом. Да, это надо признать: не гармонию, а антиномию личного и общественного начал раскрывают нам искания наших дней. С разных сторон и в различных выражениях выдвигается положение, что между личностью и обществом нет и не может быть полного совпадения, а есть напротив известное несоответствие, которого нет возможности сгладить или устранить. И потому какие бы совершенные формы ни придумали будущие поколения, никогда не найдут они средства вполне удовлетворить личность, а тем более спасти ее от сознания своего несовершенства. И понятно, что личность перестает
132
каждым исполняется по-своему. Но у о. И. Л. Янышева этот тезис остался простым постулатом, так как необходимая субъективность нравственного закона не может осуществиться, если содержанием нравственного закона обнимается условно - общественная жизнь. Субъективность религиозно-нравственного, и именно христианского, начала впервые осуществляется (систематически проводится) лишь в моей системе, благодаря учению о разнородности сфер лично религиозной и природно-общественной. Вследствие этого условность природно-общественной области не является тяжестью для личности, определяясь своими собственными законами; но это вместе с тем не есть лишь отрицательная свобода личности, так как одними лишь природно-историческими законами определяются формы общественной жизни, а человек-христианин всегда и во всем остается человеком-христианином, с полною свободою
верить в абсолютное значение политики, в спасительное действие общественных форм. Она начинает сознавать, что эти формы могут дать только часть того, что ей надо, и как бы ни ослепляли о те ее легкостью и удобствами жизни, богатством и роскошью учреждений, чудесами и эффектами техники, утолить внутренний голод души, взыскующей града, они не в состоянии.—А что же общественный идеал? Не потускнел ли он, не потерпел ли при свете новых откровений индивидуализма? Нет ли тут отказа от всяких действий и надежд в мире общественном? Нет ли здесь проповеди личного самоудовлетворения? На это мы можем ответить самым определенным и категорическим отрицанием. Ведь даже и те, кто странным образом противополагает задачи духовной жизни внешним формам общежития, не исключают общественного созидания. Еще менее могут забывать его те, кому знакома простая истина, столь настойчиво выдвигаемая современной наукой, что внешние формы общежития в известном смысле составляют часть нашей духовной жизни, ее результат и символ. Движение наших дней приводит не к забвению политики ради мора ли, а только к требованию их необходимого разграничения. Общественные учреждения не составляют для человека абсолютной цели, но они являются, однако, необходимым и незаменимым средством для того, чтобы идти вперед, по пути нравственного прогресса. Воздадите кесарево кесарю, а Божие Богу,—этот вечный завет Остается в сипе а для наших дней Это—признание самостоятельности как дел душевных, так и дел политических; каждая область имеет свои пути и задачи, и каждая должна сохранить свое значение для человека Развивая это положение, было бы нетрудно показать, что политический реализм вполне уживается с самым высоким моральным идеализмом
133
личного поведения и в положительном отношении к реальной жизни.
§ 8. Стоя во всем строе своих мыслей о божественной духовной жизни преимущественно на точке зрения Четвероевангелия, не прихожу ли я к некоторому несогласию с учением и современною практикою православной церкви, в частности, по вопросам о клятве, войне, национальности, о союзе церкви с государством?
Когда я говорю, что внешняя чистота, одежда и пища не оцениваются в христианстве религиозно (II, 225—227), то это не значит, что христианин не должен умываться, одеваться и питаться: это значит лишь, что нет христианского умывания, христианской одежды и пищи и что христианин моется, одевается и питается, как человек, а не как специфически христианин,—по требованию гигиены, климата и физиологии. Так, равным образом, понимая евангельские заповеди абсолютно и в то же время не признавая за ними общественно-обязательного значения, я с совершенною определенностью говорю, что «формы общественной жизни должны нормироваться условно и соразмеряться с земными интересами, верующий же во всех своих отношениях поступает по божественному, т. е абсолютно, религиозное действие личности должно быть абсолютным» (II, 212—213). В частности я лишь говорю, что религиозная война, религиозный патриотизм (идея народного богоизбранничества), есть абсурд с христианской точки зрения, хотя евангелие не против патриотизма, как естественного блага (ib. 217). Я лишь говорю, что формы природно-общественной жизни не могут быть выведены из сущности христианства, хотя они вытекают из природно-исторической необходимости. Восстановляя чистое, евангельское христианство, как нейтральное в природно-общественном отношении, я не забываю того, что в христианстве наряду с этою первичною сущностью оказывается производная, вторичная форма церковной жизни и что в этой последней форме христианство становится природно-историческою силою. «Только церковь, а не лично-духовное христианство, освящает природу и мир, является общественно-историческою силою, связывает христианство с природой и историей и восстановляет существенный пробел в си-
134
стеме религиозного смысла жизни» (III, 131 и вообще 130— 131). Я вполне признаю историческое значение государственно- правового положения церкви. Истинное понимание сущности христианства в этом случае является указанием того пути, в каком должно развиваться отношение церкви к государству. «Правовое отношение церкви к государству, устремляясь выше временных интересов, должно быть символом отношений божественного к человеческому, вечного к временному, внутреннего к внешнему» (III, 138)...
Человеку не дано двойного зрения; вложив все свое внимание в свое собственное дело, он уже не может стать на иную точку зрения. Вполне естественно, что о. И. Л. Янышев остался чуждым тому шагу, который сделала социальная философия в последние десятилетия. Но назад смотреть легче, чем вперед, и на нас уже лежит определенная обязанность—оценить тот вклад, который внес в сокровищницу русской нравственной философии покойный о. протопресвитер. За ним навсегда останется честь первого настойчивого проповедника двух идей—свободы личного религиозного начала и жизненности христианства. Они не приведены в православно-христианском учении о нравственности в надлежащую систему, остались изолированными элементами, но элементарное раскрытие этих идей сделано о. И. Л. Янышевым мастерски.
Для нас эти элементы уже подразумеваются сами собою, они наше наследственное достояние, но мы не должны забывать, что раскрытие этих идей в те времена, когда о. И. Л. Янышев был профессором Нравственного богословия, было с его стороны научным подвигом.
Покойный о. протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев был крупной ученой силой!
М. Тареев.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
