13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. Социологическая мораль
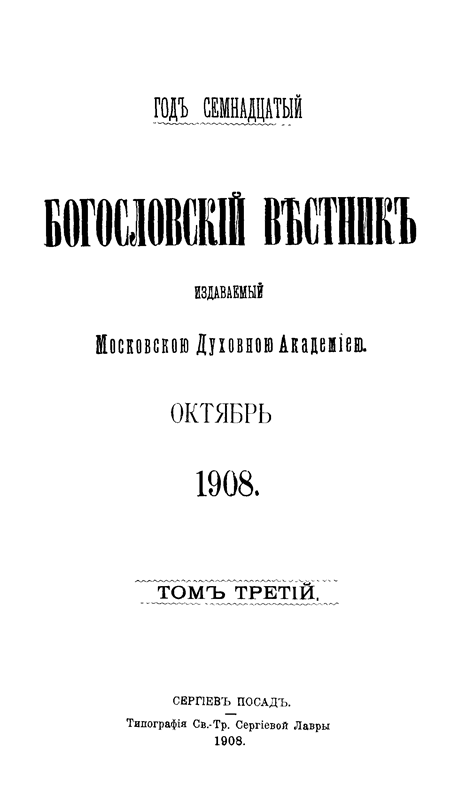
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ.
Désers Les morales d’aujourd’hui
Социологическая мораль—самая модная из современных типов этического учения. Ну, конечно, она появилась не ex abrupto; она не лишена своей родословной. Она стоит в родственной связи с философскими теориями свободных мыслителей ХVIII столетия, с теорией Ж. Ж. Руссо, провозгласившего, что человек родится добрым и развращается единственно общественными условиями жизни, с другими теориями, по которым нравственный порядок вытекает— механически, машинально—из порядка социального. Этим, уже старым мнениям, современная социологическая мораль стремится придать строго научный вид, научное обоснование. Не стоит она особняком и от других современных типов этической мысли. По крайней мере, эволюционная мораль Спенсера и мораль социологическая оказывают одна другой взаимную поддержку. Первая опирается на социальные инстинкты, вторая на социальные факты. Там, нравственная эволюция приводит к социальной эволюции; здесь, социальной эволюцией производится нравственная эволюция.
Как мораль силы и эгоизма, мораль Штирнера и Ницше, принадлежит преимущественно Германии, а мораль эволюционная, мораль Дарвина и Спенсера,—Англии; так и мораль социологическая принадлежит преимущественно Франции. ее родоначальник Durkheim, профессор Сорбонны, автор сочинений: La division du travail social и Les règles de la méthode sociologique. Он выработал принципы. Из этих-то принципов один из его коллег по Сорбонне, Lévy-Bruhl, построил свою Morale et la science des mœurs: он является
253
254
основателем социологической морали, как по силе отрицательного отношения к морали традиционной, так и в смысле более или менее последовательного опыта построения новой морали. Два года спустя после появления названной книги Леви-Брюля выпустил сочинение Morale scientifique—Albert Bayet, поставивший целью своей популяризацию этой книги.
Такова начальная история социологической морали. С первых ее шагов, нравственный вопрос был объявлен без остатка вопросом социальным, так что, говоря словами Брюнетьера о Гельвеции, одном из предшественников социологической школы,—«самый порок, как-то алкоголизм, проституция, если за ним признается общественная польза, станет сначала легальным, потом нравственным»...
Войдем в ближайшее обсуждение этой претенциозной теории. И прежде всего спросим, как мораль образуется по смыслу социологической теории?
Как?.. Но этого вопроса данная теория не ставит: она заранее признает его нелепым. Мораль не образуется. Она существует, как существует физическая природа. Мы родимся с физической природой, которая принуждает нас смотреть глазами, слушать ушами, осязать руками. Мы не можем изменить этой природной организации: мы покоряемся ей, мы ею пользуемся,—более того не в нашей власти. Точно также, существует социальная природа, которая становится нашею, как только мы вступаем в эту жизнь: она навязывается нам. «Обязательства, запрещения, нравы, законы, даже обычаи и приличия,—говорит Леви-Брюль,— со всеми этими предписаниями нужно сообразоваться под страхом различных санкций, частью внешних и частью внутренних; они могут быть более или менее определенны, более или менее смутны, но всегда заявляют о себе, не допускающим возражений тоном, в тех результатах, которые ими производятся, в тех угрозах, которые их сопровождают».
Все факты этой области составляют объект наблюдения и изучения, которое дается в дисциплинах политической экономии, юриспруденции, собственно политики и особенно в исторической науке. Это-то эмпирическое изучение и приводит нас к «науке нравов», которая призвана занять
255
место теоретической морали. А она дает «рациональное, научное искусство» жизни, которое и будет практической моралью. Это будет научная нравственность, потому что она опирается на научные знания. Наука нравов имеет единственною целью изучение социальных фактов. Это в своем роде ботаника нравов,—не более того.
Что касается нравственного искусства, то оно, как говорит А. Бэйе, «в силу своего существенно социального характера, не имеет в виду регламентировать жизнь внутреннюю, индивидуальную. Оно предоставляет ей свободу развития».
Посмотрим далее, в каких частностях раскрывается социологическая мораль.
Нельзя обойти молчанием той ее особенности, что она не хочет знать нравственной проблемы. Нравственная проблема состоит в исследовании того, в чем хорошая жизнь, лучшая жизнь. Говоря словами Корнеля, «человек есть существо, которое должно превзойти себя» (l’homme est un être qui est tait pour se surpasser). Вот это исследование или отыскание пути к улучшению своей жизни, к самоусовершенствованию, не может найти себе места в социологической морали.
Как мы только-что сказали, социологическая мораль, не ставит себе задачу управлять интимной жизнью. Каждому позволяется наполнять свою душу, свой интимный сад всякими безумными травами, всеми ядовитыми растениями: это совершенно не важно с точки зрения моралистов социологической школы.
Но в самом ли деле не имеет никакого значения, если человек согревает в своем сердце чувства ненависти, зависти, ревности, склонность к насилию, чувственности, или, под влиянием гордости, ложно оценивает себя и других? бесспорно, человек, с столь пониженною интимною нравственностью, не будет для общества добрым «продуктом». Каким образом в нем расцветет чувство обязанности работать на благо других, если он не чувствует себя обязанным трудиться для своего собственного блага? И что думать—даже с социальной точки зрения—о морали, которая не занимается этим вопросом? Такая мораль не заслуживает названия морали.
256
Моралисты этой школы держатся того мнения, что этика имеет своим предметом не «то, что должно быть», а то, и лишь «то, что есть» (ce qui est), — факты, и единственно факты. ее дело не оценка фактов, а описание их, — она должна не судить, а констатировать. Они возмущаются наследственною привычкою «сносить факты с нравственными понятиями»; они говорят, что «нет ничего более противного научному сознанию». Если вы испытываете нравственное негодование, встречаясь с отцеубийцей, с насильником, с изменником, то вы поступаете «абсолютно противонаучно». При встрече с такими явлениями, вам нужно ограничиться констатированием факта. Любопытство к деталям, разумеется, допустимо,—любопытство, подобное той любознательности, с какою мы рассматриваем в лупу насекомое или волокна растения, но необходима та же индифферентность суждения, с какою мы высказываем наблюдения, что стена имеет белый цвет, паркет приготовляется из твердого дуба, летом бывает теплее, чем зимой.
Нет места для оценки фактов, для суждений по категории ценности, для размещения их по скале разного достоинства. «Мы сами—объект социальных наук; и, однако на этот объект науки нужно смотреть так же, как и на все другие объекты, тем же глазом, как если бы дело шло о солях или кристаллах».
Чтобы предупредить применение к фактам принципа нравственной оценки, для этого нужно—не иметь идеалов. И моралисты социологической школы вычеркивают идеалы из своего лексикона: самое слово «идеал» возмущает их.
Этот поход против всего идеального составляет самую слабую сторону в позиции социологической школы: в эту сторону направляются неотразимые удары не только из лагеря традиционной морали долга, но и из среды моралистов, которые ничего не принимают на веру и лишь хотят объективного беспристрастия. Мы можем сослаться на известного Фулье, который сурово осуждает эту странную аберрацию этической мысли социологов. «Это возмущение против идеала есть не что иное, как возмущение против самого разума. Устрица не имеет идеала, но ведь она не имеет также ни науки, ни философии. Как только прояв-
257
ляется разум, является неизбежным—различать, классифицировать, обсуждать, оценивать».
Социологи хотят иметь дело только с фактами. Но разве не факт то, что идеал навязывается нам в каждый час нашей жизни? Вез него мы не можем ни думать, ни действовать в этом мире. Разве не идеал поддерживает нас в минуты уныния, подобно другу, который, пожимая нашу руку, говорит: «мужайтесь»! Идеал зовет нас «вперед» и внушает нам: «горе имеем сердца»! Он окрыляет нашу душу, дает ей силы для борьбы с препятствиями, ставит ее выше огорчений неблагодарности, измен, оставленности. Это—осязательный факт, бесспорный. И что бы нам ни говорили социологи, мы имеем право думать, что наши действия бывают тем более достойны, возвышенны, ценны, чем выше наши идеалы. И общечеловеческое сознание будет на нашей стороне. Напротив, социологическая теория морали не может устоять пред этими фактами человеческой совести, человеческого разума.
Мы приходим к тем же выводам, когда нас хотят уверить, что мы обычно совершаем свои действия по основаниям, в которых не можем дать себе отчета. Взять даже самые элементарные формы долга, как-то «не убий, не укради», мы, будто, не знаем, почему мы повинуемся этим велениям. Это—необъяснимая тайна природы, а мотивы такого рода действий «почти столь же неуловимы для нас, как кровяные шарики мамонта, скелет которого ныне находят». Так выражается Леви-Брюль. Но трудно согласиться, чтобы мы были столь невежественны относительно мотивов наших поступков.
Пойдем еще далее. Мораль не есть предмет роскоши, украшение немногих избранников: она практически обязательна для каждого из нас, для чернорабочего, как и для мыслителя, для ребенка, как и для взрослого.
Предположите, что мы поставлены проповедовать социологическую мораль, что мы хотим морализировать народ. Первое условие нравственной проповеди в ясном представлении идеала. Но говорить об идеалах нам запрещено. Мы должны ограничиться призывом наших слушателей—наблюдать социальные факты и поступать так,
258
как поступают все. Но слушатели нам возразят: «Мы наблюдаем и хотим поступать, как все. Однако мы видим—одни живут хорошо и другие живут дурно. Кому же следовать?» С точки зрения социологической морали им нужно ответить: «Не говорите так. Нет ни добра, ни зла. Это старые, противонаучные понятия. Следует просто наблюдать действительность, без всяких предубеждений».—«Просто наблюдать действительность? Но именно сама действительность независимо от нашей оценки представляет разные пути жизни. Какому из них следовать?» Собственно отсутствие оценки и создает затруднение. Чем мы отклоним рабочего от следования образцу тех, которые пропивают весь свой заработок и оставляют голодать свою семью? Мы не смеем говорить об обязанностях его по отношению к другим и, в частности, цо отношению в семье, так как по социологической теории морали не существует ни долга, ни ответственности. «Делать индивидуума ответственным за свои действия—столь же смешно, как порицать гнилое дерево и восхвалять крепкое, и всякая попытка ослабить строгость этого вывода является противонаучной». Нет ни свободы, ни личной ответственности. Это — решительный детерминизм. Жизнь индивидуумов и всего человечества идет подобно камню, который падает с вершины горы, сокрушая растения и животных без малейшего сознания о своем падении.
В качестве единственного мотива, способного определить индивидуальную волю, социологическая мораль может указать на социальный интерес. Без сомнения, это—важная идее. Но ей недостает определенности. Пьяница, напр., мог бы сказать, что он не вредит социальному интересу, причиняя ущерб лишь своему кошельку,—напротив, поддерживая винную торговлю, он соблюдает государственные интересы. И кто посмеет обозвать эту мысль нелепою? Разве ее не высказывают государственные деятели?
В виду этих-то затруднений более откровенные из социологов, каков Леви-Брюль, вынуждаются сказать: «во имя какого принципа решать вопросы совести?» И что же они отвечают на этот вопрос? Они отвечают, что затруднения происходят от слишком быстрой эволюции нашего общества, и что нужно довольствоваться решениями прибли-
259
зительными. Но что такое приблизительное решение и какова его практическая ценность? Приблизительным решением можно было бы удовольствоваться лишь в том случае, если бы этическая проблема была кабинетным вопросом. На самом деле мораль так же необходима для души, как воздух для тела. Каждый день приходится думать о поддержании телесной жизни, и каждый день нужно всем заботиться о поддержании духовной жизни, о духовном совершенстве.
Не трудно видеть, как эта мораль безнравственна, потому что она сама, в лице своих авторитетных представителей, соглашается в том, что она не имеет принципов для управления жизнью и поведением, что она еще находится на низших ступенях развития и что ей далеко до научной зрелости.
Разве это, в самом деле, не детский язык, когда нам говорят, что хорошо жить значит приспособляться к обычаям и что приличие есть единственное правило, которому нужно следовать? Как будто дело идет о моде на шляпы и пальто. Отсюда следует нравственный релятивизм, изменяемость морали по месту и времени. Там, где детоубийство позволено, оно нравственно; где в обычае убивать престарелых родителей, там убийство родителей не идет против морали. Нужно не судить эти факты, а понять их из условий места и времени, и только. Если бы антропофагия вошла в наши обычаи, то она вместе с тем сделалась бы актом моральным, и никто не был бы в праве на нее негодовать, за исключением, разумеется, жертв антропофагии, да и они, по мнению этих моралистов, были бы неправы.
Последняя цель моралистов социологической школы— обосновать убеждение, что закон должен быть высшим судиею. «Нравственное искусство, таким образом понятое, говорит Бэйе, не отличается от политики». Вот откуда так часто раздающиеся ныне с народной трибуны речи о том, что закону должно оказывать безусловное уважение, что пред его голосом должна склониться сама совесть. Где же в таком случае останется место для абсолютных устремлений духа? Не значит ли это возобновлять древние принципы, что человек для субботы, а не суббота для че-
260
ловека, что каждый индивидуум имеет относительную ценность в качестве дроби целого, которым признается народ или государство? Но вместе с этим погибает личное прогрессивное начало, и выше всего ставится мнение большинства, голос толпы.
Мало того. И на этом еще нельзя остановиться. Ведь и закон может казаться орудием нравственности. По словам Спенсера,—«цель закона—внушить уважение к нравственным принципам, которые лежат в основе социальной жизни». Остается, конечно, возможность разногласий в понимании нравственных принципов, и здесь мы видим замкнутый круг. Но если бы этого и не было, все-же уважение к закону, когда его противополагают голосу совести, ограничилось бы одною внешностью. Когда с совершенною определенностью говорят, что «вопрос о долге, или нравственной обязанности, не есть научный вопрос», что последняя цель, или идеал, также не принадлежат к области науки, что нет места ни для какой санкции, кроме санкции жандарма, который может составить протокол на месте преступления; то остается полная возможность довольствоваться в вопросах нравственных видимостью. Последняя забота должна свестись к ловкости, с какою усыпляется внимание жандарма, а в тайной клети, в интимной жизни—полный простор для безудержных желаний.
Это нас естественно приводит к морали солидарности (morale de la solidarité), которую можно назвать суррогатом социологической морали: это—та же социологическая мораль, но без научных претензий.
Сложные и утонченные аргументы социологической теории заменяются здесь одним многообещающим словом: «солидарность». Л. Буржуа, один из сторонников этой морали, удостоверяя, что это слово стало модным, не останавливается пред признанием, что оно «вызвало может быть безотчетный энтузиазм».
Действительно, найдется не мало простых людей, которые думают, что эти вопросы можно решить одним словом и что достаточно громкой формулы, чтобы уврачевать раны человечества. И мы знаем, как часто злоупотребляют этою формулою: мало других слов, которые также часто повторялись бы, кстати и некстати.
261
Это увлечение формулой солидарности более глубокое основание имеет в том обстоятельстве, что ее взял под свое покровительство социализм, охвативший ныне столь широкие круги: социализм надеется именно в теории солидарности найти свою мораль, которая сама в себе имеет достаточное основание, опираясь на научно удостоверенный социальный факт,—надеется на этой основе воздвигнуть всю пирамиду человеческих обязанностей.
На этом пути думают обрести двойную выгоду, и прежде всего считают возможным навсегда изгнать христианскую любовь. Пьер Леру, первый употребивший это слово, ясно высказал и эту надежду: «я хотел заменить Христову любовь человеческою солидарностью». Вторая выгода—возможность обосновать прогресс на демократическом братстве. Но это сантиментальная надежда, которая должна рассеяться как дым. Л. Буржуа полагает, что в принципе солидарности обнимается вполне девиз: «свобода, равенство и братство». При всей изысканности его аргументации, ему нужно поставить в упрек, что таким образом он перевертывает вопрос, так как солидарность, при таком понимании, мало чем отличается от христианской любви.
Итак, теория солидарности не имеет под собою твердой базы, если она ограничивается отрицанием христианских идей. Если солидарность представляет из себя нравственную связь, которая соединяет нас всех и из которой вытекает долг взаимопомощи, то мы объявляем себя сторонниками такой солидарности. Но в теории, о которой у нас речь, солидарность имеет другое значение. Мы это сейчас увидим, и мы увидим также, что она не может удовлетворить нравственного сознания.
Первое наблюдение, которое делают представители нравственной теории солидарности, состоит в том, что солидарность есть научно-установленный факт: солидарность— это взаимная зависимость клеток в организме, индивидуумов в обществе. Однако, есть же различие между солидарностью биологическою и солидарностью моральною. В первой все следует с фатальной неизбежностью, во второй господствует личная свобода, и личное свободное решение является новым элементом, который полагает непроходимую
262
грань между биологическим и моральным видами солидарности. Клетки организма связаны неизбежной гармонией, индивидуумы в обществе сталкиваются во взаимной борьбе, эти конфликты могут быть превзойдены лишь свободными усилиями личностей. Справедливо замечает Брюнетьер: «если бы солидарность была научно установленным фактом, из области которого мы не могли бы уйти, и если бы она обнаруживалась в качестве биологической функции, то что за нужда была бы ее проповедовать? Против нее не восставали бы и не стояли бы за нее, как не разделяются по вопросу о циркуляции крови. И в вопросах моральной солидарности мы все были бы согласны, так как и здесь все сводилось бы к констатированию факта».
Сверх того, связи взаимной зависимости не создают сами собою частных обязательств. В виду попыток теоретиков солидарности уподоблять солидарность моральную солидарности биологической, естественной, мы можем обратить внимание на то, что человек всеми доступными для него средствами старается освободиться от естественных связей, которые его стесняют,—это составляет одну из серьезных задач культуры. Он связан с природою, это так,—но его обычная забота—укротить ее, заставить ее служить своим желаниям, своим целям. Таким путем сокращаются расстояния, и естественная связанность пешехода с землею, которая его носит, заменяется теми средствами передвижения, которые свидетельствуют о явной победе человека над естественной солидарностью.
С другой стороны, создается ли солидарностью интересов согласие? Капитал и ручной труд имеют солидарные интересы. Чем больше у капиталиста денег, тем более рабочих он мог бы содержать и тем больше платить им. Однако капиталисты во имя собственной выгоды стремятся сокращать число рабочих и понижать плату. Очевидно, взаимная зависимость и солидарность не приводят сами собою к гармонии и единению.
Сама по себе солидарность ничто; она видоизменяется соответственно тем принципам, которые исповедуют. Два каторжника, приставленных к одной работе, солидарны между собою, но от этой солидарности еще далеко до сердечной привязанности. Если жертва кораблекрушения оспа-
263
ривает у своего товарища по несчастью обломок, за который оба уцепились, то он, конечно, поступает с точки зрения солидарности столь же логично, как и тот человек, который уступает, при таких же условиях, другому спасительную доску.
И в самом деле, какой принцип можно извлечь из теории солидарности, если оставить в стороне чувства и держаться одной логической стороны этой доктрины? Не придется ли в этом случае просто констатировать, что солидарность равно внушает человеку как самосохранение, так и помощь другим? И во всяком случае, может ли доктрина солидарности дать обоснование и оправдание самопожертвованию, без которого нельзя обойтись в этом мире и которое служит пробным камнем высшего благородства человеческой души? Пусть нам не говорят, как это делают защитники теории солидарности, что «мы работаем для будущего, для нравственной будущности человеческого рода» (Марион). В этом без сомнения заключается мысль, которая в состоянии возбудить и вести вперед добрые сердца, но как худо этот возвышенный принцип подходит к частным случаям нашей жизни, в которых требуется невидное самопожертвование, скромная добродетель! В случаях конфликта страстей, в борьбе тяжелого бескорыстия с увлекательною заинтересованностью «будущность человеческого рода» значит очень мало. Это идеал слишком неуловимый, отдаленный и даже, можно сказать,—смешной для громадного большинства людей.
Мысль о будущей судьбе человеческого рода не может служить основанием человеческой нравственности. Это же нужно сказать и о принципе О. Конта: «жить для других». Нам скажут: какой возвышенный план жизни! Не спорим против этого. Но все дело в том, чтобы найти этому принципу пути к человеческому сердцу. Это-то и трудно. «Что такое человечество, говорит философ (Поль Жане Philosophie du bonheur)? Не есть ли это ряд, подобных мне, теней, которым предопределено на короткое мгновение появиться на поверхности земли, чтобы затем исчезнуть в вечности? И что мне за дело до этих теней, что мне за дело до их счастья?» И зачем мне жертвовать ради них своим личным счастьем?
264
Когда мы откровенно ставим пред собою эти вопросы, оставляя в стороне всякую риторику, всякие трюизмы, когда мы говорим сами с собой,—единственно пред лицом своей совести, когда мы испытываем побуждения, которым обыкновенно следуют люди,—мы постигаем всю правду слов Ламенэ: «человек столь же мало расположен по своей природе приносить жертвы во имя общественного блага, как и удивляться пред красотою машины, которая с минуты на минуту готова его сокрушить».
Чтобы приправить эту доктрину солидарности, которую не без оснований называют «неясной и неопределенной концепцией морали», пытаются найти для нее точку опоры в юридической идее договора. Говорят, наше время главнее всего отличается от прежних времен тою выдающеюся ролью, которую ныне играет договор. «Распоряжения власти» теперь уже не имеют того значения, какое они имели прежде,—их место в наши дни заступают «договорные акты». Эти мысли развивает Л. Буржуа в своем сочинении Solidarité. Здесь он старательно отклоняет от себя подозрение в следовании идеям Ж. Ж. Руссо в его Contrat social. И, однако он заканчивает свою книгу такими словами: «таким образом доктрина солидарности является, в истории идей, как бы развитием философии ХVIII, века». И конечно, нужно констатировать существенное совпадение мыслей Руссо и Буржуа. Для чего же нужна идея договора последнему? Он видит тесную связь между фактом солидарности и договорным законом. Вот как он раскрывает свою мысль: «Договор, свободно постановленный и верно исполненный с обеих сторон, является окончательною основою человеческого права. Там, где необходимость устанавливает сношение между людьми, так что они не могли войти свободно в предварительное обсуждение условий сношения, там закон, утверждающий впоследствии установившиеся между ними условия, должен быть не чем иным, как истолкованием и выражением того согласия, которое должно было бы возникнуть предварительно между ними, если бы для них было доступно равное и свободное обсуждение: однако единственным основанием права будет это подразумеваемое согласие обеих сторон». Буржуа делает экскурсию в юридическую об-
265
ласть. Мы не последуем за ним сюда, хотя он и допускает на этом пути несколько промахов, подкапывающих теорию солидарности. Для нас очевидны последние результаты, к которым он стремится—подведение юридического фундамента под доктрину солидарности, и для нас становится бесспорною связь морали солидарности с чистою социологическою моралью. Как там, так и здесь мы призываемся приспособиться к фактам, к законам, к общественным обычаям. И здесь личной свободе, и абсолютному началу нравственности угрожает решительная опасность. Но и помимо того, можно ли всю систему нравственных обязанностей обосновать на шаткой идее договора?
Уже наше рождение, говорят нам, наше вступление в семью человечества, дарующее нам многие блага культуры и современного строя, возлагает на нас длинный ряд обязательств. Обязательств, но к кому? Ко всему роду человеческому? Как же мы будем уплачивать этот свой долг? Если бы мы могли прибегнуть к христианской любви, которая всех обнимает, которая не считается с правами каждого, для нас было бы легко выполнить эту задачу. Но наука не позволяет нам говорить о христианской любви. Она хочет, чтобы мы оставались на строго-юридической почве, не выходили из пределов, которые очерчиваются понятиями договора и долга. Но ведь если на пути христианской любви нам легко отыскать тех, к кому мы должны обратить свое сердце, кому должны оказывать свое благоволение, то не так-то легко найти кредиторов на пути естественной солидарности, найти тех, кому мы должны уплачивать свой естественный долг.
Долг, как юридическое понятие, есть строго определенная вещь, так что не должно быть неясностей ни относительно кредитора, ни относительно средств уплаты. В данном же случае нет такой определенности. И принцип, столь неясный, не мог бы служить нравственным руководством для нашей совести. Под давлением этих возражений, сторонники рассматриваемой доктрины отступают в область чисто социальных условий жизни, в область ассоциаций, синдикатов, прав собственности, наследства, где солидарность без сомнения может породить явные обязательства. Но беда в том, что в эту область нельзя втис-
266
нуть всю нравственность,—и сводить ее к этой области значит суживать понятие нравственности, заменять нравственность более тесною областью положительного закона. -Л. Буржуа прямо говорит о легитимистической санкции. Вот к чему в конце концов приводит доктрина солидарности.
Ф. Бюиссон на одном из диспутов поставил Л. Буржуа такое возражение: «указанием на факт естественной солидарности можно ли убедить ребенка в том, что на нем лежит долг действовать в духе нравственной солидарности? Вам придется удовольствоваться пустыми словами: напрасно вы будете уяснять неизбежные последствия естественной солидарности, ведь нужно внушить ребенку живое чувство лежащего на нем долга осуществлять справедливость вопреки той механической и животной солидарности, которая безразлично производит и добро и зло».
Л. Буржуа уступил силе этого возражения. Однако вполне уйти от него можно лишь на пути идеалистической или христианской морали; вступить же на этот путь представители научной морали не могут, не изменяя своим принципам.
Научная мораль... Поставим последний вопрос: может ли быть научная мораль? Стоит ли этому новому идолу, этому фантому, приносить какие бы то ни было жертвы?
На этот вопрос можно ответить отрицательно. Но опасно такой ответ выдавать за личное мнение. Необходимо сослаться на авторитеты, в которых по счастью нет недостатка. Вот что мы читаем в книге А. Пуанкаре «Ценность науки». «Если я говорю об истине, то нет сомнения, что я прежде всего хочу говорить об истине научной; но вместе с тем я хочу говорить и об истине моральной, по отношению к которой то, что зовется справедливостью, есть только один из видов. Кажется, что я злоупотребляю словами и под одним и тем же названием соединяю две вещи, не имеющие ничего общего; что научная истина, которая доказывается, ни под каким видом не может сближаться с истиной моральной, которая чувствуется. Тем не менее я не могу отделять их, и те, которые любят одну, не могут не любить и другую. Для
267
того, чтобы найти одну, так же как и чтобы найти другую, нужно постараться вполне освободить свою душу от предубеждений и пристрастия, нужно достигнуть абсолютной искренности. Эти оба рода истины, раз открытые, приводят нас в одинаковое восхищение; и та и другая, лишь только их усмотрели, сияют одним и тем же светом, так что нужно или видеть их или закрыть глаза. Следует прибавить, что тот, кто боится одной, побоится я другой; ибо такие люди во всяком деле прежде всего заботятся о последствиях. Я сближаю обе истины, потому что одинаковые мотивы заставляют нас любить их и одинаковые мотивы побуждают нас бояться их. Если мы не должны бояться моральной истины, то тем более не следует страшиться истины научной. Прежде всего она не может быть во вражде с моралью. У морали и науки свои собственные области, которые соприкасаются друг с другом, но не проникают друг друга. Первая показывает нам, какую цель мы должны преследовать; вторая—при данной цели—открывает нам средства к достижению ее. Следовательно, они никогда не могут оказаться в противоречии друг с другом—так как они не могут сталкиваться. Не может быть имморальной науки— точно так же как не может быть научной морали». Мы сделаем лишь небольшое добавление к этим прекрасным словам Пуанкаре. Он говорит: «если мы не должны бояться моральной истины, то тем более не следует страшиться истины научной». Вы могли бы сказать по адресу представителей чистой науки: «если вы не страшитесь научной истины, то имейте мужество не бояться и истины моральной». Мы могли бы еще сослаться на Дюкло, директора Пастеровского Института, который пишет: «я не хотел сказать, что наука дает решение социальных проблем. Она никогда этого не обещала, потому что она никогда ничего не обещает. И те, которые обвиняют ее в том, что она не сдержала своих обещаний, принимают за науку балаганные фокусы».
После таких отзывов нас уже не могут смущать поспешные заявления Бертло, известного химика, который утверждает, что «одна только наука дает непоколебимые основы морали»..
268
Отметим еще одно любопытное наблюдение. Мы уже сказали, что книга А. Бэйе популяризирует книгу Леви-Брюля, а последняя опирается на данные в исследовании Дюркгейма о социологическом методе. Но примечательно, что Дюркгейм открыто заявляет, «что есть наука о морали, но нет научной морали». Таким образом, его социологический метод использован недобросовестно в короткой истории социологической этики.
Научной морали не может быть потому, что наука имеет дело с тем, что есть, а мораль—с тем, что должно быть.
М. Тареев.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
