13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. Религиозная проблема в современном освещении
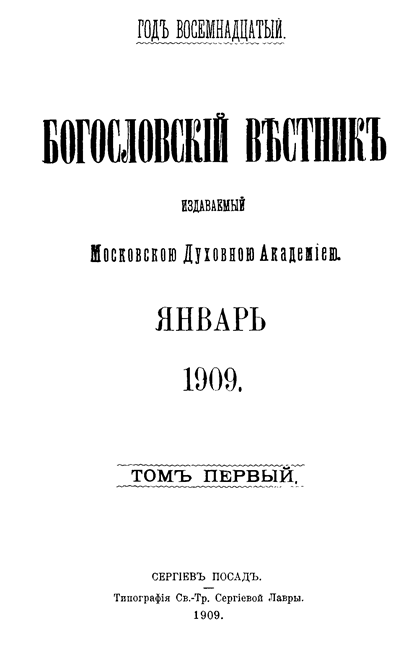
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.
[Начало.]
I.
«Собрались мы в деревне несколько парней и стали промежду себя спорить: кто кого дерзостнее сделает? Я по гордости вызвался пред всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз.
— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал так, как говоришь. Хвастаешь.
Я ему стал клятву давать.
— Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.
Поклялся.
— Теперь скоро пост, говорит, станешь говеть. Когда пойдешь к причастью—причастье прими, но не проглоти. Отойдешь—вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.
Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! 51 положил на жердь.
Теперь, говорит, принеси ружье.
Я принес.
— Заряди.
Зарядил.
— Подыми и выстрели.
Я поднял руку и наметился»...
Это передает Достоевский в «Дневнике писателя», и, передав, высказывает свои глубокие замечания. «Тут являются пред нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом! Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, за-
58
59
метьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как-бы каким-то наваждением). Это—потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и,—в частных случаях, но весьма нередких—броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это— потребность отрицания в человеке, иногда самом не отрицающем и благоговеющем, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, пред которой сейчас лишь благоговел, и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь-ли, вино-ли, разгул, самолюбие, зависть— тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего: от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником,—стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою-же стремительностью, с такою же силою, с такою-же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва,—порыва отрицания и саморазрушения. То есть, то бывает всегда на счету как-бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе»...
Этот отрывок из «Дневника писателя» не выходит из головы, когда обозреваешь наш современный книжный рынок с религиозной точки зрения. Полки ломятся от
60
той массы религиозно отрицательной литературы, которая столь услужливо предлагается доверчивому читателю книжными магазинами и с такою жадностью поглощается покупателями. Тут, разумеется, не имеет никакого значения то, что значительная часть этой литературы—переводная: неважно, кто поставляет эти книги и брошюры на книжный рынок, важен этот «торопливый, стремительный» спрос, который порождает как писателей, так и особенно переводчиков, важно это «безудержное» и «беззаветное» поглощение листов, отрицающих «всю народную святыню во всей ее полноте», отвергающих «семью, обычаи и Бога». Сила явления не ослабляется, а лишь усиливается переводным характером богоборческой литературы, так как в нашу полосу истории переводятся, наряду с новейшими, и старые отрицатели,—и при этом у нас, в эти дни, становятся популярными давнишние писатели, не только не известные нашей широкой публике ранее, но и решительно не популярные у себя на родине.
Характерны для наших дней обилие и разношерстность атеистических книг, появляющихся без всякой философско-исторической подготовки, в силу простой склонности русского человека «поскорее заявить себя», «дойти до последней черты». Все говорит о «судорожности» религиозного отрицания и разрушения. Книжки и брошюрки бьют на эффект, рассчитаны на известную психологическую предрасположенность, на определенные ожидания и искания. «Себастиан Фор Преступления Бога. Перевод с французского». Как вам это нравится? За 15 копеек вы можете узнать, в течение 5 минут, о преступлениях Самого Бога! О проделках какого-нибудь полицеймейстера интересно послушать, а здесь ни более, ни менее как преступления Бога! Здесь Бог именуется лжецом, невежей, негодяем и преступником. «Из всех палачей это судья самый несправедливый и самый мучительный». Здесь религия буквально так изображается: «Религия есть достояние рабов, это рабская мораль. Верующий, имеющий глаза, не должен слышать, имеющий руки, не должен трогать (?!), имеющий мозг, не должен рассуждать; он не должен пользоваться своими руками, своими глазами, своим разумом. Во всех случаях он обязан обращаться к откровению.
61
Религия имеет своим следствием оковывание мысли в ущерб прогрессу: можно ли представить преступление более ужасное? Кровавые бойни, которые велись во имя или для поддержания различных культов, погубили для их осуществления сотни, тысячи поколений, миллионы и сотни миллионов сражающихся. Кто перечислит конфликты, источником которых были религии, кто сможет сделать подсчет всем убийствам, избиениям, гекатомбам, расстрелам, преступлениям; религиозное сектантство и непримеримый мистицизм окровавили землю, по которой влачится раздавленное кровавым тираном человечество. Религия — это ненависть, посеянная между людьми, это—низкое рабство и смирение миллионов подчиненных, это надменная жестокость пап, первосвященников и священников, это, наконец, триумф подавляющей морали, которая уродует существа: мораль умерщвления плоти и ума; мораль скорби, отречения, самопожертвования; мораль, которая заставляет индивида подавлять свои самые великодушные порывы, обуздывать свои инстинктивные побуждения и страсти, душить свои стремления; мораль, которая наполняет ум грубыми предрассудками и мучает совесть угрызениями и страхом; наконец, мораль, которая порождает смирение, разбивает могучие импульсы энергии, душит свободный порыв возмущения, революции, увековечивает деспотизм господ, эксплуатацию богатых и подозрительное могущество попов. Невежество в умах, ненависть в сердце, трусость воли—преступления, которые я приписываю идее «Бог» и ее неизбежному спутнику—религии. Все эти преступления, в которых я обвиняю публично, при свете свободного исследования, лжеучителей, которые говорят и действуют во имя существующего Бога. Вот что я называю преступлениями Бога, и называю потому, что они совершаются и совершались во имя Его, потому что они порождались и порождаются чрез идею Бог»...
С. Фор обвиняет публично Бога, предъявляет к Нему иск, вычисляет и доказывает Его преступления. Ему можно было бы возразить: имеете ли Вы основание приписывать религии преступления, которые совершаются людьми во имя ее? Это возражение нам нет нужды формулировать от себя,—оно уже делалось печатно. «Вы де-
62
лаете ответственной церковь за ошибки, а религию—за недостатки и грехи ее последователей. Вину отдельных лиц вы взваливаете на целое общество; вы осуждаете виновных наравне с невинными. Назовите мне какой-нибудь порок или недостаток, если он не коренится в природе всех смертных,—какую-нибудь несправедливость или гнусность, которые не были бы строго осуждаемы и воспрещаемы христианской религией и учением церкви. Назовите мне хотя бы что-нибудь, что по вашему мнению считается постыдным и недостойным, что вы стремитесь уничтожить, и что в то же время не подлежало бы уничтожению и искоренению на основании учения христианской религии, если таковое исполнялось. Назовите мне также что-нибудь хорошее, благородное, желательное, какую-нибудь добродетель, которая не процветала бы там, где исполняются заповеди христианства? Этого вы, конечно, сделать не можете,—и потому вы должны признать, что вина за то зло, которое вы клеймите, лежит не на религии или церкви, а на людях».
Но допустим, что вина людей верующих или выдающих себя за верующих есть именно вина религии. Однако с еще большим правом можно поставить вопрос: вина религии есть ли вина Бога, которая давала бы основание обзывать Его лжецом, невежей, негодяем и преступником? Не говорим уже о том, что эти выражения не судебные,—это площадная брань, возможная лишь в устах какого-нибудь пьяницы,—самое это вменение Богу преступлений Его поклонников можно ли признать? Громадная сила этого возражения, собственно в применении к Фору, создается тем обстоятельством, что этот автор не верит в существование Бога: для него Бог не есть реальное существо, но это—фикция, вымысел. Идея Бога порождена невежеством первобытного человека; это гипотеза, к которой он прибегал вследствие крайней ничтожности своих познаний. Но в течение веков науки прогрессировали. Вырвавшись из долгого и болезненного периода исканий, ум человеческий начал решительно направляться к свету. Смелые личности взяли в руки светоч знания. Пустые объяснения не могут уже удовлетворять пылкую любознательность этих искателей. Они нетерпеливо встря-
63
хивают бремя суеверия. Физика, химия, астрономия, естественные науки объясняют отчасти те явления, которые вселяли боязнь и удивление предков. Старые традиции поколеблены. На место Бога без философии становится философия без Бога. Древние понятия о вселенной разрушены сверху до низу. исследование учеными неба при помощи могучих астрономических аппаратов знакомит нас с законами небесной механики. Начинают появляться материалистические тенденции; они укрепляются и развиваются, делая брешь в детском и грубом спиритуализме предыдущих веков. Непреодолимый поток влечет к атеизму наши разочарованные поколения. Ныне гипотеза Бог уже не необходима, она бесполезна, она абсурдна, она преступна. Существует вечная материя, которой присуще движение. Все совершается по железной необходимости. И в царстве этой вечной материи и железной необходимости нет места Богу.
Но если так, если преступно и абсурдно верить в Бога, если в мировом царстве вечной материи и неизбежных законов нет места ни для творения, ни для промысла, то как же возможно говорить о преступлениях Бога, о преступлениях не существующего Бога? Отвергая Бога во имя фатальности мировых законов, нужно откровенно пристать к учению старых стоиков, которые считали неразумными жалобы на небо, недовольство судьбой. Иначе получается преступная игра словами.
Не на что другое, как только на тот же оптический эффект рассчитан длинный ряд других брошюр: «Кармелюк Новая нагорная проповедь», «В. Вейтлинг Евангелие бедного грешника», «Демчинский Христос в революции» и т. п. Первая из названных книжонок проповедует: «Несчастны нищие духом, примирившиеся со своей нищетой и не восставшие против неправды. Им не будет принадлежать царство небесное, ибо нет другого «царства небесного», кроме царства правды на земле. Блаженны все недовольные своим нищенством духовным и житейским, все возмутившиеся против своего невежества и унижения, ибо лишь таким суждено осуществить царство божье на земле. Несчастны плачущие! Ибо слезы суть признак слабости, отказ от борьбы. Утешения надо искать не в еле-
64
зах, а в сопротивлении, в борьбе. Блаженны борющиеся, ибо они не плачут и не нуждаются в утешении. Несчастны кроткие, встречающие насилие тупой, смиренной, безропотной кротостью! Они никогда не наследуют, землю, ибо землею давно завладели сильные и жадные, сердце которых одеревенело, а ум изощрился в защите того, что они награбили. Ожидать, что они отдадут землю в наследство кротким за их кротость—все равно, что ожидать от кукушки, что она, когда подрастет в чужом гнезде, не выкинет из него птенчиков настоящей матери. Блаженны мужественные и непокорные, ибо лишь они, сильные волею и мощью, завоюют и наследуют землю. Несчастны алчущие и жаждущие правды, если они ничего не делают для утоления своей жажды и возложили все свои надежды на Бога. Ибо они никогда не насытятся. Блаженны все, восставшие против неправды, ибо они уже близки к насыщению. Несчастны милостивые к немилосердию, ибо они умножают зло на земле. Всякое милосердие, оказанное притеснителю, есть жестокость по отношению к притесняемым; всякая милость, оказанная палачу, превращается в удар его жертве. Блаженны же те, что не знают милосердия к палачам и покорны лишь голосу справедливости, ибо они не нуждаются в милости. Несчастны миротворцы, накладывающие заплаты на изношенную одежду, не дающую более защиты носящим ее. Несчастны миротворцы, ибо то, что они будут наречены сынами божьими, не сделает их способными постоять за правду. Войне надо противопоставить войну, насилию силу,— таков закон жизни и деятельности любви. Блаженны те, которые не толкуют о мире, когда необходим отпор, и не болтают лицемерно о возможности братства между волками и овцами. Блаженны сеющие семена борьбы и восстания против зла, ибо они будут наречены сынами правды. Несчастны вы, если вас станут безнаказанно гнать, поносить и всячески злословить за правду, несчастны вы, если такие гонения не заставят вас, гонимых, подать братски друг другу руки и объединиться, и составить легион правды и, препоясав чресла свои мечем, встать с чистой душой и мужественным сердцем против нечестивых. Царство небесное на земле принадлежит не терпе-
65
ливо страждущим, хотя бы даже на правду, а всем неспособным терпеть кривду и угнетение. Блаженны те, которые не хотят терпеливо выносить гонения даже за правду, ибо правда не должна быть гонима, но сиять всем, как солнце, изливая свет и теплоту на всех невозбранно. Противьтесь злу всеми средствами, не исключая и насилия, и не слушайте тех, кто проповедует вам подставлять левую щеку, когда ударяют вас в правую; ибо эти люди, в безумии своем, только усугубляют и увековечивают неправду. Нет, на каждый удар отвечайте ударом, и тем самым вы отобьете у притеснителей охоту бить других. Не слушайте тех, кто говорит вам, что не надо противиться, когда вас обирают и грабят, и что. если с вас снимают рубашку, то должно отдать добровольно еще и остальную одежду. Не слушайте их, ибо так говорят подкупленные холопы и ставленники ваших грабителей, или люди, сердце которых дрябло, как испорченный плод, который ни взора ничьего не радует, ни голода утолить не может»...
Ну, разве это не речи безумного? Ведь ясное дело— возводить в принцип силу это значит оправдать насилие, от которого страдают притесняемые,—противопоставить абсолютно-религиозному принципу евангелия принцип борьбы это значит уничтожить всякий принцип и на место принципа поставить чистое царство силы: чья возьмет! Но уже взяло верх насилие... Иное дело, если бы этот проповедник проводил ту мысль, что религиозно абсолютный принцип не может служить определяющим началом условно-общественной жизни, с ним можно было бы согласиться, но тогда ему не пришлось бы говорить о новой нагорной проповеди, а в этом все дело. И пущена в ход эффектная нелепость.
Буквально то же мы встречаем и в брошюре В. Вейтлинга, с тем лишь различием, что здесь такое содержание влагается в само евангелие,—не противопоставляется евангелию, но выдается за комментарий евангелия. Речь ведется в таком виде.»... Прогоните ко всем чертям ваши мелочные мещанские заботы. Вы с вашими ничтожными средствами все равно не можете сколотить много денег и имущества. Не заботьтесь о том, у кого и для кого вы
66
будете завтра работать. Если вы сами не захотите голодать, вы не будете голодать. Не заботьтесь о ресторанах. Осуществление общности имущества будет нашим рестораном. Мы не станем кормиться в одиночку. Если вы захотите, мы будем кормиться все вместе. Нет ничего легче этого. Не заботьтесь о средствах для свадьбы. Пусть девушки и женщины имеют терпение и подождут. Тогда, по крайней мере, мы сэкономим свадебные расходы, и нам не придется связывать себя вопреки нашим склонностям. Не правда ли, барышни, вы подождете? Конечно, подождете со свадьбой, а не с дружбой и любовью. Так любите же и услаждайте нам последнюю прекрасную борьбу. Не заботьтесь, как заплатить долги. В первые же дни свободы все долги будут погашены. Не заботьтесь о будущем, о днях старости. Лучше пусть тот, у кого еще нет ни одного седого волоса, поставит себе задачей, по крайней мере, каждые 14 дней убедить хоть одного человека разделить принцип общности имущества прежде, чем он поседеет. Это лучшая сберегательная касса на случай старости. Этим вы скорее всего достигнете цели. Итак, не заботьтесь обо всем этом хламе, но «ищите царствие Божие и это все приложится вам». Вы поняли это? Ведь это так ясно, так понятно! Поэтому, когда речь идет о царстве Божием, не смотрите туда, наверх, в голубое пространство. Здесь, внизу, тоже можно создать царство Божие. Ибо, как мы можем достичь вечной жизни, если мы не будем считать это возможным и не найдем в себе мужества бороться за осуществление этого? Ведь вечная жизнь ни в коем случае не может быть уделом трусливых рабов, иначе—покорно благодарю за нее!»... Сам Христос представляется здесь веселым человеком. «Иисус Христос не был мракобес, ханжа, проныра или лицемер, каким его иногда рисуют, и как можно было бы судить но его современным последователям, религиозным мракобесам, пройдохам и святошам. Нет! Он был просто полный жизни светский человек, который на своем тернистом пути срывал столько цветов удовольствия сей краткой жизни, сколько ему позволяли обстоятельства, без ущерба для его главной жизненной цели. Иисус, несмотря на предрассудки своего времени, посещал праздники и
67
пиршества грешников и не отказывался от прикосновения и общения с обезславленными девами и женами. Много грешить, говорил он, значит много любить. Когда на свадьбе в Кане Галилейской было уже достаточно выпито, он превратил еще и воду в вино. Уходя из мира сего, он простился с своими учениками за пасхальным агнцем и вином, и такие трапезы любви он рекомендовал своим преемникам и просил их делать это в память о нем.
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.
Иисус разъезжает по стране с грешными девами и женами, которые оказывают ему поддержку» и т. д. и т. д.
Что это иное, как не сознательное кощунство,—сознательное желание сказать дерзостнее всех, посмеяться над священным образом, который миллионы верующих носят в своем сердце, исказить черты дорогого лика, зная, что это причинит боль любящим? И что здесь всего изумительнее: это легкомысленность, шутливость в отношении к священному предмету, отсутствие сознания вообще святыни!
Парень, описанный Достоевским, не вынес своей дерзости.
— «Я поднял руку и наметился. И вот только-бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии»... А эти господа, выпускающие свои пятикопеечные брошюры, не упадут в обморок от самой крайней наглости. Вы скажете: да у них веры нет, тогда как парень топ. шел против своего сердца,—у них по этому пункту в сердце просто пустота. Пусть так, но ведь
храм оставленный—все храм,
Кумир поверженный—все Бог!
Можно отрицать, можно восставать, но глумиться и шутить—это не достойно уважающего себя человека. Послушайте, что Ницше, тоже, как русский парень, не вынесший своего отрицания,—послушайте, как он содрогался при мысли об умершем Боге.—«Слышали ли вы о том без. умном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и непрестанно кричал: я ищу Бога, я ищу Бога... Я вам скажу, где Бог: мы его убили—
68
я и вы. Мы все убийцы. Но как мы это сделали? Как могли мы выпить море? Кто дал нам эту губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвавши землю от ее солнца?... Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все более и более темная ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим шум могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах тления? И боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое могущественное и святое существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве грандиозность этого дела не слишком громадна для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его»?...
Но вот не в богов и не в героев, а в скоморохов обратились эти неверы, изгнавшие всякую святыню из сердца своего, —не в подъем духа, а в душевную болезнь перешло их неверие. Уже в этом торопливо-кружащемся вихре отрицательных листков видно что-то патологическое,—оно заметно и в содержании их. «И. Анинский Псевдо-христианство как тормоз прогресса». Есть и такая книжонка. В ней мы читаем: «Беседа 11-я. (Внушено мне моей покойной женой, на другой день ее смерти, ночью 9-го февраля 1901 года. Это может показаться странным, а потому считаю нужным сделать пояснение, что мысли эти явились у меня как бы помимо моей воли, как бы сами собой, в то время, как я думал об усопшей)». Следующие затем мысли носят на себе печать чего-то психопатического, бредового. «Жизнь вселенной—глашает автор— заключается и выражается в ее постоянном прогрессировании, потому что прогрессирует само Божество. Мне могут заметить, логично ли будет допускать прогрессирование совершенного? На это я должен заметить, что прогресс, по моему мнению, прогресс в обширнейшем смысле этого слова, вовсе не есть то, что большинство подразумевает под этим словом, т. е., строго говоря, вовсе не то улучшение, ка-
69
кое доступно нашим понятиям, а скорее или вернее даже— видоизменение, ведущее нас в неизвестность, где нас ждет блаженство. И что же может обязать совершенное быть неподвижным и не видоизменяться? Несовершенное, видоизменяясь, может усовершенствоваться, а совершенное, видоизменяясь, ведет и несовершенное к совершенству. Непрогрессирующее Божество, отдельное ли оно или слитное с своим творением (это все равно), не могло бы свое творение вести к прогрессу. Это было бы не живое, а мертвое Божество—идол. Бог настолько же неизменяем, насколько всеизменяем, а потому и всеизменяющ. Кроме того, к свойствам, обыкновенно Ему приписываемым, необходимо еще прибавить одно, именно это то, что Он всевмещающ, т. е. в Нем не только одно добро, правда, радость и безграничность, но и зло и неправда, страдание и ограниченность». И т. д.
Вообще патологический характер нашего религиозно-отрицательного движения последних дней—вне сомнения. Поэтому хочется верить вместе с Достоевским, что это— временное явление в жизни нашего народа, что это один из признаков «роковых минут его исторической жизни». Дело, по-видимому, уже дошло до последней черты, и хотелось бы также верить, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения будет серьезнее. И несомненно также, что спасет себя русский народ сим,—тем не менее нельзя сказать, что здесь было бы неуместным вмешательство богословской науки. Напротив, с ее стороны было бы преступным в данном случае молчание. Она может и должна помочь кризису. Ее призвание—апология христианской веры и полемика с отрицательной литературой. Однако этим ее дело не может ограничиться, отчасти, потому, что ныне чистая апологетика встречает к себе с первого слова недоверие. Необходима для богословия некоторая скромность, необходимо убеждение, что главное в этом деле народного спасения зависит от самого народа, самого общества. При этих условиях более уместным оказывается научно-объективное отношение богословия к религиозно-отрицательному движению. Нужно показать начало этого движения, его причины, нужно классифицировать религиозно-отрицательную литературу, отделить
70
в ней серьезное и основное от задорного и тактического, более глубокое от боевого. И тогда выяснятся у каждого основания для собственного суждения по религиозному вопросу, для самостоятельной оценки религиозно-отрицательной литературы. Такую задачу и преследует наш очерк. И мы надеемся, что он будет не бесполезным для всех, кому приходится вести ближайшее дело апологии и полемики, для пастырей и законоучителей. Они найдут здесь для себя много поучительного. Полезно будет для них уже окинуть взором общую картину современного отрицательного движения в области веры, ибо это даст знание врага и его сил, а знание необходимое условие победы. Затем систематическое ознакомление с религиозно-отрицательной литературой откроет слабые стороны последней, а равно и те элементы, которыми можно воспользоваться в полемических интересах...
В современной религиозно отрицательной литературе легко можно выделить два основных класса, два основных направления —социалистическое и анархическое. рассмотрим последовательно первое и второе.
II.
Религия и социализм.
Прослеживая историю социалистического отношения к религии, мы доходим до Л. Фейербаха.
О значении Фейербаха в этом отношении не может быть споров. Мы приведем рассуждение по этому вопросу из авторитетной статьи С. Булгакова «Религия человекобожества у Л. Фейербаха». «Маркс и Энгельс, пишет названный автор, в религиозно-философском отношении являются учениками Фейербаха и притом неоригинальными учениками, с своей стороны только иссушившими доктрину учителя. Для знакомых с генезисом марксизма известно, какое огромное влияние имели здесь идеи Фейербаха. Впрочем, об этом рассказывает сам Энгельс в своей брошюре Л. Фейербах и исход классической философии. Здесь мы читаем следующее: «... тогда появилось Wesen des Christenthums Фейербаха. Одним ударом она уничтожила противоречие, возведя без обиняков
71
снова на трон материализм. Нужно было пережить на себе освободительное влияние этой книги, чтобы составить себе о нем представление. Воодушевление было общее: мы все моментально стали фейербахианцами». Ранние сочинения Маркса отражают это увлечение Фейербахом. Позднее Маркс и Энгельс отступили от ортодоксального фейербахианства, но Энгельс несомненно страшно преувеличивает степень этого разногласия. Материалистическое понимание истории и учение о классовой борьбе явились только восполнением и конкретизированием общей формулы Фейербаха, но ни в какой степени не затронули ее сущность. В отношении общефилософских идей Маркс не делал ни малейшего шага вперед против Фейербаха, и учение последнего было той почвой, на которой вырос марксизм, и по сие время остается его действительным общефилософским фундаментом. Атеистический гуманизм Фейербаха составляет душу марксистского социализма и существенен для него в гораздо большей степени, нежели политико-экономическая доктрина самого Маркса, которая может быть совместима с принципиально противоположным общим миросозерцанием. Имея в виду эту сторону, философскую генерацию идей, мы смело можем выставить парадоксальное на первый взгляд положение, что Фейербах в гораздо большей степени является духовным отцом марксизма, нежели сам Маркс, который дал только плоть для идей Фейербаха, и, если углубить теперешний социал-демократизм до его общефилософских оснований, то в фундаменте его окажутся идеи Фейербаха. Во всяком случае, если хотят подвергнуть критике существо марксизма, то нужно считаться не с социалистическими идеями и даже не с «экономическим материализмом», представляющим лишь уродливую надстройку над зданием Фейербаха, но с религиозно-философским учением этого последнего. Здесь религиозно метафизический центр марксизма или вообще материалистического, атеистического социализма, — в целях религиозно-философской критики следует понять марксизм именно как фейербахианство.
Но Фейербах живет не только в марксизме, ибо фейербахианство гораздо шире марксизма, последний есть только частный случай первого и подобных частных случаев
72
может быть несколько; несомненно, марксизмом не ограничивается сфера непосредственного или косвенного влияния Фейербаха. Оно сказывается во всем новейшем антирелигиозно-гуманитарном движении, во всем атеистическом гуманизме, атеистической религии человечества, которая новое время характеризует. Здесь его влияние сталкивается и сливается с однозначащим влиянием Конта, тоже проповедника религии человечества. Столь разные умы на разных языках в одно время сказали одно и то же: поставили и затем посильно разрешили вопрос о религии без личного Бога, но с богом-человечеством, дали философское выражение стремлению новейшего человечества «устроиться без Бога», притом вполне и окончательно. Конта у нас больше знали и читали. Но как мыслитель, Фейербах гораздо глубже, значительней и интересней Конта. Полное и возможно законченное выражение идее человекобожества, религии человечества дал именно Фейербах.
Довольно ясно, почему марксизм есть только частный случай фейербахианства или контизма, что в существе дела представляет одно и то же. Атеистический гуманизм или религия человечества находит в новой истории много форм выражения и помимо марксизма. Он есть универсальное, обобщающее явление в духовной жизни нового времени, поскольку она определилась вне христианства или даже в сознательной противоположности ему. Религия человечества есть значительнейшее религиозное создание нового времени. Этот продукт его религиозного творчества, столь противоречивый и сложный, требует внимательного, добросовестного и беспристрастного к себе отношения и внимательного испытания»...
Приступая к изложению религиозной философии Фейербаха, мы вынуждены ограничиться его главным сочинением «Сущность христианства», лишь изредка обращаясь к другим его сочинениям, так как взгляды Фейербаха во многом колебались и даже часто он противоречил сам себе, так что изложение всех его сочинений по религиозной философии заставило бы нас столкнуться со многими проблемами.
Первичные основы религии Фейербах находит в са-
73
мом характере человеческого сознания, именно в его бесконечности, ибо таково сознание человеческое в отличие от сознания животных. Сознание в строгом или собственном смысле и сознание бесконечного—тождественны; ограниченное сознание не есть сознание; сознание по самой своей сущности отличается всеобъемлющей, бесконечной природой. Сознание бесконечного есть не что иное, как сознание бесконечности сознания; или—в сознании бесконечного для сознания служит предметом бесконечность его собственной сущности. Что же сознается человеком как его собственная сущность, как истинная человечность? Разум, воля и сердце. Человек существует для того, чтобы познавать, любить и хотеть. Разум, воля и сердце, или любовь, не суть силы, которыми человек владеет, но это силы, одушевляющие человека, определяющие его, господствующие над ним,—божественные абсолютные силы, которым он не может противостоять. В них открывается его собственная сущность,—и абсолютное существо, Бог человека, есть его собственная сущность. Если ты мыслишь бесконечное, то ты мыслишь и утверждаешь бесконечность способности мышления; если ты чувствуешь бесконечное, то чувствуешь и утверждаешь бесконечность способности чувства. Объект разума есть объектированный разум, объект чувства—объектированное чувство. Поэтому все то, что по смыслу трансцендентального умозрения и религии имеет значение производного, субъективного или человеческого, средства, органа,—по смыслу истины имеет значение первоначального, божественного, сущности, предмета. Например, если чувство есть существенный орган религии, то существо божие выражает собою не что иное, как сущность чувства. Истинный, но сокровенный смысл слов: «чувство есть орган божественного»—таков; чувство есть самое благородное, прекрасное, т. е. божественное в человеке. Как мог бы ты воспринимать чувством божественное, если бы чувство не было божественно по природе? Божественное воспринимается только божественным, «бог только чрез себя самого познается». Божественное существо, ощущаемое чувством, на самом деле есть не что иное, как сама собою восхищенная и очарованная сущность чувства, восторженное, в себе самом блаженствующее чувство.
74
В отношении к предметам чувственным, сознание предмета резко отличается от самосознания, но в отношении к предмету религиозному сознание непосредственно совпадает с самосознанием. Чувственный предмет находится вне человека, религиозный—в нем самом; он есть предмет внутренний, никогда подобно самосознанию и совести не покидающий его, —предмет интимный, даже интимнейший и ближайший. «Бог ближе нам и роднее, и потому легче познаваем, чем вещи чувственные, телесные»,— говорит Августин. Предмет чувственный безразличен сам по себе, независим от нашего образа мыслей, от нашей способности суждения, но предмет религии есть наш избранный предмет, существо лучшее, первейшее, высшее: он существенно предполагает акт критического суждения, различения между божественным и небожественным, достойным и недостойным поклонения. Здесь поэтому без всяких ограничений действует следующее положение: объект человека есть не что иное, как его же объективированная сущность. Каковы мысли и намерения человека, таков и Бог его; какова ценность человека, такова же, и не выше, ценность его Бога. Сознание Бога есть самосознание человека, познание бога—самопознание человека. Человека ты узнаешь по его Богу, и наоборот—по человеку познаешь и бога его, ибо они—едино суть. Что есть для человека бог, то—его дух, душа, а что есть дух человека, его душа, сердце, то есть его Бог. Бог есть открытая внутренность, проявленная самость человека (Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen); религия есть торжественное обнаружение сокрытых сокровищ человека, признание его в интимнейших помыслах, открытое исповедание его таинств любви. Религия, по крайней мере, христианская, есть отношение человека к самому себе, или, правильнее, к своей сущности, но только как к иной сущности. Божественное существо есть не что иное, как существо человеческое или, лучше, сущность человека, освобожденная от границ индивидуального, т. е. действительного, телесного человека.—объектированная, т. е. созерцаемая и почитаемая, как иная, отличная от него сущность, все определения божественной сущности суть, поэтому, определения сущности человеческой. Познать бога и не быть
75
самому богом, познать блаженство и самому не наслаждаться им, это—разлад, несчастье. Ты веришь в любовь, как свойство божественное, потому что сам ты—существо любящее; ты веришь, что бог есть существо премудрое, благое, потому что ты не знаешь в себе ничего лучшего, чем рассудок и благость; ты веришь, что бог существует, что он есть субъект или существо, потому что сам ты существуешь, сам ты—существо. Тебе не ведомо иное, более высокое человеческое благо, кроме способности любить, быть добрым и мудрым, и ты полагаешь наивысшее счастье свое в том, чтобы существовать вообще, быть существом, ибо сознание всякого блага и счастья связано у тебя с сознанием бытия существом, существования. Бог для тебя существует, есть существо на таком же основании, на каком он есть для тебя существо премудрое, блаженное, благое... Человек, и особенно человек религиозный, сам для себя есть мера всех вещей, всякой действительности. Все то, что импонирует, что производит особенное впечатление на его душу, он неизменно объектирует как особенное самостоятельное божественное существо. Религия обнимает собою все предметы мира, все сущее бывало предметом религиозного почитания; в сущности и сознании религии заключается то же, что вообще содержится в существе и сознании человека о себе самом и мире. Религия не обладает собственным, особым содержанием.
Но приходится отметить одно существенно-важное явление: чем бог человечнее по своей сущности, тем больше он, по-видимому, отличается от человека, т. е. тем более религиозною рефлексией, теологией, отрицается тождество, единство божественной и человеческой сущности и умаляется человеческое, поскольку оно, как таковое, является объектом сознания для человека. Причина этого явления заключается в следующем: так как положительное, существенное в созерцании или определении божественной сущности есть лишь человеческое, поэтому и взгляд человека, как предмета сознания, должен быть отрицательным, человеконенавистническим. Чтобы обогатить Бога, человеку приходится беднеть; чтобы Бог был всем, человек должен стать ничем. И вместе с тем человек стано-
76
вится в зависимость от своего собственного объекта, т. е. объектом объекта... Тайна религии в том и состоит, что человек объектирует свое существо, затем снова обращает себя в объект этой—в субъект, личность превращенной, объектированной сущности...
Итак, Фейербах сущность религии усматривает в сущности человека, он всю теологию сводит к антропологии, все богословие он объясняет из законов человеческой сущности. И это не только вообще, но и в частности, и преимущественно, он так объясняет религию христианскую, все ее основные догматы. На вопрос, что означает тот или другой пункт христианского учения, для него очень легко ответить: всякую религиозно-христианскую истину нужно перевернуть, и мы получим ее подлинное значение, настоящую истину. Бог Отец—это разум человеческий, Сын — сердце человеческое, любовь. Тайна боговоплощения, подвергнутая антропологической критике, сводится к естественным, человеку прирожденным элементам, к его внутреннему началу и средоточию, к любви. Бог страдает за человека, это значит, что страдание за других божественно. Тайну троичности мы поймем, если то, что богословие называет оттиском, образом, подобием троичности (т. е. ум, волю и любовь), мы станем принимать за самую сущность, за оригинал, за первообраз. С другой стороны, тайна троичности есть истина жизни общественной (я и ты), как подлинной человеческой жизни. Космогонический процесс есть не что иное, как мистический перифраз психологического процесса, объектирование единства сознания с самосознанием. Суть творения есть не что иное, как самоутверждение человеческого существа в отличие от природы. И т. п.
Прервем на время изложение религиозной философии Фейербаха и сделаем некоторые критические замечания. Мы должны сознаться, что исходный пункт изложенных воззрений Фейербаха вполне выдерживает евангельскую точку зрения на религию, так что мы можем наблюдать здесь самое первое отступление неверующей философии от христианской религии, πρωτον ψευδος позитивизма. Когда Фейербах называет христианскую религию абсолютной, совершенной религией, когда он говорит, что в христианской
77
религии отброшена национальная ограниченность, что иудейство есть мирское христианство, а христианство—духовное иудейство, что как евреи объектировали в Иегове свою национальную сущность, так христианин объектирует в Боге свою субъективно-человеческую, освобожденную от национализма сущность; когда он полагает отличие христианства от язычества в том, что язычники религиозно смотрели на целую природу и на целое общество, считая человека лишь частью природы, с одной стороны, и общества, с другой, тогда как в христианстве человек сосредоточился в себе самом, отрешился от природы и смотрит на себя, как на существо абсолютное, что в христианстве — беспредельная субъективность, что Христос—всемогущество субъективности,—во всем этом нужно видеть почти евангельскую правду. Первый уклон Фейербаха от евангелия, по-видимому, очень незначителен, почти незаметен, и однако все его дальнейшее отпадение от религии здесь имеет свою причину. В евангелии абсолютность религиозного опыта имеет жизненное и именно религиозное значение, тогда как философия сводит христианскую правду к игре отвлеченной мысли. Исходный пункт евангелия—абсолютность открывшейся во Христе и сообщенной верующим любви. Как абсолютная, религиозная любовь является в евангелии с характером неземным и нечеловеческим, и ей придается гносеологическое значение, т. е. в религиозной (абсолютной) любви признается откровение Божие, что и выражается в тезисе: Бог есть любовь. Это однако не значит, что евангельский Бог есть не что иное, как человеческая любовь, это не означает обоготворения человеческой любви, ибо самая точка зрения евангельская—жизненная и религиозная. Человеческая природа не есть плод человеческого сознания, а в природе возможны явления, которые превышают ее пределы, и потому оказываются чужими для человека, потусторонними, небесными: такова религиозно-евангельская точка зрения. Совершенно иная—философская точка зрения Фейербаха, ученика Гегеля. На факты человеческого сознания и на факты религиозной жизни он смотрит диалектически, или рационалистически. Для него мысль выше всего и творец всего. Сознание порождает свои предметы, из него объясняется вся природа.
78
Это специфически нерелигиозная, отвлеченная точка зрения. Слова в приведенных рассуждениях Фейербаха взяты из религиозного, евангельского языка, но они получают у него иной смысл, вследствие иной точки зрения. Доказать это не стоит никакого труда. Играя словами и понятиями, Фейербах утверждает, что христианство есть только субъективность, и потому в христианстве совершенно нет места для признания природной и исторической необходимости, закономерности. Но вопреки этому априорному утверждению Фейербаха мы находим в евангелии самое решительное признание природной и исторической закономерности, так что евангелие ставит нас на краю дуализма, который, однако оно преодолевает. Нужно заметить при этом, что такое открытое выражение природно-историческая необходимость получает в евангелии впервые. И об этот факт головная теория Фейербаха разбивается бесповоротно.
Из своей антропологической теории религии Фейербах делает атеистические выводы. Он пишет: Сокровенная сущность религии открывается пред взором мыслителя, для которого религия составляет предмет мысли, каковым сама для себя она быть не может. Но как только человек (мыслитель) сознал, что религиозные предикаты суть антропоморфизмы или человеческие представления, то его верой овладевает уже сомнение, неверие.—Религия есть отношение человека к своей собственной сущности, в этом состоит ее истина и моральная спасительная сила. Но религия заставляет человека видеть в своей сущности другое, от него отличное и ему противоположное существо, и в этом заключается ложь и ограниченность религии, ее нелепость и безнравственность, в этом заключается и зловредный источник религиозного фанатизма.—Сокровенная сущность религии есть тождество существа божия и человеческого, а форма религии или очевидная сознательная ее сущность есть различие. Бог есть человеческая сущность, но познается как другое существо. Любовь обнаруживает сокровенную сущность религии, а вера составляет ее сознательную форму. Вера ставит религию в противоречие с нравственностью и разумом, производит разлад внутри человека...
Антропологическое истолкование христианской религии ве-
79
дет к атеизму,—и неверие Фейербах считает неизбежным выводом из своей теория. Но он ошибается, думая, что имеет здесь дело с выводом,—это не вывод, это заранее усвоенная точка зрения. Он приступает к религиозным фактам не религиозно, а диалектически, как неверующий.—и понятно, что ничего в религии, кроме предмета мысли, он и не мог увидать. Религиозность, на одной стороне, и диалектика,—на другой, вот что отличает евангелие от Фейербаха в их, по-видимому, общем исходном пункте.
Придя на этом пути к неверию, Фейербах надеется воздвигнуть религию в другом пункте,—религию человечества.
Понятие бога,—пишет Фейербах,—совпадает с понятием человечества. Все божественные определения, все определения, обращающие Бога в божество, суть определения родовые, ограниченные в частном, индивидуальном существе, но безграничные и абсолютные в существе и бытии рода, поскольку род объемлет собою все человечество. Мое знание, моя воля ограничены, но моя предельность не есть предельность для человека, не говоря уже о человечестве; что трудно для меня, то легко для другого: что невозможно и непостижимо для одной эпохи, то для другой возможно и понятно. Моя жизнь ограничена во времени, а жизнь человечества не ограничена. История человечества состоит в прогрессивном преодолении таких граней, которые в данное, определенное время считались гранями человечества и, следовательно, абсолютными, неодолимыми. Но грядущее неизменно обнаруживает, что мнимые грани рода на самом деле были лишь гранями индивида. История наук, особенно же философии и естествоведения. подтверждает это самым наглядным образом.—Род неограничен, и ограничен только индивид. Но ощущение предельности мучительно; от этой муки индивид освобождается лишь созерцанием совершенного существа, которое дарует ему то, чего ему недостает. Бог христианский есть не что иное, как идея непосредственного единства рода и индивидуальности, всеобщего и частного существа. Бог есть понятие рода, как индивида, понятие или сущность рода, которая, как всеобщая сущность, как со-
80
вокупность всех совершенств, всех свойств, свободных от мнимой или действительной предельности индивида, есть вместе с тем существо отдельное, индивидуальное. Ipse suum esse est. «в боге существо и бытие тождественны»—это значит, что Бог есть родовое понятие, родовая сущность, признаваемая вместе с тем за бытие, за отдельное существо. С точки зрения религии или богословия, высшая идея такова: Бог не есть существо любящее, он—сама любовь; он не существо живущее, он— сама жизнь; он не есть существо справедливое, он—сама справедливость; он не есть лицо, он—личность, род, идея непосредственно как действительное. Вследствие такого непосредственного единства рода и индивидуальности, такой концентрации всяких универсальностей и сущностей в едином личном существе, Бог и является задушевным и восхищающим фантазию, между тем как отвлеченная идея человечества есть идея бездушная, потому что человечество есть для нас абстрактное понятие, а действительное рисуется нам в образе бесчисленного множества отдельных ограниченных индивидов. Напротив, представление Бога удовлетворяет душу непосредственно, потому что в Нем все собрано воедино, все существует сразу, т. е. род оказывается непосредственным бытием и индивидом. Самое точное выражение, самый характерный символ такого непосредственного единства рода и индивидуальности в христианстве есть Христос, действительный Бог христиан. Христос есть прообраз, сущее понятие человечества, совокупность всех моральных и божественных совершенств, исключающая все отрицательное и несовершенное,—чистый небесный безгрешный человек, человек рода, Адам Кадмон, созерцаемый, однако, не как совокупность рода, человечества, а непосредственно как единый индивид, единое лицо. Поэтому Христос есть не центральный пункт истории, а ее конец.
Общение с другими людьми,—продолжает Фейербах.— исправляет и возвышает человека; в обществе он невольно, без всякого притворства, является иным, чем в одиночестве. Любовь же творит чудеса, особенно любовь половая. Муж и жена взаимно дополняют и исправляют друг друга и в единении представляют собою
81
род, совершенного человека. Любовь не мыслима вне рода; она есть не что иное, как самоощущение рода на почве полового различия. В любви истина рода, который сам в себе есть предмет мысли, разума, становится предметом чувства, истиной чувства, ибо в любви человек выражает недовольство своей индивидуальностью, постулирует бытие другого человека как сердечную потребность,—сопричисляет другого человека к собственному существу,—заявляет, что жизнь истинно-человеческая, соответствующая идее человека, т. е. рода, есть жизнь, соединенная посредством любви с жизнью другого человека. Недостаточна, несовершенна, слаба, бедна личность, индивид, но сильна, совершенна, вседовольна, самодовольна, бесконечна любовь, потому что в ней самоощущение индивида обращается в самоощущение совершенства рода. Любовь есть субъективное бытие рода, как разум есть его объективное бытие. Сам Христос есть только образ, под которым представлялась народному сознанию идея единства рода. Христос любил людей, он хотел всех их сблизить и осчастливить, без различия пола, возраста, состояния и национальности. Христос есть любовь человечества с самому себе, как образ, соответствующий развитой природе религии, или как лицо, притом лицо образное, идеальное. Поэтому лозунгом последователей Христа служит любовь, а любовь есть лишь реализация единства рода в помышлениях. Род не есть только идея, он сказывается в чувстве, помысле, в энергии любви, он же возбуждает и любовь во мне. Любящее сердце есть сердце родовое; следовательно, и Христос есть, как сознание любви, сознание рода. Мы все должны быть едины во Христе. Христос есть сознание нашего единства. Поэтому кто любит человека ради человека, кто возвышается до родовой любви, любви универсальной, соответствующей существу рода, тот христианин и даже сам Христос: он делает то самое, что делал Христос и что делает Христа Христом. Следовательно, там, где возникает сознание рода, как такового, там нет уже Христа, но остается его истинная сущность, ибо Христос был лишь наместник рода, образ сознания идеи рода.
Мы, говорит Фейербах в заключение,—относимся к
82
религии не только отрицательно, но и критически; мы отделяем истинное от ложного, хотя, конечно, от лжи отделенная истина является истиной новой, существенно отличной от старой истины. Религия есть первоначальное самосознание человека. Религии священны, ибо они суть предания первичного сознания. Но что для религии представляется первым, т. е. Бог, то, по свидетельству истины, является вторым, потому что Он есть лишь объектированная сущность человека, а что религия признает вторым, т. е. человек, то мы должны признать первым. Любовь к человеку не должна быть любовью производной, она должна быть любовью первоначальной. Только тогда любовь и обратится в истинную, святую и надежную силу. Если человеческая сила есть высшее существо человека, то и практическая любовь человека к человеку должна быть высшим и первейшим законом человека. Homo homini deus est—таково высшее практическое начало, таков и поворотный пункт всемирной истории. Отношение ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу, вообще человека к человеку, словом—все моральные отношения суть в существе дела отношения подлинно религиозные. Вообще жизнь в своих существенных отношениях божественна...
Чтобы справедливо оценить эту фейербаховскую (и родственную ей—контовскую) религию человечества, мы прежде всего должны признать и выделить заключающуюся в ней правду. Это—во-первых, правда естественной зависимости человеческой личности от общества и истории. На эту тему можно было бы исписать целые тома. Но и сделано уже по этому вопросу очень много и, во всяком случае, для наших целей вполне достаточно. Мы ограничимся простым указанием, напр., на В. С. Соловьева, особенно т. VII, стр. 211 след.
Во-вторых, мы должны ясно держать в уме идею религиозно-церковного общества. Вот как эта идея раскрывается у того же В. С. Соловьева (т. II, стр. 154): «Стремление человека к безусловному, т. е. стремление быть всем в единстве или быть всеединым—есть несомненный факт. В этом стремлении человек является как существо потенциально или субъективно безусловное. Действительно же и объективно-безусловное есть то, которое не
83
стремится только быть всем или всеединым, а действительно заключает все (всех) в своем единстве, или actu есть всеединое. Такая действительная безусловность и есть настоящая цель человека. Но так как действительно, в данном своем состоянии, как конечное существо, человек не есть всеединое, а только бесконечно малая единица, имеющая все другое вне себя, то поэтому стать всем он может только в положительном взаимодействии со всеми другими, отказавшись от своей отдельности, воспринимая и усваивая себе жизненное содержание всех других,—относясь к ним не как к границе своей свободы, а как к ее содержанию и объекту. В таком положительном отношении каждое существо не ограничивается всеми другими (как в правовом порядке), а восполняется ими. Такое единение существ, определяемое безусловным или божественным началом в человеке, основанное психологически на чувстве любви и осуществляющее собою положительную часть общей нравственной формулы,—образует общество мистическое или религиозное, т. е. церковь».
Применим теперь обе эти идеи к религии человечества. Совпадает ли церковь, как мистическое или религиозное общество, с родовым началом, с натуральным человечеством, о котором говорит Фейербах? Нет, не совпадает. Нет здесь уже количественного совпадения, а затем—у Фейербаха натуральное единство, у Соловьева же «единение существа, определенное безусловным или божественным началом в человеке». Далее. Естественная зависимость человеческой личности от общества и истории, признаваемая в самых широчайших размерах, создает ли религию человечества в христианском смысле? Признать жизнь божественною в ее существенных отношениях, смотреть религиозно на отношения ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу— значит ли ео ipso стоять на христианской точке зрения? Нет. В самом деле. Припомним данное у Фейербаха истолкование христианства. Он начинает с формальной абсолютности человеческого духа, т. е. с бесконечного индивидуального сознания, и переходит затем к религиозно-христианской абсолютности индивида, к тому, что он
84
называет беспредельной субъективностью,—«в христианстве человек сосредоточился в самом себе, отрешился от мирового целого, обратился в самодовлеющее целое, в существо абсолютное». Мы спрашиваем теперь: эта формальная и религиозно-христианская абсолютность человека свойственна ли натуральному человечеству? Что человеческая личность бесконечна, это есть аксиома нравственной философии, говоря словами В. С. Соловьева. Что, однако реализоваться эта бесконечность может лишь в отношении человека к натуральному обществу и в создании мистического общества, это также можно признать за несомненное. Но вопрос, вызываемый идеей религии человечества, в следующем: присуща ли натуральному обществу черта абсолютности,—ибо только это дает право говорить о религии человечества? И Фейербах, заговорив о религии человечества, со всем усилием доказывает именно это, оправдывает положительный ответ на этот вопрос. Мы же можем ответить на него лишь отрицательно и объявить усилия Фейербаха тщетными. При всем своем значении для личности реальное человечество и реальное общество условно, а не беспредельно. И чтобы не запутывать этого вопроса каким-либо гипотетическим мистицизмом, нужно решительно поставить на вид, что Фейербах имеет в виду самые реальные формы человеческого общества.
(Продолжение следует).

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.
(Продолжение).
Фейербах говорит о самых реальных отношениях, называя их религиозными. Таинство крещения он сводит к тому, что омовение водою само по себе имеет священное значение; равным образом—еда и питье сами по себе суть религиозный акт. «Да будут священны нам вино, хлеб и вода». Б своем ответе Штирнеру (Werke, И-й том изд. 1846 г. стр. 342—359 Ueber das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den «Einzigen und sein Eigenthum»,—на русский переведено в издании «Макс Штирнер. Единственный и его собственность (Библиотека Светоча). Часть вторая, стр. 252—265) Фейербах тему «Сущности христианства» указывает единственно и исключительно в устранении раздвоения на существенное и несущественное «я»—в обожествлении, т. е. признании всего человека с головы до ног, при чем лишь чувственность есть настоящий смысл индивидуальности. Уничтожить религию значит доказать тождественность ее освященного предмета или индивида с другими, простыми индивидами того же рода. Эта «простота» и «чувственность» неизбежно предполагают реальные отношения семьи и общества. Мужчина существенно и необходимо имеет отношение к другому «я», к другой сущности—к женщине. Признание индивида необходимо влечет за собою признание, по крайней мере, двух индивидов. Но «два» не имеют ни смысла, ни конца; за двумя следует три, за женщиной ребенок, при чем любовь безудержно влечет дальше, за пределы одного ребенка. Таким путем Фейербах «не останавливается на этом.
234
235
одном, единственном и несравненном индивиде, а распространяет свои мысли и желания на весь род, т. е. на всех других индивидов. У него род означает не абстракцию, а в противоположность единичному, самому себя утверждающему «я»,—другое «я», «ты», вообще всех, помимо «меня» существующих индивидов. Поэтому, если у Фейербаха говорится: индивид ограничен, род же безграничен, то это означает лишь следующее: рамки этого индивидуума не являются рамками для других, и то, что не в силах сделать современный человек, не значит еще, что этого не сумеет сделать будущий человек.—Понятие о роде в этом смысле—продолжает Фейербах— необходимо, неотъемлемо для каждого единичного индивида, а каждая личность—отдельная, единичная. «Мы слишком совершенны», — истинно и красиво говорит Единственный; но все-же мы чувствуем себя ограниченными и несовершенными, ибо мы необходимо сравниваем себя не только с другими существами, но также и с самими собой,—мы делаем это, проводя параллель между тем, чем мы стали, и тем, чем мы могли бы быть. Но мы чувствуем себя ограниченными, не только нравственно, но и чувственно, пространственно и временно; мы, эти, данные индивиды, существуем лишь в этом, определенном месте, в этом, ограниченном времени. Так как же нам освободиться от этого чувства ограниченности, если не при помощи мысли о неограниченности рода, т. е. мысли о других людях, в других обстоятельствах и в другой, более счастливой, эпохе? Поэтому тот, кто не ставит на место божества род, тот оставляет в личности пустое место, которое необходимо должно будет заполниться вновь представлением о Боге, т. е. представлением об олицетворенной сущности рода. Только род в состоянии одновременно схоронить и заменить божество, религию. Не иметь религии, это значит: думать только о самом себе; иметь ее, значит: думать о других. И только такая религия долговечна, по крайней мере, до тех пор, пока на земле не останется лишь один «единственный» человек; ибо пусть только нас будет двое, мужчина и женщина,—и мы имеем уже религию. Двое: различие—вот в чем источник происхождения религии; «ты»—Бог для «я», ибо «я» без
236
«ты»—ничто; «я» зависит от «ты»; без «ты»—нет и «я». Мужчина—Провидение женщины, женщина—Провидение мужчины, совершающий благодеяние—Провидение страждущего, врач—Провидение больного, отец — Провидение ребенка. Подающий помощь должен представлять собою нечто большее и иметь больше, чем нуждающийся в помощи. Если я— калека, то руки и ноги другого заменяют мне органы движения; если я слеп, то его глаза служат мне путеводителем. Значит, Бог человека есть человек.»
Если, таким образом, Фейербах разумеет самые реальные вещи, самые реальные общественные отношения, то как же он может говорить о неограниченности и бесконечности, которые будто даруются человеку идеей рода и общественностью? Как он может выставлять тезис: Einsamkeit ist Endlichkeit und Beschränktheit, Gemeinschaftlichkeit ist Freiheit und Unendlichkeit (Werke, II, 1846,—стр. 344?) Какая же бесконечность в реальной общественности? Ведь практически, конечно, каждая данная ограниченность индивидуума беспредельно преодолевается силою общества, но отсюда слишком далеко до религиозной абсолютности. Что здесь за абсолютность, если калека помогает слепцу, а слепец калеке? Это просто суммирование, которому мы не видим предела, но здесь нет абсолютности ни в индивидуумах, ни в сумме. Скорее—всякое общество по существу условно,—и если политика у Фейербаха делается религией, то для этого прежде религия делается политикой, причем несомненно лишь последнее. Фейербах думает, что он похищает у христианства самое существо, что ему «пришлось поймать христианство на слове, т.е. сделать слово— делом, иллюзию—существом», что ему удалось «перейти из царства Божия в царство человека, ибо любовь есть практический атеизм». И С. Булгаков утверждает, что «истиной величайшей важности, положенной в основание гуманизма или антропотеизма Фейербаха, является мысль, что человечество едино, и что род, целое, существует первее индивида и представляет собою реальное существо. Род есть божество, которым святится каждый член его, каждый индивид: Фейербах удивительно близко подходит здесь к сущности христианства и величайших истин его». Но сам С. Н. Булгаков, вслед за Фейербахом, удиви-
237
тельно далеко отходит от сущности христианства. Что эмпирически род существует первее индивида, об этом излишне говорить; но религиозно, христиански-религиозно— индивид существует первее рода. Единственным носителем религиозно-христианской абсолютности является не род, не общество, а индивидуум, личность. И на это Фейербах volens-nolens наталкивался. «Христос есть всемогущество субъективности... В христианстве человек сосредоточился в самом себе... Христианство игнорировало род и считалось только с индивидом. Христианство есть прямая противоположность язычеству... Язычникам представлялся божественным род, а христианам индивид... С водворением христианства исчезла идея рода и, вместе с нею, значение родовой жизни» и т. д. Здесь Фейербах ближе к христианству, чем в своих рассуждениях о беспредельности рода. Что в этих рассуждениях Фейербах стоит не на христианской точке зрения, это видно из его этических воззрений, которые составляют ядро в его религии человечества.
Основа Фейербаховой этики—эвдемонизм. Если, говорит Фейербах, всякая этика имеет своим предметом человеческую, волю и ее отношение, то к этому надо тут же прибавить, что не может быть воли там, где нет побуждения, и где нет побуждения к счастью, там нет вообще никакого побуждения. Побуждение к счастью—это побуждение всех побуждений; повсюду, где бытие связано с волей, желание и желание быть счастливым нераздельно, в существе даже тождественно. Я желаю—значит: я не желаю страдать, я не хочу терпеть ущерба, быть уничтоженным, а хочу сохраниться и преуспевать. Нравственность без блаженства—это слово без смысла, настойчиво утверждает Фейербах. Но каким же образом совершается превращение эгоистического стремления к счастью в видимую его противоположность—в самоограничение и в деятельность на пользу других? Несомненно, говорит Фейербах, принцип нравственности—это блаженство, но не блаженство, сосредоточенное в одном и том же лице, а распространяющееся на разных лиц, обнимающее «меня» и «тебя», т. е. блаженство не одностороннее, а двустороннее или многостороннее. Фейербах указывает на то, что раз-
238
личие между «мной» и «тобой», на котором покоится наше самосознание и вся вообще нравственность, в последнем своем основании есть противоположность между мужчиной и женщиной; таким образом половое и семейное отношение является основным нравственным отношением. Взаимная зависимость стремлений к счастью имеет свое основание в глубине человеческой природы: в половой противоположности проявляется стремление к счастью, которое невозможно удовлетворить иначе, как удовлетворив вместе и стремление к счастью другого индивидуума. Вследствие этого дуалистического стремления к счастью бытие эгоистического человека с самого начала связано с бытием других людей, хотя бы только родителей, братьев, сестер, его семьи; совершенно независимо от его доброй воли он уже с самого рождения должен делить блага жизни со своими ближними, с элементами жизни он необходимо всасывает и элементы нравственности, как то: чувства взаимной связи, уживчивость, ограничение неограниченного единовластия собственного стремления к счастью. Нравственность ни в коем случае невозможно вывести из одного «я» или из чистого разума только самого себя мыслящего существа, — помимо другой личности, стоящей вне меня, существующей вне моей воли и разума, не воображаемой только, а данной чувствами. Всякая этика в одно и то же время и автономия и гетерономия: «я хочу»— говорит мое собственное побуждение к счастью, «ты должен»—чужое побуждение к счастью. Всякая этика требует бескорыстия, но за этим бескорыстием, которое требуется от меня, скрывается несомненный эгоизм другого: ибо все нравственные предписания, которые противоречат моему эгоизму и не могут быть им объяснены, находятся в полном согласии с эгоизмом других. (См. в Истории этики Фр. Иодля).
Такова этика Фейербаха, — этика всецело эмпирическая, эвдемонистическая. Ту же несмываемую черту имеет и его религия человечества, которая не имеет ничего общего с христианством. Исходя из условных реальных отношений, Фейербах не имеет права говорить о бесконечности рода,—его эмпирическое общество не поднимает индивидуума на высоту абсолютности, и его религия не заменяет
239
христианства. На все реальные отношения—брак, семью, политику, государство—можно смотреть религиозно, но это не будет христианская религия, и это не заменит христианства.
Фейербах думает, что он «поймал христианство на слове», т. е. что он перенес из христианства в свою религию рода самое существенное,—на самом же деле он вынул из христианства его душу и удержал бездушную оболочку его. Его любовь, о которой он так много говорит, не есть христианско-религиозная любовь. Однако и этот слабый остаток христианской религии стер краски с его «религии человечества», с его «реальных отношений». Фейербах хотел смешать христианство с реальными формами жизни,—и это привело его к неизбежным дефектам с двух сторон. С одной стороны, он урезал христианство, вынул из него душу живую,—с другой же стороны, он не дошел и до реальной жизни. Он настойчиво твердит о реальной жизни, о целом человеке «с головы до ног», и однако его «человек» оказывается абстракцией,—подлинно реальная жизнь ускользает из его рук подобно неуловимой тени. Это составляет самую слабую сторону Фейербаха, и в этом пункте его самого «ловят на слове» его неумолимые критики Штирнер, Маркс, Энгельс...
Штирнер с неумолимой логикой доказывает, что Фейербах остановился на полудороге,—что он отверг христианство настолько, чтобы не быть христианином, но удержал из него настолько, чтобы не дойти и до подлинно-реального миросозерцания. То освобождение,—пишет Штирнер,—которое пытается открыть нам Фейербах, чисто теологическое, богословское. Он говорит, это мы ошиблись в своей собственной сущности и потому искали ее в потустороннем. Теперь же, когда мы убедились, что Бог—только наша человеческая сущность, мы бы должны были признать его снова своим и вернуть из потустороннего в наше здешнее бытие. Бога, который есть дух, Фейербах называет «нашей сущностью». Как же мы можем допустить, чтобы «наша сущность» нам противопоставлялась, чтобы мы расчленились на существенное и несущественное «я»? Ведьмы этим возвращаемся в прежнее грустное состояние: нас
240
выгнали из самих себя. Но что мы выиграем, если для разнообразия переселим божественное, стоящее вне нас, во внутрь себя? разве мы—то, что в нас? Нет—так же, как мы—не то, что вне нас. Я—не мое сердце, так же как я—не моя возлюбленная, которую считаю моим «вторым я». Именно потому, что мы не дух, который живет в вас, именно потому мы должны были поместить его вне нас: он не был нами, не сливался с нами воедино, и поэтому мы не можем представить себе его существующим иначе, как именно вне нас, по ту сторону нас, потусторонним. Вооружаясь силой отчаяния, Фейербах нападает на христианство во всем его объеме, не для того, чтобы отбросить его, о нет!—а для того, чтобы притянуть его к себе, чтобы с конечным напряжением вовлечь его, давно желанного, вечно-далекого, с его неба и на-веки сохранить у себя. Разве это не борьба последнего отчаяния, борьба на жизнь и смерть, и в то же время разве это не христианская тоска и жажда потустороннего? Герой не хочет войти в потустороннее, а хочет притянуть его к себе и заставить его сделаться посюсторонним! II с тех пор весь мир кричит—одни с большей, другие с меньшей сознательностью, — что главное — это то, что «здесь», что небо должно спуститься на землю, и царство небесное осуществиться уже здесь.—Противопоставим вкратце теологическую точку зрения Фейербаха и наше возражение на нее. «Сущность человека—высшая сущность; высшая же сущность, хотя и называется в религии Богом и рассматривается как вещественное существо, в действительности это только истинная сущность человека; поворотный пункт всемирной истории заключается, следовательно, в том, что отныне для человека должен представляться Богом не Бог, а человек». Мы отвечаем на это следующее. Высшее существо, конечно, сущность человека, но именно потому, что это его сущность, а не он сам, то совершенно безразлично, видим ли мы эту сущность вне человека и созерцаем ее как «Бога», или же находим в нем и называем «сущностью человека» или «человеком». Я—ни Бог, ни «человек», ни высшее существо, ни моя сущность, и поэтому, в сущности, все равно, считаю ли я, что сущность во мне или вне меня. И мы действительно всегда мыслим высшее суще-
241
ство в двух потусторонностях: во внутренней и во внешней вместе, ибо «дух Божий» по христианскому воззрению—также «наш дух» и «живет в нас". Он живет в небе и живет в нас. Мы, жалкие создания, только его «жилища», и если Фейербах разрушает еще и его небесное жилище и заставляет его со всем скарбом переселиться в нас, то мы, его земное жилище, будем уже слишком загромождены. Атеисты, продолжает с иронией Штирнер, насмехаются над высшим существом, которому также поклоняются под названием «высочайшего» или être suprême, и повергают в прах одно за другим «доказательства его бытия»; они не замечают при этом, что уничтожают старое только из стремления к еще более высокому существу, «только для того, чтобы освободить место для нового. Разве «человек»—не более высокое существо, чем единичный человек? Спор о том, что почитать высшим существом, имеет значение постольку, поскольку самые ожесточенные противники соглашаются в главном, в том, что есть высокое существо, которому должно поклоняться. И кого в таком случае признать высшим существом, это уже совершенно безразлично для того, кто отрицает самое понятие о высшем существе. — Прудон безбоязненно говорит: «Человеку определено жить без религии, но нравственный закон (la loi morale) вечен и абсолютен. Кто осмелился бы напасть на мораль?» Нравственники сняли сливки с религии, лакомились ими и теперь не знают, как освободиться от возникшего вследствие этого ожирения. (В абсолютной нравственности так же, как и в религии) дело идет о высшей сущности, а сверх-человеческая ли эта сущность или человеческая—для меня безразлично, ибо во всяком случае это — сущность, стоящая надо мною, превышающая меня. Отношение к человеческой сущности или «человеку», хотя оно и отбросило змеиную шкуру старой религии, оденет все-таки снова змеиную шкуру религии. Фейербах поучает нас, что «если перевернуть только спекулятивную философию, т. е. ставить всегда предикат на место субъекта, и таким образом сделать субъект—объектом и принципом, то мы получим обнаженную, чистую истину». При этом мы теряем, конечно, узко-религиозную точку зрения, теряем Бога, который с
242
этой точки зрения—субъект. Но мы меняем ее на другую сторону религиозного понимания—нравственную. Мы не говорим больше: «Бог—любовь», а говорим: «любовь — божественна». Если же мы поставим на место предиката «божественный» равнозначащее слово «священный», то все прежнее этим восстановляется. Любовь в этой постановке вопроса становится добром в человеке, его божественностью, тем, что делает ему честь, его настоящей человечностью (только она и «делает его человеком»). Точнее говоря, вот что из этого следует: любовь — человеческое в человеке, а бесчеловечное — это эгоист, не знающий любви. Но как раз все то, что христианство, а вместе с нею и спекулятивная философия, т. е. теология, называют добром, абсолютом, в обособленном уже не добро (или, что то же самое, оно только добро), и христианская сущность была бы еще более укреплена этим превращением предиката в субъект. Бог и божественное так тесно сплетаются, благодаря этому, со мной, что разделить нас совсем нельзя. Нельзя предъявлять претензии на полную победу, изгоняя Бога с его небес и похищая у него «трансцендентность», если он вгоняется при этом в человеческую грудь и одаряется неискоренимой имманентностью. Те же люди, которые протестуют против христианства, как основы государства, неустанно повторяют, однако, что нравственность— «основа общественной жизни и государства». Как будто господство нравственности—не полное господство «священного», не «иерархия». И т. д.
Так Штирнер разделывается с Фейербахом. Мы сделали из «Единственного» столь значительные выдержки, потому что считаем их достойными внимания. Это остроумнейшая критика, против которой Фейербах не мог ответить ни одного дельного слова. И эта критика такой клад для апологетики, которым она не может не воспользоваться. Вообще апологетика, к своему ущербу, доселе не привыкла пользоваться теми выгодами, которые ей дает в руки собственная история того или другого отрицательного мнения. Почему-то вошло в нравы апологетов возражать на первое слово своих противников, хотя бы это слово имело положительную ценность,—не давать им договорить до конца свою мысль. Сколько таким путем драгоценного
243
содержания растеряно богословием, сколько пошлостей приписано христианству ее неосмотрительными защитниками. Если Толстой враг церкви, то что бы он ни сказал, апологет все отвергает, приписывая христианству противоположные мысли,—все «толстовское» изгоняется из религии. И так по отношению к каждому «еретическому» движению. И поэтому каждая ересь наиболее вредна религии не своими заблуждениями, а -своим ценным содержанием, которое уже отнимается у христианства. Никто не хочет подумать, что любая ересь наряду с ложью содержит в себе частицы истины, которые не нужно уступать,—что не нужно mit dem Bade das Kind ausschütten. Еще лучше, когда апологет имеет дело с отрицательной системой,—не останавливаться на отдельных мыслях, но проследить эту систему до конца, проследить ее историю до последних пределов. История лучший судья. Она всегда покажет, что все ценное в крайних отрицательных направлениях принадлежит им не по праву, что незаконно претендуют на него. По отношению к Фейербаху это и доказывает Штирнер: фейербахианство это какая-то чудовищная непоследовательность, что-то промежуточное между небом и землей. Должно быть что-нибудь одно: или христианская религия, или отрицание Штирнера, который в основу «своего дела» положил решительное «ничто». Но что такое абсолютная нравственность, абсолютная любовь для человека, который не признает религии,—что это, как не полная нелепость?
Критика Маркса бьет Фейербаха в ту же слабую сторону: Фейербах не дошел до реалистического миросозерцания, хотя и претендует на это. Сущность религии — пишет Маркс—Фейербах объясняет сущностью человека. Но сущность человека—это вовсе не абстракт, свойственный отдельному лицу. В своей действительности это есть совокупность всех общественных отношений. Фейербах не доходит до критики этой действительной сущности. Поэтому он оказывается вынужденным:
1. Абстрагироваться от хода исторического развития, рассматривать религиозное чувство, как нечто, совершенно отдельное и ни с чем не связанное, и исходить из предположения об отвлеченном— изолированном — человеческом индивиде.
244
2. Поэтому человеческая сущность могла представляться- ему лишь, как «род», т. е. как внутренняя, немая общность, устанавливающая лишь естественную связь между многими индивидами.
Поэтому Фейербах не видит, что «религиозное чувство» само есть общественный продукт, и что анализируемый им абстрактный индивид в действительности принадлежит к определенной форме общества.—Общественная жизнь есть жизнь практическая по существу. Все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, находит рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики. Созерцательный материализм, т. е. материализм, который не смотрит на мир конкретных явлений, как на практическую деятельность, возвышается лишь до созерцания отдельного лица в «гражданском обществе»,— точка зрения старого материализма есть «гражданское» общество; новый материализм становится на точку зрения человеческого общества или человечества, живущего общественной жизнью. Философы лишь объясняли мир так или иначе; но дело заключается в том, чтобы изменить его...
В этих замечаниях Маркса имеет значение не только их критическая сила, но и отмета того пути, который ведет от фейербахианства к социализму. В этих же отношениях важен и критический отзыв Энгельса.
По словам Энгельса,—стараясь построить истинную религию на основе материалистического понимания природы, Фейербах уподобляется человеку, который решил бы, что новейшая химия есть истинная алхимия. Если возможна религия без Бога, то возможна и алхимия без философского камня.—Фейербах основательно изучил только одну религию: христианство, эту основанную на монотеизме всемирную религию Запада. Он показал, что христианский Бог есть человек, изображенный в зеркале фантазии. Но этот Бог, в свою очередь, является плодом длинного процесса отвлечения. Соответственно этому и человек, отражающийся в христианском Боге, представляет собою не действительного человека, но подобную же квинт - эссенцию множества действительных людей; это—отвлеченный человек, т. е. человек, существующий только в мысли. И тот же самый Фейербах, который на каждой странице принта-
245
шает нас погрузиться в чувственный, конкретный, действительный мир, становится до крайности отвлеченным, как только ему случится коснуться каких-нибудь других отношений между людьми, кроме отношений между полами.— Все отношения между людьми имеют в его глазах только одну сторону: нравственность. Й здесь нас опять поражает удивительная бедность Фейербаха. По форме он реалист: за точку отправления он берет человека. Но он ни единым словом не упоминает об окружающем человека мире, и потому его человек остается тем же отвлеченным человеком, который фигурирует в религии, этот человек не рожден женщиной, он, как из куколки, вылетает из Бога монотеистических религий. Поэтому он живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он сносится с своими ближними, его ближние так же отвлеченны, как и он. Поэтому на счет морали Фейербах сообщает нам нечто чрезвычайно тощее. Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому оно должно быть основанием морали. Но занимаясь самим собою, человек только в очень редких случаях и далеко не с пользой для себя и для других удовлетворяет свое стремление к счастью. Он должен иметь сношения с внешним миром, средства для удовлетворения названного стремления: пищу, любимого человека другого пола, книги, беседы, споры, деятельность, предметы потребления и обработки. Одно из двух: или фейербаховская мораль заранее предполагает, что все эти средства и предметы уже даны человеку, или она дает добрые, но неприложимые советы, и тогда она не стоит выеденного яйца для людей, лишенных вышеуказанных средств. Лучше ли обстоит дело с равным правом всех людей на счастье? Фейербах безусловно требует его, считает обязательным во все времена и при всяких обстоятельствах. Но с каких пор оно признано всеми? Заходила ли когда-нибудь в древности между рабами и их владельцами, или в средние века между крепостными крестьянами и их господами, речь о равном праве всех людей на счастье? Не было ли стремление угнетенных классов к счастью безжалостно и «на законном основании» приносимо в жертву такому же стремлению го-
246
сподствующих классов?.. Для стремления к счастью идеальные права являются крайне недостаточной пищей: оно питается более всего материальными средствами. Но любовь!— Да, любовь всегда и везде является у Фейербаха чудотворцем, долженствующим преодолеть все трудности практической жизни, и это в обществе, разделенном на классы с прямо противоположными интересами. С моралью Фейербаха случилось то же, что и со всеми ее предшественницами. Она выкроена для всех времен, для всех народов, для всех состояний и именно потому она неприложима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив Канта. В действительности каждый класс, каждый род занятий имеет свою собственную мораль, которую он притом же нарушает всякий раз, когда это можно сделать безнаказанно. А любовь, которая будто бы всех объединяет, проявляется в войнах, ссорах, тяжбах, домашних сварах, расторжениях браков и в возможно более сильной эксплуатации одних другими.—Но каким образом могло случиться, что для самого Фейербаха остался совершенно бесплодным тот могучий толчок, который он дал умственному движению? Очень просто. Фейербах не нашел дороги, ведшей из царства столь ненавистных ему отвлеченностей в живой, в действительный мир. Он крепко хватается за природу и за человека. Но и природа, и человек остаются у него пустыми словами. Он не может сказать что-либо определенное ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Чтобы перейти от фейербаховского отвлеченного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучить их в их исторических действиях. Фейербах упирался против этого, и потому непонятый им 1848 год привел его к полному разрыву с действительным миром, к совершенному отшельничеству. Но шаг, которого не сделал Фейербах, все-таки надо было сделать. Надо было изменить культ отвлеченного человека, это ядро новой религии Фейербаха, изучением действительного человека в его историческом развитии. Эта дальнейшая разработка фейербаховской точки зрения начата была в 1845 году К. Марксом...
247
Прежде чем расстаться с Фейербахом, необходимо сделать последнюю заметку, что он в вопросе о религии не остановился на точке зрения «Сущности христианства,»— он сделал еще шаг и довольно решительный шаг в направлении к натурализму в позднейших сочинениях «Wesen der Religion» и «Vorlesungen über das Wesen der Religion». В этом окончательном виде религиозные воззрения Фейербаха представляются следующими. Он ставит здесь в центре религии, подобно Шлейермахеру, понятие зависимости человека от вселенной или от природы, причем религиозное чувство зависимости у Фейербаха, в отличие от Шлейермахера, приобретает деятельное значение. Чувствовать себя зависимым, говорит он, значит не только находить себя в безграничном, забываться в тихих мечтаниях о бесконечной связи, восторженно внимать музыке сфер: это чувство служит выражением сурового могучего факта, глубоко врезывающегося в наше благополучие,—именно, противоположности между хотением и умением, желанием и достижением. Цель религии—уничтожение этой противоположности; существа, в которых она воистину уничтожена, в которых стало действительным то, что доступно для наших желаний и представлений, но не доступно для наших сил,—это и суть боги. Они, полагает Фейербах, дети желания—создания фантазии, но такие создания фантазии, которые находятся в самой тесной связи с чувством зависимости, с стремлением к счастью: божество—это удовлетворенное в фантазии стремление человека к счастью. Если бы у человека не было желаний, то у него, несмотря на фантазию и чувство, не было бы религии, не было бы богов. Такое понимание религии ставит ее в самую тесную связь с культурой. Религия—это детское существо в человеке: поэтому она берет свое начало и имеет истинное значение лишь в детском периоде человечества. Дитя не в состоянии удовлетворить свои желания путем самодеятельности,—оно обращается с мольбою к тем существам, от которых оно чувствует себя в зависимости. То же относится и к религии. Первоначально она имеет ту же цель, что и все позднейшее образование или культура. Та и другая стремятся превратить природу (включая сюда и человеческую природу) с теоретической стороны в суще-
248
ство разумное, а с практической—в существо послушное, отвечающее человеческим потребностям—с тою, однако, разницей, что культура прибегает с этою целью к известного рода средствам, притом средствам, взятым у самой природы, религия же не пользуется никакими средствами или, что то же, пользуется средствами сверхъестественными—молитвой, верой, таинствами. Поэтому действительные успехи культуры обнаруживают ненужность религии. И хотя культура всегда остается позади человеческих желаний, следовательно и позади обетований религии, ибо она не может уничтожить границы, имеющие свое основание в самом существе человека, — однако не в духе Фейербаха было бы расширять эту мысль в том направлении, что по крайней мере для одной части человечества религия всегда должна остаться средством к примирению идеи с действительностью. Непрерывно возрастающая культурная работа нашего рода ведет к постепенному устранению этого призрака. Желания и идеалы человека, если только это не фантастические мечтания, на протяжении времени осуществляются, и поэтому мы можем, даже должны на место божества, в котором находят себе выражение пышные неисполнимые желания человека,—поставить человеческий род и природу, на место религии—образование, на место загробного мира—историческую будущность человечества. То, что наличное состояние и наши законные желания отделены друг от друга пропастью, должно бы только вызвать в нас желание изменить эти бедствия и несправедливости, а не веру в загробный мир, которая, наоборот, слагает руки и оставляет бедствия в прежнем виде. Если мы не верим в лучшую жизнь, а желаем ее—желаем не в одиночку, а соединенными силами, то мы сумеем ее и создать. Истинное основание загробного мира—это недостаток самодеятельности; единственное провидение человека—культура, просвещение человечества...
Против этих мыслей Фейербаха едва-ли что можно возразить с точки зрения Маркса и Энгельса, а насколько справедливо общее им утверждение, что культурная самодеятельность человека заменяет и отменяет религию, это мы рассмотрим ниже...
Рядом с Фейербахом мы изложим основные черты
249
религиозного мировоззрения Д. Штрауса,—и это мы считаем нужным сделать не столько в убеждении, что мировоззрение Штрауса вносить что-нибудь новое в философско-религиозные основания социализма, в историю религии человекобожества, сколько в надежде определить этим путем подлинное значение самого Штрауса, книги которого у нас так усердно теперь пропагандируются. Мы будем иметь в виду сочинение Штрауса «Старая и новая вера», в котором Штраус, в конце «40 лет своей работы на писательском поприще в одном направлении», подводит «итоги своего хозяйства»,—излагает связно свое миросозерцание, о котором он до того времени «говорил всегда только отдельными указаниями». Оказывается, что в этом своем сочинении Штраус весьма близко подходит к Фейербаху, так что несостоятельность фейербаховской религии человекобожества и фейербаховской морали одновременно есть несостоятельность и религиозно - этического миросозерцания Штрауса. Знакомясь с Штраусом в этом месте, мы можем ограничиться лишь изложением его мировоззрения, не имея нужды прибегать к специальной критике.
Помимо общей с Фейербахом гегельянской основы своего мировоззрения, у Штрауса в эту основу входят еще два камня: библейско-богословская критика и естественно-научное знание. Результаты библейско-исторической и богословской критики даны в первой части «Старой и новой веры», отвечающей на вопрос: остаемся ли мы христианами? Ответ дается отрицательный, но мы не будем излагать библейско-критической и богословско-критической предпосылки Штраусовского миросозерцания: хотя его критика сыграла крупнейшую роль в истории философии (разделение гегельянцев на правых и левых) и богословия, однако для нас, русских, она вся исчерпывается пошлой смердяковщиной. Для тех, кто изучил наших Достоевского, Толстого, Соловьева, кто поднялся на высоту религиозно - мистического отношения к библейским фактам и догматическим формулам, для тех смердяковщина удел гимназического вольномыслия. Для нас важнее религиозно-моральные возражения Штрауса против христианства. Он находит, что христианство по своей дуалистически-аскетической стороне представляет собой противокультурное начало, и что в
250
этом отношении христианство подобно буддизму. В применении к жизни, к человеческим побуждениям и понятиям, которыми люди должны руководствоваться, христианский дуализм и буддийский нигилизм ведут к одним и тем же последствиям. Решительно все, что считается полезным трудом и достойным предметом человеческой деятельности, с этой точки зрения не имеет никакой цены; все старания и стремления к различным приобретениям не только суетны, но мешают человеку в достижении его истинного назначения, будет ли то «ничто» или небесное царство. К этой цели ведет только возможно более пассивное поведение, если не считать деятельность, направленную к облегчению чужих страданий или к распространению веры в искупление, будет ли это учение Будды или Христа. Учение Иисуса заключает в себе полное отрицание страсти к приобретению, как и всякой другой страсти, полное непонимание ее значения для поощрения образования и гуманности; оно отрицательно относится к воинским добродетелям и даже ничего не говорит в защиту семейных добродетелей. Отрицание всего земного, материальных интересов и жизненных благ в евангелии является оборотною стороною того положения, что подлинные блага и настоящее удовлетворение будут обретены лишь в грядущем царствии небесном. Если, пишет Штраус, мы откроем глаза, то мы убедимся, что ' весь склад жизни и стремлений культурных народов нашего времени построен на миросозерцании диаметрально противоположном евангельскому миросозерцанию. Сравнительная оценка земной жизни и загробной как раз противоположна. Наше отношение к земной жизни служит источником вовсе не одной только жажды наслаждений и так называемых материалистических идей,— им обусловливается не один только поразительный прогресс техники и промышленности, но также и открытия естественных наук, политические стремления, национальное самоопределение, наконец, даже новейшие течения в искусстве и поэзии. Словом, им обусловливается все прекраснейшее и плодотворнейшее в нашей деятельности, все, что достижимо лишь при том условии, если мы не только не презираем земную жизнь, но видим в ней истинную арену человеческой
251
деятельности, находим в ней самой содержание для наших стремлений.
Прервем здесь изложение отрицательной критики Штрауса. Прав ли он, считая христианство противукультурным началом? Эта критическая мысль можете быть и имела в прежнее время мнимую силу,—в то время, когда не только на практике призывали христианство к решению всех общественно-политических вопросов и потому аскетически урезывали естественную жизнь, но и теоретически считали такое применение христианства неизбежным и единственно возможным, т. е. не знали выхода из дилеммы или признавать христианство началом общественно-политического строя или совершенно отвергать христианство как религию; но ныне родилась новая мысль, что христианско-религиозная абсолютность есть начало совершенно разнородное наряду с условными началами общественной жизни, что христианство не может определять форм общественного строя, не может быть общественно-условною нормою, и что, поэтому, оно дает полную свободу естественно-культурной жизни,— дает ей свободу развиваться по своим собственным законам. И в виду этого считать христианство противо-культурным началом можно лишь по недоразумению. Христианство имеет дело с личностями, а не с формами общественного развития. Хотя и последние должны несколько реформироваться в виду христианского настроения личности, однако нравственная подчистка их далеко не то же, что их отмена. Есть собственность и есть страстная собственность, когда человек всю свою душу влагает в свои стяжания и делается их рабом; есть семейная жизнь и есть культ семьи, когда своя семья становится религией, как для иных чрево бывает богом; есть государство в той или иной форме и есть культ государства, культ цезарей. Христианство не может допустить страстной собственности, культа чрева, культа красоты, культа семьи, культа цезарей, но оно вполне мирится с собственностью, как с эмпирическим фактом и с эмпирическим условием существования, мирится со всею естественною необходимостью и с общественною условностью. Этой мысли не мог бы понять Штраус—потому, что этот религиозный радикал не только был затхлым консерватором в общественно-
252
экономических вопросах, но и смотрел на мещанские блага жизни и на определенные формы общественного строя религиозно, считал священною собственность, считал священными сословия и т. д. К этому мы еще вернемся ниже. Конечно, при таком отношении к естественным благам существования и к условным формам общественной жизни, Штраус мог понимать лишь символически - аскетическую концепцию христианства и отвергать его в этой концепции. Это был радикальный религиозный мыслитель, но не глубокий.
Второй отдел книги Штрауса отвечает на вопрос: есть ля у нас еще религия? В этом отделе сказывается уже явно зависимость Штрауса от Фейербаха. Уже начальные слова этого отдела: Мы не склонны без дальнейших рассуждений отказываться от религии хотя бы потому, что привыкли считать наклонность к ней не только преимуществом человеческой природы, но и ее благороднейшей, так сказать, аристократической привилегией,—уже эти слова заставляют вспомнить Фейербаха. Тоже далее. Если бы, пишет Штраус, все совершалось по желанию человека, если бы он имел все, что ему нужно, если бы планы его не разрушались и, если бы, наученный горьким опытом, он не вынужден был со страхом смотреть на будущее, тогда едва-ли возникла бы у него мысль о высшем существе в религиозном смысле. Штраус соглашается с Шлейермахером, который видел источник религии в чувстве зависимости. Однако замечая, что цель культа заключается в том, чтобы найти возможность влиять на силы, от которых человек чувствует себя зависимым, он не считает возможным остановиться на теории Шлейермахера. В этом отношении, пишет он, прав Фейербах, говоря, что желание представляет собой первоисточник и даже настоящую сущность религии. Если бы у человека не было желаний, у него не было бы и богов. Человек создает себе Бога таким, каким он сам хотел бы, но не может быть; все, что он хотел бы иметь, но не может сам создать, то должен создать для него его Бог. Итак, источником религии является не одна только зависимость, но также и потребность реагировать на нее, завоевать себе свободу от нее. Но в борьбе с природой, от
253
которой человек чувствует себя ближайшим образом зависимым, нормальный путь к освобождению есть путь труда, культуры, научных открытий. На этом пути желания человека могут найти полное реальное осуществление. Многие из атрибутов могущества, которое человек в древности приписывал богам—например, способность быстро перемещаться на огромное расстояние,—теперь присуще человеку, .благодаря победам разума над природой. Поэтому постепенно сокращается область сверхъестественной, или чудесной, помощи. Многое и теперь еще остается невыполнимым, несмотря на прогресс разума и знаний. Однако для современного человека уже ясно, что только рациональный, светский, а в области саморазвития—моральный путь к осуществлению желаний есть путь истинный и правильный, тогда как религиозный путь представляет только самообман. При общей исходной точке, здесь обнаруживается противоречие между Фейербахом и Шлейермахером во взгляде на религию. Последний видит сущность религии в чувстве непосредственной зависимости, и так как это чувство несомненно отражает действительное положение человека в природе, то и религия является истинною. И Фейербах также признает в чувстве зависимости конечную причину религии, но для того, чтобы ее создать, должно быть в наличности желание придать этой зависимости кратчайшим путем благоприятный для человека оборот. Такое стремление само по себе в порядке вещей, но в тех средствах, которыми человек думает достигнуть этой цели — в молитве, в жертвах — заключается суеверие. Этот кратчайший путь, однако, составляет принадлежность всякой существовавшей до сих пор религии, а потому и религия с этой точки зрения является суеверием. Поэтому всякий просвещенный человек должен стремиться к освобождению от этого суеверия себя и всего человечества. В этом пункте мы, говорит Штраус, убеждаемся, что оценка религии, из которой мы исходили в начале этого отдела, превратилась в свою противоположность. Вместо преимущества человеческой натуры она является здесь слабостью, присущей человечеству преимущественно в период его детства, от которой оно должно освободиться, вступив в зрелый возраст. Религиозность и образованность нахо-
254
дятся не в прямом, а в обратном отношении, и с успехами последней первая отступает на задний план. Впрочем, это, по мнению Штрауса, не означает полного уничтожения религии. Религия для нас уже не играет той роли, которую она играла для наших предков, но из этого не следует заключать, что религиозное чувство погасло в нас. Так или иначе, мы удержали главную составную часть всякой религии, а именно чувство безусловной зависимости. Говорим ли мы «Бог» или «универсум», в том и другом случае мы сознаем свою непосредственную зависимость 1). II пред лицом вселенной мы должны признать себя не более, как «частью части», наши силы— ничем в сравнении с природою. Не прав, по мнению Штрауса, старый антропоморфизм даже на высшей своей ступени, где Бог представляет собою обожествленное самосознание человека,—и все-же то начало, от которого мы чувствуем себя в прямой зависимости, не есть грубая сила, которой мы вынуждены подчиняться в молчаливом смирении, но оно есть в то же время порядок, закон, разум и добро, которому мы любовно вверяемся. Больше того, так как мы не только сознаем существующее в мире разумное и доброе начало, но и ощущаем в нас самих присутствие этого начала, считаем себя существами, способными испытывать в себе добро и олицетворять его, то мы на
1) Ср. Гюйо Иррелигиозность будущего (о котором у нас речь будет ниже): «По нашему мнению, элементы религии, отличающие ее от метафизики или морали и делающие ее собственно позитивной религией, являются непрочными и переходными. Именно поэтому мы отвергаем религию будущего, как отвергли бы и алхимию будущего или астрологию будущего. Но отсюда не следует вовсе, что иррелигиозность, которая есть просто отрицание всякой догмы, всякого традиционного и сверхъестественного авторитета, всякого откровения, всякого чуда, всякого мифа, всякого церковного обычая, возведенного в обязанность, что. эта иррелигиозность есть синоним нечестия, презрения к метафизической и моральной основе древних верований. Ни в коем случае: быть иррелигиозным или арелигиозным не значит быть антирелигиозным. Мало того. Иррелигиозность будущего сможет сохранить от религиозного чувства все, что было в нем наиболее чистого: с одной стороны, восхищение космосом и теми бесконечными силами, которые развиваются в нем: с другой стороны, искание идеала не только индивидуального, но и социального и даже космического, превышающего существующую реальность».
255
этом основании чувствуем внутреннее сродство с тем, от чего зависим, чувствуем себя в этой зависимости свободными, и в нашем отношении к универсуму смешиваются гордость со смирением, радость с покорностью.
В последних словах Штраус делает шаг в сторону от Фейербаха в направлении к религиозному романтизму, но последний является у него беспочвенною сентиментальностью.
В третьей части своей книги Штраус отвечает на вопрос: как мы понимаем мир? Здесь он дает естественно-научное обоснование своего религиозно - этического мировоззрения, и в частности излагает Кантовскую теорию происхождения нашей солнечной системы и дарвиновскую теорию развития жизни. Мы не последуем за Штраусом, потому что он сообщает здесь сведения, которые ныне имеет каждый гимназист. И если бы даже это были не популярные, а более основательные естественно - научные сведения, все-же главный вопрос был бы не в ценности самых сведений, а в применении их к обоснованию мировоззрения. В этом отношении достаточно уже выяснялось, что из одних данных естествознания и единственно его методами нельзя построить всеобъемлющего миросозерцания. Этой мысли не приходится развивать в приложении к Штраусу, так как он почти не намечает перехода от фактов и гипотез естествознания к целям и нормам жизни 1).
1) Это более решительно делают разные представители эволюционной этики и, в частности, Геккель. (См. статью Эволюционная этика в Христианине (1908 г. май и июнь) и служащие ее продолжением статьи в Бог. Вестнике за тот же год: Монистическая этика (июль—август) и Ортобиоз (декабрь). Между тем ревнители «народного просвещения» усердно переводят и распространяют не только Штрауса и Геккеля, но даже такие курьезы прошлого, как Бюхнер, Фогт и Молешотт. Любопытно, однако отношение к этим последним со стороны Фейербаха, Энгельса и других более серьезных представителей материалистического мировоззрения. Как известно, Фейербах в ходе своего философского развития пришел от гегельянства к решительному материализму и тем не менее он открещивался от «материализма естествоиспытателей». Он говорит: «Для меня материализм есть основа человеческой сущности и знания, но я не могу относиться к нему так, как относятся физиологи, естествоиспытатели в тесном смысле, например, Молешотт. Для них он не основа здания, а само здание.
256
Такой переход Штраус как будто делает в заключительных строках третьего отдела, где он пишет: «Мы взяли из второго отдела на место олицетворенного Бога идею универсума как результат, к которому привело
Идя от этой точки назад, я совершенно соглашаюсь с материалистами, идя вперед,—я расхожусь с ними». Энгельс отчасти не одобряет отношение Фейербаха к материализму, как оно выразилось в приведенных словах, но вполне принимает данную им оценку материализма Молешотта. «Фейербах—пишет Энгельс—смешивает здесь материализм, как общее мировоззрение, вытекающее из известного взгляда на взаимное отношение материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на известной исторической ступени, именно в ХVIII столетии, Мало того, он приписывает материализму вообще тот опошленный, вульгарный вид, который принял теперь материализм ХVIII века в головах врачей и естествоиспытателей и в котором он проповедовался Бюхнером, Фогтом и Молешоттом в пятидесятых годах... Материализм прошлого (ХVIII) века был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук к тому времени достигла известной законченности только механика твердых тел. Вторая специфическая черта ограниченности этого материализма заключается в неспособности его взглянуть на мир, как на процесс. В области истории—то же отсутствие исторического взгляда на вещи... Люди, взявшие на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков дешевого материализма, и на шаг не пошли дальше своих учителей. Все новые успехи естественных наук служили им лишь новыми доводами против существования творца вселенной. Да они и не имели никакого призвания к дальнейшей разработке теории. Идеализм, премудрость которого к тому времени уже окончательно истощилась и который был смертельно ранен революцией 1848 года, имел, по крайней мере, то утешение, что материализм пал еще ниже. Фейербах был совершенно прав, отклоняя от себя всякую ответственность за этот материализм». Конечно, названные материалисты жили долго после пятидесятых годов и, в частности, Бюхнер (скон. в 1899 г.) в позднейших своих сочинениях и в последних изданиях сочинения «Сила и материя» воспользовался трудами не только Фейербаха и Штрауса, но и Дарвина и Геккеля. Однако, то несомненно, что названные материалисты всецело ограничиваются отрицательною задачею дешевой борьбы с верою в Бога и ничего не делали для положительного обоснования материалистического миросозерцания. Так, книга Бюхнера «Сила и материя» имеет подзаголовок: «Опыт естественного миропорядка с основанной на нем моралью, или учением о нравственности». Но немногие заключительные страницы, посвященные в книге вопросу о нравственности, изумляют своею грубоватостью и наивностью. Сравнительно с тем, что сделано в этом отношении Штирнером, Ницше, социализмом, даже Геккелем, это—жалкое ничтожество.
257
нас наше наблюдение и мышление, или как основной факт, из рамок которого мы не можем выйти. В дальнейшем нашем изложении содержание этой идеи определилось для нас точнее: это—движущаяся в бесконечности материя, которая путем дробления и смешения подымается до все высших форм и функций, а путем прогрессивного, регрессивного развития и новообразования описывает бесконечный круг. Поэтому мировую цель составляет в общем наиболее разнообразное движение или наибольшая полнота жизни; в частности моральное и физическое развитие этого движения или этой жизни, стремящейся в вышину и даже разрушением своих отдельных частей подготовляющей новое движение в высь». Однако в четвертом отделе своей книги, отвечающей на вопрос: как устраиваем мы свою жизнь?—Штраус развивает не эти мысли, а просто следует Фейербаху. Всякие нравственные действия человека—пишет он здесь—являются по моему самоопределением единицы в согласии с идеей рода. Осуществление в себе этой идеи, подчинение своей личности понятию и назначению человечества составляет смысл обязанностей человека по отношению к самому себе. В признании и развитии родовой идеи в других людях содержится сущность наших обязанностей по отношению к другим. При этом следует различать отрицательную обязанность—не нарушать ничьего равноправия, и положительную—каждому помогать по мере возможности, другими словами, долг справедливости и долг любви.—Сообразно с более узкими или более широкими кругами, которыми человечество располагается вокруг нас, эти обязанности по отношению к ближним расчленяются в зависимости от того, чем мы обязаны каждому из кругов. В самом узком и тесном кругу, в семье, мы должны поддерживать и культивировать то, что получили от нее: любвеобильное воспитание и уход. Государству мы обязаны прочной основой существования, обеспечением жизни и имущества, а благодаря школам—и своей подготовкой к общественной жизни. Всякий член государственного общежития обязан делать все для его сохранения и процветания, что дает возможность делать его положение в обществе. От нации мы получили язык и все образование, которое связано с языком и ли-
258
тературой. Национальность и язык составляют внутреннюю связь государства, национальный быт — основу семейной жизни. Ради нее мы должны быть готовы жертвовать своими силами, а в случае нужды и жизнью. Но в своей нации мы видим лишь один член человеческого тела и не желаем, чтобы какой-нибудь другой член, какая-нибудь другая нация терпела ущерб или увядание: только в гармоническом развитии всех своих членов человечество может процветать как целое. С другой стороны, в каждом человеке следует признавать и уважать общечеловеческий отпечаток, к какой бы нации человек ни принадлежал. Таким образом, как в области религии человек руководится идеей универсума, этим конечным источником всякого бытия и жизни; так в нравственных действиях он руководится идеей рода, которую он отчасти стремится воплотить в самом себе, отчасти признает и поддерживает в других людях. Идея вида живет и в животном как инстинкт; но только человек обладает ею в своем сознании как мыслью. Видовой инстинкт не мешает хищному зверю уничтожать себе подобных, как он не мешает людям убивать друг друга. Правда, сознание вида также не служит им препятствием: если бы мы могли не бояться за свою жизнь при встрече со всеми, умеющими выработать в себе представление о виде, в который входят и они и мы, то таким положением мы могли бы быть довольны. Но можно различно мыслить это понятие, и все дело в том, чтобы научить человека правильно мыслить его. Слово «человек —только название, пустой звук, не имеющий значения. Нужно напомнить его всем его содержанием, чтобы оно приобрело значение. В видовом понятии человека заключается его положение на вершине природы, его способность противодействовать чувственному раздражению с помощью мышления. Далее в видовом понятии заключается также единство вида, не в смысле единства животного вида, определяющегося единством происхождения и органического устройства, а в том смысле, что человек становится человеком лишь при согласной жизни людей, лишь с помощью человека человек поднялся над природой: он может удерживаться на своей высоте и подни-
259
маться выше, лишь признавая подобных себе и уважая институт семьи, государства и т. д. При этом чрезвычайно необходимо, чтобы это сознание воплотилось в живое чувство, и приобретаемая таким путем моральная норма стала второй натурой человека. В отношениях к самому себе его habitus'oм должно стать человеческое достоинство, в отношениях к другим — сочувствие в его различных формах. Всякое нарушение того и другого должно отзываться в его совести нравственным угрызением..
Мы выписали все существенное из книги Штрауса по религиозно-моральному вопросу, не ослабляя силы его выражений ничем, ни даже сокращенным изложением. Мы предложили вниманию читателя самое большее, что говорит Штраус. И из нашего изложения видно прежде всего, что все недочеты фейербаховской философии религии и морали повторяются в философии Штрауса. Мало того. Говоря, что слово «человек»—лишь пустой звук, который еще нужно наполнить содержанием, что сам по себе родовой инстинкт не может помешать человеку убить человека, Штраус показывает, что он сознает отсутствие почвы под ногами. В его морали нет абсолютной точки опоры, все в ней неустойчиво и случайно, все зависит от того, каким содержанием каждый станет наполнять эту звуковую форму—«человека». Можно считать за наиболее вероятное, что каждый удержит моральное содержание, вытекающее из необходимости взаимной помощи. Однако, как скудно это содержание и какому разнообразному, неустойчивому, а иногда и нравственно возмутительному соседству дает оно место. Чтобы далеко не ходить за примерами, мы можем проверить это на примере самого Штрауса. Вслед за своими пустыми, нисколько не обоснованными речами о ^достоинстве человеческом», он в последних главах четвертого отдела «излагает — говоря словами русского переводчика—целую систему реакционных воззрений на государственный и сословный строй». Здесь мы встречаем что-то в роде языческого культа цезарей, религиозный взгляд на собственность, на сословия и т. д. Мы этому не должны удивляться, отметив ранее близость Штрауса к Фейербаху, так как и у Фейербаха мы встречаем обоготворение государства и его главы. В одном
260
месте Фейербах выражается: «Das Staatsoberhaupt ist der Repräsentant des universalen Menschen» (Werke, T. 2, Leipz. 1846, стр. 268),—а в другом месте он еще яснее говорит: «Государство есть бог для человека». (См. Вопросы жизни, окт.—ноябрь стр. 257.—В бывшем у меня издании Фейербаха этого места нет). Эти философы, объявляя политику религией, прежде того низводят религию до уровня реальной политики...
(Продолжение следует).

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.
Кроме Фейербаха и в некоторых отношениях даже преимущественно пред ним должно назвать Огюста Конта, как основателя религии Человечества. Конт называет Человечество le Grand-Être, le vrai Grand Être, le véritable Grand-Être, l’Être-Suprême, le nouvel Être-Suprême. Человечество есть существо безграничное и вечное (un être immence et éternel). Это великое понятие Человечества, и единственно оно одно, обнимает «совокупность позитивных концепций» (l’ensemble des conceptions positives) l), объединяет все научные представления. Вместе с тем оно образует основу позитивной морали, так как «совокупность человеческого рода, настоящего, прошедшего и будущего, составляет безграничное и вечное социальное единство, различные органы которого, индивидуальные или народные, непрерывно связываемые интимною и универсальною солидарностью, неизбежно содействуют, каждый известным образом и в известной степени, основной эволюции человечества, а эта поистине капитальная и новейшая концепция (концепция эволюции человечества) должна сделаться главною рациональною основою позитивной морали» 2). Все нравственные правила, хотя бы они касались индивидуальной жизни, нужно относить не к человеку, а к человечеству (tout doit être sans cesse rapporté, non à l’homme, mais à l'humanité) s). должны быть рассматриваемы не иначе, как
l) Catéchisme positiviste, 2 ed., p. 56; Cours de philosophie positive. 2 ed.. t. VI, p. 760: te principal résultat... consiste dans la convergence spontanée de toutes les conceptions modernes vers la grande notion de l'humanité.
2) Cours de philosophie positive, IV. p. 293—294.
3) Cours de philosophie positive, VI, 713.
424
425
sub specie humauitatis. Наконец, «около этого vrai Grand-Être, непосредственного виновника всякого существования, индивидуального или коллективного, сами собою концентрируются наши чувства, как и наши мысли и действия. Единственно идея Человечества внушает священную формулу позитивизма: l’Amour pour principe, l'Ordre pour base, et le Progrès pour but. Такое Верховное Существо, еще более доступное нашим чувствам, чем нашему разумению, вследствие тожества природы, которое, однако не мешает ему превосходить всех своих служителей, возбуждает глубокую активность, направленную к его сохранению и к его усовершенствованию» 1). Таким образом, в этом объекте религии находят удовлетворение все стороны нашего существования, любовь, мысль и действие, достигающие небывалой гармонии 2). Все сочинения Конта представляют из себя сплошной гимн в честь Человечества. Истинною точкою зрения на человеческую жизнь он считает не исключительно индивидуальную, но преимущественно социальную, ибо—с совершенною определенностью высказывает Конт свой знаменитый парадокс—человек, собственно говоря, есть в сущности чистая абстракция; реально существует лишь человечество, особенно в отношениях интеллектуальном и моральном (l’homme proprement dit n’est, au fond, qu’une pure abstraction; il n’v a de réel que l’humanité, surtout dans l’ordre intellectuel et moral) 3). Основное предположение позитивной философии—единство человеческого рода и непрерывность исторической эволюции. Человечество есть единый организм; его развитие—развитие одного народа, или индивидуума. Параллель между развитием индивидуума и развитием человечества—полная. Отсюда следует самая решительная солидарность человеческого рода,—и Конт особенною заслугою позитивной философии, отличающею ее выгодно от теологического и метафизического мировоззрений, считает то, что она воспитывает чувство солидарности (le sentiment de la solidarité). «Общее преобладание
1) Catéchisme positiviste, p. 57.
2) Ibid. 59.
3) Cours de philosophie positive, VI, 59: Système de politique positive, I. p. 334: l'homme, proprement dit, n’existe que dans le cerveau trop abstrait de nos métaphysiciens. 11 n’y a. au fond, de réel que l’humanité.
426
в социально-научных занятиях исторического метода, в строгом смысле этого слова, имеет то счастливое свойство, что он сам по себе развивает социальное чувство, поскольку он выставляет в полном свете то неизбежное, столь же прямое, сколь и непрерывное, сцепление различных событий человеческой жизни, которое ныне внушает нам непосредственный интерес к самым отдаленным из них, так как он напоминает нам о том реальном влиянии, какое эти события оказали на своевременное наступление нашей собственной цивилизации. По прекрасному замечанию Кондорсе, ни один просвещенный человек не мог бы ныне подумать, например, о сражениях Марафонском и Саламинском, не представляя тотчас же их важных последствий для современной судьбы человечества» 1). Когда истинное воспитание ознакомит надлежащим образом современные умы с теми понятиями солидарности и непрерывности, которые внушаются позитивным рассмотрением социальной эволюции, тогда глубоко почувствуют внутреннее нравственное превосходство философии, которая связывает каждого из нас с целым существованием человечества, представляемого в совокупности времени и пространства 2). Особым преимуществом Человечества, как объекта религии, Конт считает то, что оно не неподвижно, как Абсолютное Существо, но его относительная природа делает его в высшей степени способным к развитию: одним словом, это самое живое из всех известных существ. Оно не изменяет своих решений по капризу, оно развивается по непреложным законам 3). Но этим-то и обусловливается чувство ответственности, которая ложится на нас по отношению к Человечеству. Об абсолютной неизменности не может быть речи, так как «наиболее сложные явления суть и наиболее изменяемые» (les phénomènes les plus complexes sont aussi les plus modifiables), но изменение это совершается с планомерностью, порождающею в нас чувство ответственности. «Только с ограниченной индивидуалистической точки зре-
1) Cours de philosophie positive, IV, 320.
2) Cours de philosophie positive VI, 743.
3) Système de politique positive, I, 335.
427
ния жизнь представляется незавершенною и непримиренною: более глубокому взору история человечества раскрывает повсюду перст Немезиды—неумолимо властвующего закона природы. Возмездие в том мире—химера юного человечества, глаз которого недостаточно опытен для того, чтобы в водовороте мировой истории познать связь между причиной и следствием; что же касается солидарности человеческой жизни, то здесь пред нами научно доказуемая истина, которая, однако в настоящее время еще слишком мало привычна, слишком еще прикрыта индивидуалистическими соображениями для того, чтобы она могла оказать то влияние на мышление и действие людей, на которое она вполне способна. Она является источником нового, несравненно более напряженного чувства ответственности; чем более мы сознаем, что в наиболее тяжелых наших страданиях повинны мы сами, чем горьше мы ощущаем то, что мы сами должны претерпеть благодаря глупости, злости наших отцов и наших современников, тем грознее поднимается голос человечества против наших собственных заблуждений и упущений. Если всякое действие отдельного человека находит себе отклик в целом роде, то к нему относится евангельское слово: то, что вы делаете самому малому из моих братьев, то вы сделали мне» (Иодль). Здесь же имеют свой корень и мотивы к деятельному участию в судьбе человечества. Человечество—это, по словам Конта, совокупность (l’ensemble) человеческих существ, прошедших, будущих и настоящих. Это слово совокупность достаточно показывает, что под человечеством нельзя разуметь всех людей, но лишь тех одних, которые реально слились с Человечеством истинным содействием общему существованию. Хотя все по рождению суть необходимо дети Человечества, однако не все оказываются его служителями, так как многие остаются на всю жизнь в том паразитарном состоянии, которое извинительно только во время детского периода. Вместо этих жалких исчадий к новому Верховному Существу приобщаются его достойные помощники из мира животных. Полезные животные, лошади, собаки, быки и пр. более заслуживают уважения, чем некоторые люди. Эта религия поддерживает постоянно благодарную память в нас по отношению к нашим ото
428
шедшим предкам, самым отдаленным. Последовательная непрерывность важнее настоящей солидарности. Живые всегда, и чем дальше, тем больше, неизбежно направляются мертвецами: таков основной закон человеческого порядка (les vivants sont toujours, et de plus en plus, gouvernés nécessairement par les morts: telle est la loi fondamentale de l’ordre humain). В каждом реальном событии более участия принимают мертвые, чем живые. Каждый истинный служитель человечества, после своей смерти, продолжает жить невидимо в сердце и уме своих потомков. Это есть то бессмертие, которое единственно доступно человеку. И мы, религиозно связанные с умершими, в свою очередь передаем своим потомкам полученное нами наследство, приумноженное нашими трудами. Как бы то ни было, Человечество действительно нуждается в нашем содействии. Хотя совокупное Человечество всегда является главным виновником всех наших деяний, физических, интеллектуальных или моральных, тем не менее Высшее Существо может действовать лишь посредством индивидуальных органов. Это дает простор нашим личным усилиям, и придает каждой деятельной личности достоинство в глазах Верховного Существа, которое нуждается не в наших словесных хвалах, а в нашем активном содействии. Развитие и даже сохранение Высшего Существа зависит от свободных услуг его разнообразных детей 1)...
Эта основная идея религии Человечества (la religion de l’humanité) облекается у Конта в сложную систему культа, догмы и режима. Говоря словами Милля, здесь «мы приближаемся к смешной стороне предмета» и встречаем «некоторые вещи, крайне смешные». Нам нет нужды излагать эти детали, которые не связаны с существом основной идеи. Но необходимо указать на один пункт в этом проекте реорганизованного общества, в этом плане идеального государства—на учреждение духовной власти (le pouvoir spirituel) наряду с светскою властью (le pouvoir temporel). Это не случайная мысль в религиозной системе Конта. С одной стороны, он ясно сознает связь этого учреждения с основным воззрением на Верховное Суще-
1) Catéchisme positiviste, р. 66. 71.
429
ство 1); с другой стороны самую религию Конт понимает в смысле всеобщего единства. Он определяет религию, как «состояние полного единства, отличающего наше существование,—единства, одновременно личного и социального, когда все его части, как моральные, так и физические, сходятся привычно в общем назначении. Таким образом этот термин был бы равносилен слову синтез, если бы последнее, не по собственному филологическому составу, а по всеобщему употреблению, не ограничивалось ныне одною интеллектуальною областью, тогда как тот термин обнимает совокупность человеческих свойств. Поэтому религия состоит в том, чтобы управлять каждою индивидуальною жизнью и соединять все индивидуальности: это только два разных проявления одной и той же проблемы. При невозможности полной реализации такой гармонии, индивидуальной или коллективной, в существовании столь сложном, как наше, это определение религии характеризует тот неподвижный тип, к которому все более и более стремится совокупность человеческих усилий» 2). Ум крайне систематический, Конт был непомерно склонен к установлению «единства». Вся его теоретическая позитивная философия есть систематизация всех человеческих знаний с точки зрения высшей и центральной идеи эволюционирующего Человечества. Установление единства в мыслях и жизни—последняя цель его практической философии, которая увенчивается его религией. Это единство реально
1) Вот одно из относящихся сюда многочисленных мест (Système de politique positive, t. I, p. 334—3354- в 1' Être-Suprême Конт различает deux ordres de fonctions fondamentales, les unes d’activité, les autres de liaison. En effet, il n’y a là de directement actif que les parties séparables; mais l’efficacité de leurs opérations dépend de leur concours, spontané ou concerté. Un tel organisme suppose donc à la fois des fonctions extérieures, essentiellement relatives à son existence matérielle, et des fonctions intérieures, spécialement destinées à combiner ses éléments mobiles... C’est là qu’il faut saisir la vraie source systématique de la séparation normale de deux pouvoirs sociaux. Le pouvoir temporel, seul directeur, émane de la personnalité, et développe l’activité, d’où résulte l’ordre fondamental: tandis que le pouvoir spirituel, purement modérateur, représente immédiatement la sociabilité, et institue le concours, qui détermine le progrès. Ainsi, dans la conception du Grand-Être, le premier correspond à l’appareil nutritif et le second à l’appareil nerveux de l’organisme individuel.
2) Catéchisme positiviste, p. 42.
430
осуществляется духовною властью. Мы не будем детально описывать функции этой власти словами Конта, мы ограничимся меткими критическими замечаниями по этому вопросу Д. С. Милля. Конт настаивает на необходимости особого деятеля, который во всех классах людей в течение целой жизни поддерживал бы сознание главных требований общего интереса и ясные понятия о том, какой образ деятельности человека благоприятствует этому интересу и какой нарушает его. Конт хочет создать авторитет в умственной и нравственной сфере с целью руководить мнениями людей, просвещать и охранять их совесть: он требует существования особой духовной власти, суждения которой по всем предметам высшей важности заслуживали бы и пользовались таким же точно почтением и уважением, с каким относятся, например, к общему мнению астрономов касательно предметов их специальности. Свобода и самопроизвольность со стороны индивидуумов не находят места в системе Конта. Он смотрит на них с таким же недоверием, как школьный педагог или церковный проповедник. В общественном или частном поведении всякая мелочь человека должна быть на глазах у всех и силою общего мнения удерживаться в том направлении, какое духовной властью будет признано самым верным. Насколько доктрина о свободе 'совести имеет то значение, что мнения и выражения их должны быть изъяты от всякого легального принуждения, Конт— непоколебимый приверженец ее, но что касается морального права каждого человека, как бы дурно ни был он подготовлен необходимым образованием и дисциплиной ставить самого себя судьей в высшей степени запутанных и важных вопросов, какими только в состоянии заниматься ум человеческий, то он решительно отрицает его. Нет, говорит он в одном из ранних произведений, свободы совести в деле астрономии, физики, химии и даже физиологии, так как всякий счел бы безрассудным не принимать на веру принципы, установленные в этих науках людьми компетентными. Если же в политике замечается другое, то это единственно на том основании, что в ней в течение некоторого времени не существует собственно каких- либо установившихся мнений. На первых порах, когда че-
431
ловечество только-что поднялось выше старых теорий, воззвание учителей и проповедников к массе, стоявшей вне этого движения, было необходимо и неизбежно, потому что, не пользуйся исследование и критика терпимостью и одобрением со всех сторон, ни для одного учения не было бы возможности развиться. Но само в себе обыкновение обращаться с вопросами, требующими, сравнительно со всеми другими, более специальных знаний и подготовки, к некомпетентному трибуналу общественного мнения, не рационально в самом корне и должно прекратиться, лишь только человечество раз примирилось с системой нового учения. Конт думает, что продление этого временного состояния, сказывающегося все более и более возрастающей разрозненностью мнений, угрожает уже крайнею опасностью, потому что только при существовании некоторого согласия относительно основных правил жизни может быть установлен действительно - нравственный контроль над частным интересом и страстями личностей. По мнению Конта, особенная сложность и запутанность социологических исследований, большой запас предварительных знаний и высокая степень умственного такта, каких требуют эти исследования,—все это вместе с серьезностью последствий, могущих произойти от временных заблуждений касательно таких предметов, делает неизбежным для этики и политики более, чем для математики и физики, то обстоятельство, чтобы—какова бы там ни была легальная свобода исследования и критики—только крайне незначительное число умов высшего разряда, шедших к своей задаче путем всесторонней и трудной подготовки, действительно установляло мнения человечества относительно означенных предметов. В силу тех же соображений сомнение в их заключениях со стороны людей, не обладающих такою же степенью умственных способностей и образования, должно считаться дерзким и более предосудительным, нежели попытки опровергнуть ньютонову астрономию, какие случайно делаются людьми полуучеными...
В немногих словах Милль бесповоротно изобличает всю несостоятельность этого проекта. Для того, чтобы лучшие мыслители действительно могли оказывать такое благодетельное влияние на общепринятое мнение, нет надобности
432
в особой ассоциации и организации. Это влияние придет само собою, лишь только установится единодушие, без которого оно не представляется ни желательным, ни возможным. Если астрономы пользуются доверенностью, то это, конечно, потому, что они согласны в своих учениях, а ничуть не в силу того, что существует какая-нибудь Академия Наук, которая дает определения и постановляет решения. Организованной моральной власти можно требовать единственно в том случае, когда дело идет не просто только о проведении и распространении тех или других начал деятельности, но и о направлении малейших подробностей их применения, когда хотят провозглашать и внушать не обязанности нравственные вообще, а долг того или другого лица, как это пыталась сделать духовная власть в средние века. Конт не устраняет этого крайнего вывода из его начала. Должность подобного рода, без сомнения, часто с большею пользой может быть отправляема отдельными членами философствующего класса людей, но, доверенная какому-либо организованному обществу или сословию, она не заключала бы в себе ничего, кроме духовного деспотизма.
Фейербах, как мы видели, исходным началом своей религиозной философии взял, под влиянием протестантства, евангельское христианство — в отвлеченно - философском понимании. Конт, в отличие от Фейербаха, стоял под несомненным влиянием католичества, в котором был воспитан. Он резко порицал в христианстве его индивидуалистические тенденции, но всегда пристрастно относился к церковному строю средневекового католичества. Le catholicisme moins le christianisme, католичество без христианства: вот как назвал француз религию человечества Конта 1). И этого отзыва нельзя не назвать «необыкновенно метким».
Однако этот отзыв, как и приведенное мнение Милля, характеризует собственно предначертанную Контом форму религии Человечества, которую наиболее видные ученики Конта и сторонники его позитивизма считают не выдерживающею самой снисходительной критики с точки зре-
1) См. в Истории этики Иодля.
433
ния позитивизма. Но основная идея религии Конта имеет свои корни в самой глубине его научно-этических воззрений, в которых он нередко напоминает Фейербаха.
Так, прежде всего, Конт близко подходит к Фейербаху в органическом обосновании нравственности и в признании семейно-общественных устоев ея.
Нужно отметить, что популярные представления об этическом позитивизме Конта, рассеянные во всяких учебниках, далеко не схватывают наиболее характерных сторон его.
Более всего известен методологический принцип позитивизма. Вот как об этом говорит сам Конт уже в первой лекции Курса положительной философии. «Изучая весь ход развития человеческого ума в различных сферах его деятельности, от его первого простейшего проявления до наших дней, я открыл главный основной закон, которому это развитие подчинено безусловно и который может быть твердо установлен или путем рациональных доказательств, доставляемых знакомством с нашим организмом, или с помощью исторических данных, извлекаемых при внимательном изучении прошлого. Этот закон состоит в том, что каждая из наших главных идей, каждая из отраслей нашего знания проходит последовательно три различных теоретических состояния: состояние теологическое или фиктивное; состояние метафизическое или абстрактное; состояние научное или положительное. Другими словами, человеческий дух по самой своей природе в каждом из своих исследований пользуется последовательно тремя методами мышления, по характеру своему существенно различными и даже прямо противоположными друг другу: сначала теологическим методом, затем метафизическим и наконец положительным методом. Отсюда и возникают три взаимно исключающие друг друга вида философии, или три общие системы воззрений на совокупность явлений. В теологическом состоянии человеческий дух, направляя свои исследования главным образом на внутреннюю природу вещей, первые и конечные причины поражающих его явлений, стремясь, одним словом, к абсолютному познанию, воображает, что явления производятся прямым н постоянным воздей-
434
ствием более или менее многочисленных сверхъестественных факторов, произвольное вмешательство которых объясняет все кажущиеся аномалии мира. В метафизическом состоянии, которое на самом деле представляет собою только общее видоизменение теологического, сверхъестественные факторы заменены абстрактными силами, настоящими сущностями (олицетворенными абстракциями), неразрывно связанными с различными вещами, и могущими сами собою производить все наблюдаемые явления, объяснение которых состоит в таком случае только в подыскании соответствующей сущности. Наконец в положительном состоянии человеческий дух познает невозможность достижения абсолютных знаний, отказывается от исследования происхождения и назначения существующего мира и от познания внутренних причин явлений, и стремится, правильно комбинируя рассуждение и наблюдение, к познанию действительных законов явлений, т. е. их неизменных отношений последовательности и подобия. Объяснение явлений, приведенное к его действительным пределам, есть отныне только установление связей между различными отдельными явлениями и несколькими общими фактами, число которых уменьшается все более и более по мере прогресса науки. Основная характеристическая черта положительной философии состоит в признании всех явлений подчиненными неизменным естественным законам, открытие и низведение числа которых до минимума и составляет цель всех наших усилий, хотя мы и признаем абсолютно недоступным и бессмысленным искание первых или последних причин» 1). Этот гносеологический тезис позитивизма имеет важные последствия для этики, поскольку он делает невозможным ее интуитивное построение. Относительность нашего знания, как в том смысле, что оно ограничивается лишь областью явлений, так и в том смысле, что род человеческий и каждый индивидуум в умственном отношении подлежит постоянному изменению, относительность эта заставляет признать также относительность моральных воззрений и правил. В связи с этим, конечно, стоит ограничение целей жизни пределами земли.
1) Cours de philosophie positive, t. 1, p. 8. 9. 16.—рус. пер. т. 1, стр. 4.
435
концентрация всех усилий человеческих на реальной жизни (la concentration finale des efforts humains sur la vie réelle), при чем моральные правила являются одним из средств достижения этих целей 1).
Однако при характеристике позитивной этики Конта нельзя ограничиться одним этим методологическим принципом, нельзя из этого гносеологического тезиса дедуктивно построят все содержание позитивной морали, которая в таком случае была бы крайне бессодержательным и грубым эвдемонизмом. Нужно иметь в виду второй тезис позитивной этики, что правила человеческой жизни выводятся из законов, которыми управляется индивидуальная н общественная жизнь. Нужно помнить взгляд Конта вообще на отношение практических знаний к теоретическим, искусств к наукам. Вот что мы читаем по этому вопросу во второй лекции Курса положительной философии. «Рассматривая всю совокупность занятий человечества, следует признать, что изучение природы как-бы предназначено послужить истинной разумной основой воздействия человека на природу, ибо познание управляющих явлениями законов, которое позволяет нам постоянно предвидеть самые явления, одно только может дать нам возможность в нашей деятельности с пользой для нас видоизменять одни явления при помощи других. Наши естественные и прямые средства влиять на окружающие нас тела совершенно не соразмерны с нашими потребностями. Каждый раз, когда мы совершаем какое-нибудь сильное воздействие, это удается только благодаря тому, что наше знание законов природы позволяет нам ввести в число определенных обстоятельств, под влиянием которых происходят явления, несколько новых элементов, в известных случаях оказывающихся, несмотря на всю свою незначительность, достаточно сильными, чтобы изменить в нашу пользу окончательный результат действия всех вместе взятых внешних причин. Одним словом, на науке основано предвидение, на предвидении действие. В такой очень простой формуле точно выражается отношение науки к искусству, если принимать эти два слова в их полном значении» 2). Конт
1) Cours de philosophie positive, t. VI, 739—740.
2) Cours de philosophie positive, I. 50—51, p. пер. 27.
436
к этой формуле присоединяет важные оговорки. Он поставляет на вид, что грубое понимание практического значения науки вело бы к ограничению научных занятий имеющими немедленное практическое применение исследованиями, что остановило бы умственный прогресс даже по отношению к тем практическим применениям, ради которых так неразумно пожертвовали бы чисто теоретическими работами, ибо самые важные приложения постоянно вытекают из теорий, созданных с чисто-научными целями и существовавших иногда по целым векам без всяких практических результатов. Тем не менее указанная формула остается для Конта неизменною и он к ней не раз возвращается. Так в частности и этику он считает искусством, правила которой выводятся из законов науки. Наукою, устанавливающею законы, из которых вытекают нравственные правила, Конт считает социологию. Но нужно иметь в вицу предложенную Контом классификацию наук. Употребляя слово— философия в смысле «общей системы человеческих понятий», Конт всю положительную философию разделяет на шесть наук: математика, астрономия, физика, химия, физиология (биология) и социальная физика (социология). Принцип этой энциклопедической системы,—предполагая, что она обнимает исчерпывающим образом все явления, доступные нашему наблюдению и познанию,—тот, что каждая последующая наука имеет дело с более сложными явлениями, которые подчинены всем законам, устанавливаемым предшествующими науками, но не влияют обратно. Таким образом астрономия изучает явления самые общие, самые простые, самые отвлеченные и наиболее удаленные от человечества, которые влияют на все другие, не подвергаясь влиянию последних. Наоборот в социальной физике рассматриваются явления наиболее частные, наиболее сложные, наиболее конкретные и наиболее затрагивающие прямые интересы человечества: эти явления более или менее зависят от всех предыдущих, не оказывая в свою очередь на них никакого влияния. Социология, имея дело с великим понятием человечества, обнимающим совокупность человеческих концепций, является главнейшей наукой (principale science), обнимает все прочие науки. И говоря, что этика покоится на социологии, подобно как
437
техника основывается на математических науках и медицина на биологии, мы этим самым говорим, что этика основывается на совокупности всех позитивных наук, что она есть самое главное применение всей позитивной философии. Ближайшее основание этики то же, что и для каждого искусства: научное предвидение, которое дается всей позитивной философией и, в последнем счете, социологией,—и именно предвидение того влияния, какое оказывают наши действия и наши склонности на человеческую жизнь, как частную, так и общественную 2).
Этот второй тезис позитивной морали уже менее, чем первый, отмечается в популярных изложениях позитивизма. Однако достойна серьезного внимания третья черта позитивной философии, которая совершенно не указывается в этих изложениях. Помимо указанных своих сторон, позитивная философия характеризуется тем, что она, в противоположность всякому революционному, отрицательному и разрушительному направлению философской и политической мысли, есть философия консервативно - созидательная. Вооружаясь против теологического и метафизического мировоззрения и противопоставляя им позитивное мировоззрение, Конт не идет против той цели, какую ставили себе теологическая и метафизическая философия— достигнуть строгого единства умов и управлять миром, он сохраняет старый принцип, что идеи управляют миром (les idées gouvernent et bouleversent le inonde, ou, en d’autres termes, tout le mécanisme social repose finalement sur des opinions) 2), он лишь хочет обосновать эти цели на естественно-научном фундаменте, соединить единство с прогрессом. Истекающее из любви к человечеству стремление нравственно воспитать и реорганизовать общество служит единственным мотивом его философско-научной деятельности, так как все свои морально-политические упования
1) Cours de philosophie positive, VI, 737: les règles morales... pourront ainsi reposer convenablement sur une irrécusable appréciation de l’influence réelle, directe ou indirecte, spéciale ou générale, que l’existence humaine, soit privée, soit publique, doit habituellement recevoir de nos actes et de nos tendances quelconques, successivement jugés d’après l’ensemble des lois de notre nature, à la fois individuelle et sociale.
2) Cours de philosophie positive, I. 40—41, pyс. пер. 21.
438
он возлагает на позитивную философию. «Основное свойство науки, названной мною положительной философией, которое, по своему громадному практическому значению, должно более всего привлечь к ней всеобщее внимание, состоит в том, что положительную философию можно считать единственной прочной основой общественного преобразования, имеющего положить конец тому критическому состоянию, в котором так давно уже находятся наиболее цивилизованные народы» 1). Отсюда священная формула позитивизма: l’amour pour principe, l’ordre pour base, et le progrès pour but. С этой стороны Конт стоит в генетическом родстве с той идеологической философской школой, которая развилась во Франции после революции и к которой принадлежат Кабанис, Кондорсе, Вольней, Сен-Симон: это, после католичества, вторая школа, в которой воспитался Конт, хотя он впоследствии и отрекался от Сен- Симона, которому особенно много был обязан 2). Насколько
1) Ibid.
2) См. Fr. Picavet Les idéologues (Paris 1891) и A. Schaefer Die Moral-philosophie Auguste Comte’s (Basel 1906)—Einleitung. О зависимости Конта от Сен-Симона см. также у П. Барта Философия истории как социология. Ретроградное значение позитивизма остроумно разъясняется в книге Е. Спекторского Очерки по философии общественных наук вып. 1 (Варшава 1907). Пропагандировавшийся Контом уже с 1819 года, позитивизм был провозглашен во всех его подробностях в 1822 году, в «Плане научных работ, необходимых для преобразования общества». И вот, как показывает уже заглавие, главная цель, которая при этом преследовалась, носила не столько научный, познавательный, сколько практический, общественный характер. Позитивизм, согласно этому плану, должен был быть не столько координацией фактов, сколько средством для прекращения «анархии умов», той «глубокой нравственной и политической анархии, которая, по-видимому, угрожает обществу близким и неизбежным разложением». В качестве такого средства позитивизм означал «органическую доктрину, которая заставила бы королей покинуть ретроградное направление, а народы—направление критическое», которая создала бы новое «моральное правительство», призванное в качестве «истинной компактной и активной коалиции», по-видимому, конкурировать не с кем иным как с тогдашним священным союзом монархов. Таким образом позитивизм призывался и к познанию объективной истины, и к социальному преобразованию, и к успокоению взволнованной мысли и чувству. Иначе говоря, он означал не только новую науку, но еще новую социальную программу и (уже тогда) даже новую религию... Во Франции слово позитивизм было произнесено впервые по поводу великой революции теми
439
Конт сам ясно сознавал свои созидательные тенденции, показывают следующие его слова в предисловии к Caté-
публицистами, которые или разочаровались в ней, или сразу стали в оппозицию к ней, или же созерцали и оценивали ее сбоку, издалека, из чужбины, в качестве эмигрантов. Бональд противопоставлял «негативному обществу»—«общество позитивное», основанное на «позитивных идеях»; и для осуществления такого общества он считал необходимою »единую философию», которая была бы способна вытеснить множество спорящих друг с другом философий и таким образом связать людей общностью теоретического исповедания. Барант, Сен-Симон, уже до Конта, называли «критическим» то, что Бональд называл «негативным». Единственный выход из «критической эпохи человеческого духа» Барант, как и Бональд, видел в успокоении умов новым мировоззрением. Словом, как надеялась и госпожа Сталь в своем проекте прекращения революции, если «философы сделали революцию, то они же ее прекратят» путем влияния на умы доктриною, способною их успокоить, доктриною, которая, в отличие от прежних «негативных» учений, должна носить «позитивный» характер или, как более определенно выражался мечтавший о том же Ж. де Местр, должна означать победу «христианизма» над «философизмом». Таким образом позитивизм есть явление гораздо более широкое и значительное, чем принято полагать, явление не исключительно «теоретико-познавательное», а общественное. Благодаря недостаточному вниманию к этому обстоятельству, хотя о нем писали очень много, быть может, даже гораздо больше, чем это действительно требуется сущностью дела, он далеко не выяснен во всем своем значении, как историческом, так и принципиальном. И этим объясняется множество связанных с ним недоразумений. Главные два недоразумения состоят в том, что в нем чрезвычайно часто видят исключительно научно-философскую теорию, и в том, что утверждают, будто он в приложении к общежитию заменяет низшие ступени теоретичности высшею и даже наивысшею. Между тем в позитивизме очень важную, если не господствующую, роль играли вненаучные, быть может даже противонаучные, моменты социально-религиозного характера. И благодаря этому сторонникам позитивизма, как будто бы исключительно научной теории, приходится так странно и двойственно относиться к Конту: с одной стороны его всячески прославляют как апостола настоящей, единственно возможной науки, как вдохновителя всей теоретической философии XIX века; с другой же стороны те же самые люди объявляют, что Конт сошел с ума и писал всякий вздор, и поэтому считают необходимым на половину по крайней мере отречься от него. Как бы однако ни были неприятны и несимпатичны многим поклонникам позитивизма те ненаучные элементы, которые с ним связаны едва-ли только случайно или же патологически, эти элементы все-таки остаются на лицо. И игнорировать или отвергать их, сохраняя однако позитивизм, еще далеко не значит действительно покончить с ними или же действительно сохранить позитивизм. Сам Копт категорически
440
chisme positiviste. «В течение тридцати лет своей философской и общественной карьеры—писал он здесь—я всегда чувствовал глубокое презрение к тому, что называли, при наших разных режимах, оппозицией, и скрытую близость к каким бы то ни было созидателям. Даже те, которые хотели строить из материалов явно негодных, постоянно казались мне более достойными предпочтения, чем чистые разрушители,—в век, когда всеобщее восстановление становится всюду главною потребностью. При всей отсталости наших официальных консерваторов, наши чистые революционеры кажутся мне еще более далекими от истинного духа нашего времени» 1).
Все эти стороны позитивизма нужно иметь в виду, чтобы понять его нравственное учение, в собственном смысле этого слова.
Мы уже сказали, что этика является у Конта применением социологии. Социология разделяется на статику и динамику, которым соответствует разделение биология на анатомию и физиологию: социологическая статика имеет дело с условиями социологического существования, с взаимоотношением элементов социальной системы—с личностью, семьей и обществом, а динамика изучает законы непрерывного развития человечества. Иначе сказать—первая изучает условия порядка, вторая—законы прогресса. Для этики преимущественное значение имеет глава, посвященная социальной статике (50 leçon в IV томе Курса позитивной философии). Здесь-то Конт ближе всего подходит к Фейербаху. Он утверждает, что человеку свойственна la sociabilité fondamentale, l’irrésistible tendance sociale, что ему прирожден
объявил, что позитивизм по существу своему слагается из философии и политики, которые необходимо неразлучны». Произвольно выбирать из этой программы только то, что нравится, это значит рассекать живое целое на части и принимать кусок мертвечины за все целое и притом живое целое... Будучи реакцией против революции и, как выразился Конт, «доктриною, которая всегда стремилась радикально дискредитировать революционных вождей», позитивизм реагировал также и против тех теорий, которые, как казалось позитивистам, содействовали революции, если даже не вызвали ее. Сообразно с этим эта доктрина была реакционна и в теоретическом отношении. (Стр. 189—197). И т. д.
1) Catéchisme positiviste, р. 4.
441
инстинкт социальности, альтруизм, которым прежде всего и объясняется человеческая нравственность, имеющая это органическое основание. Конт, разумея сенсуалистическую философию ХVIII века, считает заблуждением, с одной стороны, отдавать высшее руководство человеческой жизнью исключительно разуму (attribuer aux combinaisons intellectuelles une chimérique prépondérance dans la conduite générale de la vie humaine), a с другой стороны—до нелепости преувеличивать безусловное влияние потребностей на мнимое образование наших способностей (exagérer, au degré le plus absurde, l’influence absolue des besoins sur la prétendue création des facultés) l). Это не значит, чтобы Конт отрицал значение разума в этической культуре,—далеко нет. Он равно признавал две основы этой культуры—органическую и интеллектуальную: нравственность возникает из чувств, но развивается при содействии нашего разума, вследствие чего нравственность, элементарно свойственная животным, в строгом смысле составляет достояние человека. Именно разум убеждает человека, что общественное единство возможно лишь на основе альтруизма, а не эгоизма, что этим путем человек всего скорее может достигнуть своего счастья 2). Организация человеческая не вполне бла-
1) Cours de philosophie positive, IV, 384—385. В Système de politique positive, IV, 20 Конт говорит: la doctrine de l’altruisme inné’ permet seule d’instituer une morale systématique.
2) До какого пафоса может подниматься здесь позитивная этика, показывает, напр., эта страница из Catéchisiez positiviste (278): Outre que notre harmonie morale repose exclusivement sur l’altruisme, il peut nous procurer aussi la plus grande intensité de vie. (Cp. этику Гюйо). Ces êtres dégradés, qui n’aspirent aujourd'hui qu’à vivre, seraient tentés de renoncer à leur brutal égoïsme s’ils avaient une fois goûte' suffisamment... les plaisirs du dévouement. Ils comprendraient alors que vivre pour autrui fournit le seul moyen de développer librement toute l'existence humaine; en l’étendant simultanément au présent le plus vaste, au plus antique passe, et même au plus lointain avenir. Les instincts sympathiques comportent seuls un essor inaltérable, parce que chaque individu s’y trouve seconde par tous les autres, qui compriment, au contraire, ses tendances personnelles. Voilà comment le bonheur coïncidera nécessairement aves le devoir. Sans doute, la belle définition do la vertu,... comme un effort sur soi-même en faveur des autres, ne cessera jamais d’être applicable. Notre imparfaite nature aura toujours besoin d’un véritable effort pour subordonner à la sociabilité cette personnalité qu’excitent continuellement nos conditions d’existence. Mais, quand ce triomphe est enfin obtenu, il tend spontanément, outre la puissance
442
гоприятствует этическому прогрессу, так как от природы в нас преобладает, во-первых, эгоизм над альтруизмом и, во-вторых, аффективные силы над интеллектуальными. Однако историческое развитие должно лишь видоизменить это природное отношение альтруизма к эгоизму и разума к чувству, должно дать относительное преобладание альтруизму над эгоизмом и разуму над чувством, тогда как всецелый переворот (l’inversion totale) в этом отношении, руководясь воображаемым идеалом, приводит лишь к трансцендентному идиотизму (une sorte d’idiotisme transcendant). Конт, подобно Фейербаху, решительно говорит о пользе эгоизма в общей экономии нашей жизни. Во взгляде на социально-моральное значение семьи Конт также напоминает Фейербаха. Семья—подлинная школа социальных чувств: только здесь человек впервые научается выходить из узких границ своего эгоизма и научается жить для других. Этот удивительный примитивный союз, в котором два существа сливаются совершенно воедино, превосходит своею интимностью всякое иное сообщество. Семья, по Конту, должна быть моногамическою и устрояться по принципу самой строгой субординации. Общество, в собственном смысле этого слова, дает дальнейшее развитие моральным началам человеческой жизни: оно этого достигает новым принципом — кооперации, который лишь смутно предчувствуется в семейной жизни и вполне развертывается в общественной. В последней находит себе применение—разделение труда, естественно приводящее к соединению сил. Это ведет к прочному развитию социального инстинкта, поскольку каждая семья чувствует свою тесную зависимость от всех других и, в тоже время, сознает свое собственное значение, исполняя ту или другую, во всяком случае—подлинно общественную функцию, более или менее необходимую в общей экономии 1). Правда, последовательно проведенный принцип разделения труда ведет к атомистическому раздроблению и угашает сознание общих интересов; но это лишь заставляет довести
de l'habitude, à se consolider et se développer d’après le charme incomparable inhérent aux émotions et aux actes sympathiques.
1) Cours de philosophie positive, IV, 420.
443
этот принцип до последнего предела и учредить le pouvoir spirituel—особый класс людей, имеющий своей заботой общие интересы. Так элементарные начала позитивной морали содержат уже в себе корни религии человечества.
Если социальная статика имеет дело, в сущности, с нравственными устоями общества, то и динамическая социология, в своих предположениях и своих выводах, имеет важное этическое значение. В этом случае мы разумеем не только то, что эволюция человечества, по мнению Конта, ведет к преобладанию чисто человеческих свойств над животными свойствами человека, но и этическое значение основного понятия человечества, как оно уже намечено выше. В последнем итоге для Конта понятия позитивности и социальности совпадают, и во всей его философии социально-созидательный интерес является преобладающим.
Мы видим, что мораль, как увенчивающее применение всей позитивной философии, находит свое естественное завершение в религии Человечества: о каком-нибудь разрыве здесь не может быть речи. Духовный деспотизм религии Человечества вполне соответствует ретроградному направлению позитивизма.
Между тем есть полное основание говорить о более или менее значительном перевороте в философских убеждениях Конта, о новом периоде в его жизни—ma seconde vie, как он сам выражается 1). И мы спешим отметить, что этот переворот связан с его отношением к нравственной проблеме и, в частности, к положению этической науки в энциклопедической системе. Нравственный интерес всегда был преобладающим в философской карьере Конта. Говоря словами Милля, Конт был нравственностью упоенный человек (подобно как Спиноза был, по выражению Новалиса, Богом упоенный человек).
В этом отношении Конт был недоволен своею первою системою, изложенною им в Cours de philosophie positive, с той именно стороны, что там энциклопедическую систему завершала социология, а в новой системе, в Système de politique positive 2), эта роль принадлежит науке, вновь
1) Système de politique positive, III, 5.
2) Точнее сказать, seconde vie Конта началась не с первого тома Système de politique positive, который еще держится на точке зрения
444
присоединенной к прежней энциклопедической системе,— нравственной философии 1).
Методологически это изменение можно выразить так:, прежде Конт построил свою энциклопедическую систему по объективному методу, а теперь по методу субъективному, прежде преобладающую роль приписывал разуму, а теперь чувству или сердцу 2). Раньше Конт смотрел на человека с космологической точки зрения, и мораль, как искусство, была для него приложением научно-позитивной философии; в Системе же позитивной политики Конт стремится достигнуть единства в знании и жизни с субъективной точки зрения 3), с точки зрения не разума, а чувства, и моральная наука является у него уже вершиною энциклопедической системы. Легко понять, что мы должны натолкнуться на значительные неясности, поскольку передвижение основной точки зрения происходило во время самой работы. Так субъективность метода сначала имела смысл родовой субъективности, взгляд на все с точки зрения человечества 4), но затем эта субъективность постепенно заменялась индивидуальною субъективностью, когда новая система Конта достигла своего завершения. Невидимому переход от родовой субъективности к субъективности индивидуальной представляется незначительным, маловажным,—на самом деле, говоря о субъективности родовой, Конт еще остается на точке зрения Курса позитив-
Курса, а со второго тома и с Catéchisme positiviste, который появился между первым и вторым томами Системы позитивной политики.
1) Вот как об этом говорит сам Конт в Système de politique positive, III, 5: ... principal contraste encyclopédique de ma construction religieuse (нужно иметь в виду, что Système de politique positive имеет подзаголовок ou traite' de sociologie, instituant la religion de l’humanité') envers mon élaboration philosophique. Celle-ci représenta la sociologie comme l'aboutissant universel; tandis qu’ici cette suprématie n’appartient qu’à la morale, qui, d’après l’ensemble du volume précédent, constitue seule le terme de la science et la source de l’art.
2) Cp. (и для дальнейшего) A. Schaefer Die Moralphilosophie A. Comte’s, 75.
3) Système de politique positive. II, 30: Toute synthèse doit être subjective, quoiqu’elle ne comporte de r 'alite' que d’après une base objective.
4) Système de politique positive, I, 579: il n’y a plus de véritable unité que par la méthode subjective, en rapportant au vrai Grand-Être toutes les études réelles, tant abstraites que concrètes.
445
ной философии, но, переходя к индивидуальной субъективности, порывает с ним. Нет пропасти между позитивной философией и религией человечества, нет также пропасти между позитивной философией Курса и субъективно-родовым синтезом, но необходимо констатировать решительный разрыв между позитивной философией и субъективно-индивидуальной точкой зрения. Отношение между объективно-научной системой и субъективным мировоззрением образует центральный пункт в религиозно-этической проблеме, и, отмечая наличность сознания этого отношения в философии Конта, мы ео ipso делаем ей рекомендацию самую лучшую с точки зрения современного религиозно-этического сознания: Конт поднялся до высшей постановки религиозно-этического вопроса. И что он сделал по этому вопросу, весьма поучительно. Решая ныне этот вопрос, нельзя пренебрегать тем, что уже сделано, помимо других, и Контом. Его основная мысль, что точки зрения объективно-научная и субъективно-этическая могут гармонично сочетаться, отличается глубиною и верностью. Но не более того. У Конта глубоко и верно поставлена проблема, но не решена. Он слишком односторонне и далеко провел свою первую систему, чтобы быть свободным от ее последствий во второй период. С позитивным изъяснением природы и истории гармонирует субъективный синтез, но он не гармонирует с пониманием морали, как приложением позитивной философии, с отрицанием психологии. Открывается целый ряд противоречий между Курсом позитивной философии и Системой позитивной политики, целый ряд непоследовательностей 1) — особенно во второй
1) Достаточно указать на то, что в системе позитивной философии находят себе место элементы интуитивной этики, как это отмечено у I. Martineau Types of ethical theory, vol. I, 501—502:.. The defect was in his theory, non in himself: his writings are imbued with an intense moral feeling: he lays the utmost stress upon the sentiment of Duty; and its deep root in his nature may perhaps be the very reason why he gives no account of it, but assumes it as self-evident that the social sympathies ought prevail, and so sets himself to make out that they can prevail. Need I say, that this is not Positive science, but intuitive morals? What else indeed can we make of his remarkable statement, that moral rules are to be laid down as self-evident and beyond discussion; inasmuch as, by a true knowledge of ourselves, we read them in every affection, thought, habit, and
446
системе. Конт не мог провести более или менее решительно разделения между политикой, как выводом из социологии, и нравственностью, как приложением науки об. индивидуальной природе человека: религиозный принцип духовного деспотизма он вносит в политику, а ригористический принцип подчинения навязывает индивидуально-нравственной жизни,—вместо того, чтобы поставить идеалом свободу условного развития общественных форм жизни и свободное сочетание всех сторон личной жизни. В этом находит свой последний приговор и религия Человечества. Конт воздвигает религию на нравственном идеале единства. Но проект такой религии может быть удачным лишь в том случае, если она, в прямом и непосредственном применении, ограничивается лично-духовною областью. Иначе неизбежна вечная трагедия, возникающая от применения религиозно-этической абсолютности к условной области политики, и в судьбе Конта не в первый раз разыгралась эта вечная трагедия. Все рассуждения Конта о субъективно-индивидуальном синтезе, как ни ценны они сами по себе, остаются пустым звуком в целой системе его философии, так как он никогда не мог освободиться от придавливающей тяжести своего идола le Grand-Être. И оказалось, что к раннему парадоксу,, что человек есть чистая абстракция, он во «вторую свою- жизнь», в сущности, добавил лишь ригористическое требование решительного пожертвования личностью в пользу этого идола—Человечества. La personnalité представляется в резкой противоположности к la sociabilité 1). Vivre pour autrui обращается в высший долг, который допускает каждому ухаживать за своим телом и пользоваться естест-
action, with а conviction as complete as the strictest demonstrations could give,—a conviction arising simply from their intimate relation to the noblest instincts. Yet more explicitly he adds, that the reason why we must not rely on proof to produce moral convictions is, that proof is necessarily objective,, fetched from observation and judgment exercised on others; whereas appreciation, to be moral, must be subjective, drawn from the inward consciousness of our own character. These propositions alight upon momentous truths; but it is curious to receive them from one who habitually ridicules the «pretended possibility» of self-knowledge, amounting as they do to an, explicit assertion of intuitive and psychological morals.
1) Système de politique positive, II, 387.
447
венными благами лишь в той степени, в какой это согласно с социальным назначением (destination sociale) 1), который требует, чтобы сильные приносили себя в жертву слабым (le dévouement des forts aux faibles) 2). Чем оправдывается такая жертва? Закрадывается в душу ужасное подозрение, но есть ли это принесение живых в жертву мертвым, которые над ними господствуют,—в жертву абстрактному Человечеству? Человечество не может быть признано Абсолютом, который оправдывал бы такие жертвы. Критика Фейербаха вполне приложима и к Конту. Исчерпывающее и основательное суждение о позитивном социологизме Конта находим у Фулье 3), который остроумно доказывает невозможность социологической универсальности (абсолютности), так как универсальность может быть только логическою к метафизическою. При всем громадном значении общества для индивидуума, нужно признать и индивидуум реальною силою и реальною ценностью. Хотя полное развитие разума человеческого возможно лишь в обществе, однако, по своей природе, разум есть сила индивидуальная: обществом человеческим предполагается разум, а не разумом предполагается общество (c’est la société humaine qui présuppose l’intelligence, ce n’ est pas l’intelligence qui présuppose la société humaine). Нельзя сказать, что личность всем обязана обществу, что самая индивидуальность создается обществом. Полная человеческая личность может раскрыться лишь в обществе, но это не значит, чтобы сама индивидуальность была абстракцию, ибо в таком случае общество слагалось бы из абстракций (l’humanité ne peut être composée d'abstractions). Называя человечество вечным и неизмеримым, Конт погружается в туман онтологии. Что бы ни говорил Конт, человечество не может быть Высшим Существом: оно есть лишь реальный и практический заместитель универсального общества (quoi qu’en dise Comte, Г humanité n’ est pas le grand Être: elle n’ est que le substitut réel et pratique de la société universelle). Но всякая человеческая социальность, в своей действительности, настоящей или будущей, не тожественна
1) Système de politique positive, IV, 285.
2) Ibid. 329.
3) A. Fouillée Les éléments sociologiques de la morale, 1905, p. 283—285.
448
с нравственною целью. Нравственность есть реализация идеальной жизни, которая стоит выше различия между я и другие, рассматриваемые как центры частных желаний и интересов. С идеальной точки зрения истина, например, имеет ценность сама по себе, независимо от ее полезности, личной или даже общественной. Каким образом было бы возможно общественное благо, если бы не было никакого личного блага? Если моя жизнь, не есть благо сама по себе и благо для меня самого, то как становится она благом для вас в тот момент, когда вы бросаетесь в воду, чтобы вытащить меня? Из нулей ценности, умноженных на бесконечность пространства и времени, вы не составите реальной ценности (avec des zéros de valeur multipliés à l’infini dans le temps et l’espace, vous ne constituerez pas une réelle valeur). Для того, чтобы я чувствовал себя обязанным по отношению к другому, нужно, чтобы в другом и вместе с тем во мне самом было нечто такое, во имя чего я чувствовал бы себя обязанным, было нечто более ценное, чем все остальное. Долг по отношению к другим есть в сущности долг по отношению к самому себе. Я не могу вас уважать, если я не уважаю себя: справедливость требует, чтобы сознательное я было священно во всяком существе, чтобы мое я было так же неприкосновенно для вас, как ваше для меня. Мало того. Даже любить я вас могу лишь в том случае, если люблю себя, если люблю в себе то, что в вас считаю достойным любви. Не со одной только снисходительности по отношению к другим, по милости к ним—я должен быть справедливым и добрым: я обязан пред собою быть добрым по отношению к вам (je suis obligé envers moi à être bon envers vous). Не уважая ваше достоинство, я в то же время не уважаю собственное достоинство; унижая вашу человеческую личность, я унижаю собственную; если я проявляю злость по отношению к вам, я делаю зло себе. Ударяя вас, я ударяю себя самого, унижаю себя до зверства. Все, чем я обязан по отношению к вам, я обязан по отношению к себе; что я делаю для вас, я делаю для себя,—чем погрешаю против вас, погрешаю против себя. Здесь дело не в одном механическом отражении всякого моего действия по отношению к вам, в механическом противодей-
449
ствии с вашей стороны,—здесь дело в существенном тождестве истинных человеческих благ. Мое высшее бескорыстие есть мой высший интерес,—совершенная любовь к другому есть совершенная любовь к самому себе (mon suprême désintéressement est mon suprême intérêt, le parfait amour d’autrui est le parfait amour de moi-même). С нравственной точки зрения, другие люди это мои другие я. Поэтому, чтобы быть социально связанными и зависимыми, нужно, чтобы нравственно мы были независимы: чем сильнее наше индивидуальное существование, тем более мы можем реализовать коллективное существование,—и обратно. Абсолютный альтруизм Конта попадает в тот же безвыходный круг, как и абсолютный эгоизм. Нужно искать синтеза, и элементы этого синтеза нужно реализовать в личности. Истинная природа человека не находит своего высшего и всецелого выражения в социальности. Нравственное суждение должно обнимать не одни лишь социальные последствия человеческих поступков; должно искать их принципов или источников в индивидууме, в его собственном характере и в его личной совести 1)...
(Продолжение следует).
1) В февральской кн. В,—В. на стр. 247-2-43 следовало сделать ссылку на Историю этики Иодля.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
