13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Бем А. Л.
Бем А. Л. Тайна личности Достоевского
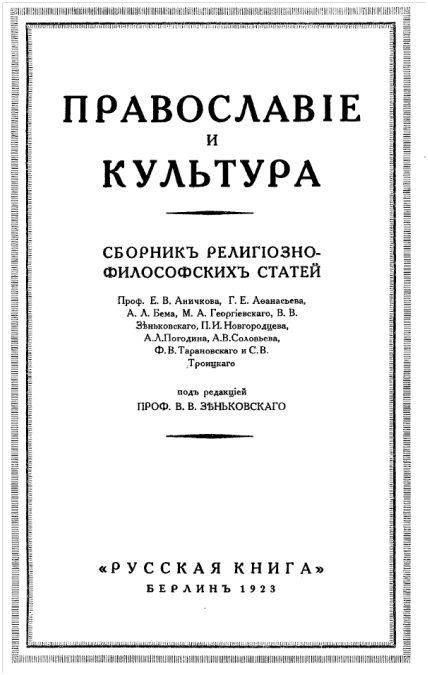
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
А. Л. Бем
ТАЙНА ЛИЧНОСТИ ДОСТОЕВСКОГО.
Странное чувство неудовлетворенности остается у всякого, кто внимательно изучает источники биографии Достоевского. «Нет, тут что-то не так», говоришь себе, по мере углубления в его изучение. Не может быть, чтобы жизнь Достоевского была только такая. Это чувство неудовлетворенности влечет ко все более углубленному изучению, заставляет рыться в воспоминаниях, в записках, разыскивать намеки на скрытое в жизни Достоевского и стараться их расшифровать. Но чем дальше, тем больше усиливается внутреннее убеждение, что самое главное, что могло бы дать ключ к личности писателя, остается скрытым от нас. Это отметил и Д. С. Мережковский, говоря о Достоевском: «мы не только всего, но, может быть, и очень важного не знаем, и лишь по намекам в письмах его, по устным преданиям и, наконец, в особенности по тому, как личность отразилась в творчестве, догадываемся, что целая сторона ее скрыта от нас». Как-то так случилось, что величайший из русских писателей даже ко дню столетия своего рождения остался без биографии. Ведь все то, что мы знаем о жизни Достоевского, так мало прибавляет к тому, что мы знали о нем уже тогда, когда ничего кроме произведений его не читали. И повторяем, не расширение знания выносим мы от знакомства с его жизнью, а чувство непостижимой загадки. Точно вокруг Достоевского составился какой-то заговор, который имел целью скрыть от нас именно то, что бросило бы луч света в темное царство внутреннего мира писателя.
Внешнее объяснение, может быть, даже и убедительное, можно-бы дать весьма легко: достаточно указать на нелюбовь самого Достоевского говорить о себе и привлекать к себе внимание, на его чрезмерную болезненную замкнутость, ложную скромность ближайших его друзей, которые многое скрыли от нас из того, что они сами знали, а главное — на органическое непонимание со стороны ближайших к Достоевскому лиц того, что Апокалипсис называет «глубинами сатанинскими» (слова Мережковского) и что было так сродни душе Достоевского. Если хотите, здесь было и сознательное сокрытие чрезвычайно важных моментов жизни Достоевского, из боязни замутить его образ, бросит тень на его личность. Чувство ложное, потому что не праздное любо-
181
пытство толпы к интимным сторонам жизни писателя влекло к его изучению, а непреодолимая потребность понять его во всей его сложности и противоречивости. Мы давно знали, что наследие Достоевского хранит много для нас неожиданного, но наследие это тщательно охранялось женою писателя, ныне покойной, Анной Григорьевной. Кое-что начинает проникать в печать; так, воспоминания дочери писателя, Любови Достоевской, вводят ряд очень любопытных фактов, до сих пор вовсе неизвестных; ведется большая работа и в России над материалами Исторического Музея. Но все же и сейчас еще Достоевский—«писатель без биографии».
Можно ли это обстоятельство до конца объяснить одними внешними причинами? Нет-ли органического порока в самой жизни Достоевского, который навсегда замыкает путь к его личности чрез изучение его биографии?
II.
Чем ближе узнаешь смену событий многострадальной жизни Достоевского, тем яснее становится, что в этой смене фактов его жизни нет того, что так выпукло заполнило книги его жизни, его романы. Вся сила «жестокого» таланта Достоевского в его поразительных обнажениях душевяых тайников человеческой души, почти патологической страсти к выявлению порочных сторон человека. «Рассматривая личность Достоевского, как человека», говорит Д. О. Мережковский, «должно принять расчет неодолимую потребность его, как художника, исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца, преимущественно бездны сладострастия во всех его проявлениях ь. И все настойчивее встает перед исследователями жизни Достоевского смущающий вопрос, мог-ли он все это узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими людьми», (подчеркнуто Д. О. Мережковским).
Конечно, нет; конечно, был тут и личный опыт жизни Достоевского. Но этот опыт особого характера.
Вся жизнь Достоевского поражает одной чертой — замкнутостью его личности. Сама внешняя обстановка содействовала этому. Угрюмое детство, с недетскими переживаниями «детских униженных лет» (слова Достоевского о «подростке»), закрытое учебное заведение, из которого он вышел с одной мечтой «все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать» («Записки из подполья»), крепость, смертный приговор и каторга, затем солдатчина и тяжелая семейная жизнь — все это отрезало его от живого потока жизни. Интересно проследить, как у Достоевского нарастает это чувство замкнутости в себе, отрезанности от внешнего мира. Еще в 1847 г. в письме к брату Михаилу, он уже сознает, по личному опыту, опасность этой черты своего характера: «Видишь-ли», пишет он, «чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Внешнее должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни ...*)
Это не наблюдения над другими, а описание своего опыта, точная передача уже наступившего психического «неравновесия» между внешним и внутренним. Что к этому могла прибавить крепость и каторга? «Вот уже пять месяцев без малого», пишет Достоевский из крепости 14 сентября 1849 г., «как я живу своими средствами, т. е. одной своей головой и больше ничем. Покамест еще машина не развинтилась и действует. Впрочем, вечное думанье и только одно думанье, без всякихвнешних впечатлений, чтобы возрождать и поддерживать душу — тяжело! Я весь как будто под воздушным колпаком, из под которого воздух вытягивают. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль, все, решительно все, и несмотря на то, эта работа с каждым днем увеличивается. Книги есть капля в море, но все-таки помогают. А собственная работа только, кажется, выжимает последние соки. Впрочем, я ей рад **).
Обратите внимание на это последнее «я ей рад» и вы поймете, как близки к личному опыту Достоевского переживания человека из подполья с его боязнью живой жизни, при столкновении с которой ему «дышать становится трудно».
Напряженно страстная натура Достоевского, точно по злому року, была замкнута в себе, не находила выхода. «Яд неудовлетворенных желаний, вошедший внутрь», делал свою разрушительную работу. То, что казалось сначала опасным признаком пси-
*) Биография. Письма н заметки из записной книжки с портретом н приложениями. СПб. 1883, отд. 2, стр. 61.
**) Биография, отд. 2, стр. 71.
183
хического неравновесия, становится мучительным наслаждением. Желания ищут выхода во вне, человек из подполья уже находит своеобразное наслаждение в своей закупоренности. Он говорит сам об этом: «желания все из меня наружу просились, но я их не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и — надоели мне, наконец, как надоели». («Записки из подполья»),
Однообразные дни «каторжной» жизни, ибо жизнь Достоевского была каторжной почти на всем ее протяжении, точно капли осеннего петербургского дождя, — давили сознание и рождали болезненные видения.
Сознание двоилось — жизнь казалась сном, а видения плели новую жизнь, отражавшую подлинное внутреннее бытие. И разве не подлинный опыт дал возможность Достоевскому глубоко и тонко проанализировать сущность фантазии? «Мечтатель — сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный фантастический мир. Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее!» («Белые ночи»),
Так мы подходим к ответу на «смущающий« вопрос. Да, написанное Достоевским есть отражение его подлинного опыта, но этот опыт далеко не всегда находил себе выражение во вне, в фактах его жизни. Он жил внутри себя и внутри проделывал свой жизненный пут. Здесь были свои вершины моральных достижений, но здесь же и были неизведанные глубины человеческих провалов, «седьмое хрустальное небо» и бездна греха содомского. Конечно, подземные потоки иногда бурно прорывались наружу, но эти прорывы Достоевский тщательно скрывал и следы их можно лишь отыскать в его произведениях. Недаром один из его героев говорит о себе: «как нарочно, в те; самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого ... мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые...» («Человек из подполья»). Но, как общее правило, жизнь, и святая и преступная, шла внутри и создавала свой странный фантастический мир.
Такого душевного напряжения психика человека долго выдержать не может, и Достоевский был несколько раз, как он
185
еам сознается, на грани сумасшествия. Но его спасла не «кошачья живучесть», как он думал, а его необычайная творческая сила. Он был художником и обладал исключительным даром объективирования своих внутренних переживаний. Творчество явилось той освобождающей силой, которая спасла Достоевского от душевного заболевания, дала выход его внутреннему напряжению. Инстинктом Достоевский сам чувствовал целительное значение своего творческого дара и, вопреки запрету, в припадках особого нервного напряжения садился писать; говоря его словами: «когда такое нервное время находило на меня прежде, то я пользовался им, чтобы писать, — всегда в таком состоянии напишешь больше и лучше ...» *) Это и дает нам право, больше чем у кого-либо, искать у Достоевского отражения его субъективных переживаний в творческих образах его произведений. Эта сторона давно, конечно, подмечена. Ф. Д. Батюшков, например, говорит: «Достоевский, испытывая себя, больше жил в других, подыскивая объективные формы даже для субъективных переживаний. И он более полно и цельно высказал свое, когда обратился к созданию типов и характеров, быть может, отвлеченных по замыслу, но приобретших под его пером удивительную жизненность».
Так в образах романов Достоевского создавалась другая жизнь, более реальная, чем его внешняя «каторжная». Эту вторую, единственно подлинную его жизнь можно постичь только через его произведения, в которых объективирован второй, глубинный ток его жизни. Перед биографом Достоевского становится трудная задача, которая по силам лишь человеку с большой психологической интуицией — воссоздать духовный облик Достоевского на основании отражения его индивидуальности в объективных данных его творчества. Не объяснение творчества через познание жизни, а воссоздание жизни через раскрытие творчества — вот пут к познанию тайны личности Достоевского.
III.
Достоевскому снилась иная жизнь, и эти сны, почти галлюцинации, облекались в плоть и кровь его произведений.
Творчество Достоевского неоднократно объяснялось его психической неуравновешенностью; временами эти объяснения доходили до чисто медицинского анализа его произведений. Нам ду-
*) Письмо М. М. Достоевскому 27 авг. 1849 г. Биогр., отд. 2, стр. 70.
185
мается однако, что следовало бы допытаться пойти обратным путем. Если творчество Достоевского есть продукт его болезненной душевной организации, то именно анализ творчества должен дать нам материал для воссоздания его личности во всей ее психической сложности.
Мы боимся в этом вопросе впасть в крайности новейшего увлечения так, называемым «психоанализом», но все-же думаем, что осторожное приближение к методам школы Фрейда может дать неожиданные результаты.
Для того, чтобы в самом начале не впасть в методологическую ошибку, необходимо прежде всего оттенить, что творчество, как особое состояние психики, само по себе имеет много общих черт с явлениями сна и галлюцинаций, которые приковывают сейчас такое внимание. Р. Мюллер — Фрейенфельс в своей «Поэтике» совершенно правильно отмечает, что «произведения писателей являются снами их эмоциональной сферы, олицетворениями и драматизациями их скрытых желаний, опасений и влечений, которыми они восполняют и преображают действительность. никогда не дающую полного удовлетворения.» *)
Если мы в дальнейшем позволим себе говорить о «произведениях-снах» Достоевского, то мы этим только хотим сказать, что общие черты между творчеством и сновидением у Достоевского выражены особенно выпукло и ярко. Это дает нам право в этой особенности творчества Достоевского искать объяснения его индивидуальности.
Уже раньше бросилась в глаза особая черта в творчестве Достоевского: он уничтожает границы между сном и действительностью, может быть даже между бытием и небытием.
Сначала видение, больной призрак воображения, потом реально действующее лицо — грань исчезает, и ее точно не чувствует сам автор (см. появление Свидригайлова), именно поэтому только Достоевский с такой невероятной наивностью мог построить сюжет целого рассказа на смешении действительности со сном («Дядюшкин сон»),
При ближайшем рассмотрении произведений Достоевского все его творчество рисуется фантастическим, но в то же время, как галлюцинация, — реальным видением. Вспомните хотя бы «Записки из подполья», одно из самых характерных произведений Достоевского. Лев Шестов в последней своей статье,
*) R. Müller-Freienfels- Poetik. 2. Aufl. Leipzig 1921, S. 20.
186
как всегда глубокой и талантливой, между прочим говорит: «сам Достоевский до конца своей жизни не знал достоверно, точно ли он видел το, о чем рассказал в «Записках из подполья», или он бредил наяву, выдавая галлюцинации и призраки за действительность.» *)
Это первое, самое общее впечатление от произведений Достоевского заставляет ближе приглядеться к манере его творчества и сопоставит его с явлениями сна.
Отличительная черта сна — невозможность полного исчезновения субъекта — носителя сна; его непременное участие в фантастическом действии объективированных образов. **) Когда снишься себе умершим, непременно хоть одним глазом видишь горе окружающих и плачешь среди присутствующих.
В произведениях Достоевского нередка манера рассказывать от чьего-то лица, как будто бы участника событий, но в то же время не играющего в них роли. Бледная, точно призрачная фигура — она всюду присутствует, она все видит и все знает, но сама остается за кулисами.
Этот странный наблюдатель чужой жизни собственно есть единственное лицо, в себе вмещающее всю сложную трагедию человеческих страстей. Как во сне, плачет и рыдает от давящих сознание сновидений лишь один, в себе переживающий трагедию многих снящихся, так и в произведениях-снах Достоевского этот, единственный всегда налицо, как будто незаметный, но вездесущий.
Во сне двоится сознание: «Я» переживающий и «Я» наблюдающий резко размежевывается в сновидениях. «Я» умер, «Я» — же плачу от жалости к себе. «Я» знаю во сне, что это «мне» снится, и «мне» жаль, что это только сон. Отсюда прямой переход к раздвоению личности в ее уже болезненных проявлениях.
Есть объективные свидетельства, что Достоевскому в высшей мере была присуща именно эта рефлективная способность. Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях говорит о Достоевском: «с чрезвычайною ясностью в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся, неколеблющуюся точку, с которой смотрит на
*) Современные записки, 1921 г. Кн. 8, стр. 142. Преодоление само-очевидностей.
**) Sigm. Freud- Die Traumdeutung. 1900. S. 79.
187
самого себя, на свои мысли и чувства.» *) Да и сам Достоевский хорошо знал в себе эту черту, ведь именно он писал следующие строки: «Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей ... — не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому, что это раздвоение в вас точь в точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было.. Это больная мука, но в то же время и большое наслаждение.» **)
Наличность этой черты подтверждается и произведениями Достоевского. У него стиранная страсть к изображению расщепленности сознания: его герои постоянно видят со стороны, мучительно, но и наслаждаясь этой мучительностью, переживают свое двойное бытие. В наиболее резкой, паталогической форме это раздвоение проведено Достоевским в его «Двойнике».
Это раздвоение в процессе объективирования своих душевных переживаний приводит к полярности характеров в произведениях Достоевского. Архитектонике его произведений эта полярность присуща в высшей мере (Раскольников-Свидригайлов, князь Мышкин-Рогожин, Аглая-Настасья Филипповна и т. д.).
Процесс объективирования переживаний в свою очередь сближает творчество Достоевского со сном.
Сон заполняется преимущественно зрительными образами, при чем переживания «персонифицируются». У некоторых лиц образы зрительные совмещаются с весьма яркими слуховыми образами. Это сближает явления сна с галлюцинациями, что дало возможность Фрейду утверждать, что «сон галлюцинирует, замещает мысли галлюцинациями». И разве творчество Достоевского сплошь и рядом не представляется нам сплошной галлюцинацией, почти бредом с удивительной яркостью зрительных и слуховых образов? Сам Достоевский не раз спохватывается в вихре головокружительных событий, которые проносятся перед ним, и восклицает: «все это как сон и бред» («Подросток»), «все это пролетело, как сон» или «право: нет-нет, да и мелькнет иной раз теперь в моей голове, уж не сошел-ли я тогда сума и не сидел-ли все это время где-нибудь в сумас-
*) Биография, отд. I, стр. 185 (ошибочная пагинация 275).
**) Биография, отд. 2, стр. 342.
188
шедшем доме, а, может быть, и теперь сижу, — так что мне все это показалось и до сих пор только кажется» («Игрок», глава XIII).
Мы уже указывали, что сон непременно отражает «Я» сновидца, и наличность этого «Я» всегда может быть вскрыта. Оно очень часто бывает замаскировано под влиянием своеобразной психической цензуры сна. Так, в «Белых ночах» Достоевский намекает на эту особенность своего творчества, внезапно в рассказе переходя с первого в третье лицо: «в этот час и наш герой — потому что позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать.» На помощь этой цензуре приходит особое свойство сна «идентификации», воплощения своих переживаний и чувств в образы других лиц, способности, которая сближает сон с явлениями истерии. «Они безусловно эгоистичны», говорит Фрейд: «где в содержании сна появляется не мое Я, а только чужое лицо, там я могу смело предположить, что мое Я при помощи идентификации скрыто за этим лицом. Я могу свое Я восполнить.. .» *) Но в соединении с расщеплением личности, как дальнейшим процессом раздвоения, идентификация приводит к распределению своих объектированных чувств и мыслей между рядом персонажей. «Бывают сны, в которых мое «Я» является рядом с иными лицами, которые путем вскрытия идентификации вновь предстают, как мое «Я» ... Я, следовательно, могу свое «Я» во сне представить несколько раз, сначала прямо, потом посредством идентификации с чужими лицами. При помощи ряда таких идентификаций возможно сгустит чрезвычайно богатый материал мысли.» **)
Достоевский в своих больших романах, — особенно это резко чувствуется в «Братьях Карамазовых», — дробит свое Я, идентифицируя разные стороны своей психики с отдельными персонажами. Собрать воедино «Я» Достоевского по его творческим снам заманчивая задача, но столь же трудная, как вскрыт личность сновидца по снам его.
Здесь мы подходим к одной из самых загадочных сторон творческих снов Достоевского, к его «неодолимой потребности, как художника, исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца, преимущественно бездны сладострастия во всех его проявлениях» (слова Д. С. Мережковского).
*) Ор. cit., S. 215.
**) Ibid.
189
Может быть больше, чем где бы то ни было, сближение творчества Достоевского с психологией сна способно отметить именно эту загадочную сторону его личности.
Сон обнажает человека, дает выход часто его самым низким страстям, которые наяву контролируются его сознанием. «Духи наших инстинктов и влечений, глубоко скрытые в нас, поднимаются в полночь нашего сна и, воплотившись в образы, ведут перед нами свой хоровод. Сон ужасающе глубоко освещает скрытые в нас Авгиевы конюшни, и мы видим ночью бродящих на свободе шакалов и гиен, которых днем разум держит на цепи.» *) И чем морально, прибавим — сознательно морально, т. е. процессом внутренней работы сознания, выше человек, тем глубже загнаны внутрь его инстинкты, его влечения. Сон мстит нам за дневную чистоту.
В снах-произведениях Достоевского мы видим те же обнажения самых затаенных уголков человеческой души. И если нас смущает художественное любопытство Достоевского к смердяковщине, к половому извращению, к буйным приливам страсти, то не обратиться ли за разъяснением к психологии сна и его законам?
Все же остается неразрешенным, может быть, самый страшный вопрос — ответствен-ли и в какой мере человек за свои сны? Вопрос этот решали поразному. Ницше считал желание снят с себя ответственность за сны слабостью и отсутствием мужества: «ничто в такой мере не принадлежит вам, как сны ваши. Ничто не является в такой мере вашим делом. Материал, форма, время, актеры, зрители — в этих комедиях всем являетесь вы сами. И именно здесь вы боитесь и стыдитесь самих себя.» Но, вероятно, ближе к истине те, кто учитывает творческую работу сна над материалом, им перерабатываемым из отрывков наших чувств и мыслей. Сон берет начало в самых скрытых тайниках души и уже из скрытых влечений и желаний плетет свои узоры. Надо думать, что прав один из старых исследователей психологии сновидений, Ф. Гильдебрандт, говоря: «нельзя себе представить ни одного поступка, совершаемого во сне, первоначальный мотив которого не промелькнул бы в душе бодрствующего как-нибудь раньше в виде желания, вожделения, побуждения». **) А какого рода мысли и чувства пробиваются даже в область сознательного, об этом сам Достоевский
*) Herbert Silberer. Der Traum. 1919. S. 119.
**) Hildebrand. Der Traum. S. 52.
190
говорит лучше всего в «Записках из подполья»: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но ест, наконец, и такие, которых даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их есть.»
Для правильного решения вопроса об ответственности за сексуальный характер сна, надо еще иметь в виду одну особенность психологии сна, обыкновенно упускаемую. Сон не отражает морального уровня данного дня, а воскрешает далекое прошлое, главным образом детство и период перехода к половой зрелости. «Инфантилизм» сновидений отмечен почти всеми исследователями; так Зильберер, между прочим, говорит: «Сон выдает детские фантазии, мстительного и разрушительного характера (они у детей встречаются чаще, чем это можно было бы предположить), которые ожили в данную минуту вследствие какого-либо стечения душевных переживаний.»
Опять чрезвычайно любопытно отметить упорное возвращение Достоевского в своих произведениях к воплощению детских переживаний, причем эти детские переживания необычайно ярко окрашены сексуально («Маленький герой», «Неточка Незванова»).
IV.
Мы не имеем возможности углубляться дальше в затронутую нами тему: это требовало бы от нас детального исследования творчества Достоевского под углом зрения психоанализа. Наша задача скромнее: мы хотели только в самых общих чертах наметит круг вопросов, всплывающих при таком подходе. В заключение позволим себе еще несколько остановится на отдельных приемах творчества Достоевского, на его эстетике и попытаемся объяснить бросающиеся в глаза особенности этих приемов, как следствие близости душевной настроенности Достоевского к психологии сна.
Неоднократно исследователей вводили в заблуждение постоянные утверждения Достоевского, что его романы отражают современную ему действительность. Сам Достоевский считал себя реалистом и был глубоко уверен в реальном бытии своих фантастических образов. Η. Н. Страхов говорит, что Достоевский
191
«не останавливался ни перед чем и, что бы он ни изображал, он сам твердо верил, что возводит свой предмет в перл создания, дает ему полную объективность. Не раз мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов, суть постоянное и обыкновенное явление в действительности и что мы только пропускаем их без внимания.» *) Сам Достоевский дает ключ к правильному пониманию своего реализма. Не о реально существующих фактах во вне говорит Достоевский, а о реальных фактах внутреннего мира, которые и должны объяснить факты внешней жизни. «Совершенно другие понятия имею я о действительности и реализме», пишет Достоевский, «чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихняго. Господи! пересказать толково то, что мы все, русские, пережили последние десять лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия. А между тем это исконный настоящий реализм, только глубже, а у них мелко плавает.» **) Достоевский себя считает «реалистом в высшем смысле, т. е. изображающим всю глубину души человеческой», и он совершенно прав, если отбросить обычную терминологию. Но, как сновидец, Достоевский свои внутренние переживания объективирует в образы и не может не верить в их реальное бытие, ибо, усомнившись, он спугнул бы свои фантастические видения — галлюцинации. Η. Н. Страхов совершенно верно подмечает эту сторону творчества Достоевского. «Часто мне приходило в голову», говорит он, «что если Достоевский сам явно видел, как сильно окрашивает субъективность его картины, то это помешало бы ему писать; если бы он замечал недостатки своего творчества, он не мог бы творить.» * **)
Эта способность Достоевского претворять внутренний мир своих ощущений и представлений в мир образов, ярко окрашенных чертами галлюцинаций, придает всему его творчеству особый фантастический колорит. Отдельные приемы его творчества стоят в самой тесной связи с этой особенностью.
«Превращение представления в галлюцинации является не единственным отличием сна от ему соответствующего мышления в состоянии бодрствования. Из этих образов сон создает по-
*) Биография. Отд. 1, стр. 226.
**) Биография, стр. 202. Письмо к Майкову.
***) Биография, отд. 1, стр. 226.
192
ложение, он представляет нечто, как происходящее сейчас, он драматизирует идею, как говорит Спитта.» *)
Все творчество Достоевского насквозь проникнуто драматизмом, что и объясняет легкость приспособления его произведений к театралым постановкам. Ему трудно дается повествование, и преимущественно действие переносится в настоящее время. Любопытно с этой точки зрения построение «Игрока». Форма повествования: дневник-записки, но все построение в головокружительном действии, совершенно лишенном повествовательного элемента. И когда, начиная с главы XIII-й, Достоевский заставляет продолжат героя свое повествование месяц спустя после развязки его личной трагедии, то он не только не в состоянии придать рассказу более спокойную эпическую форму, но сразу ставит нас в положение зрителей трагической развязки. «Роман Достоевского», говорит Д. О. Мережковский, — «не спокойный плавно развивающийся эпос, а собрание пятых актов многих трагедий», и этими словами правильно определяет эстетическое восприятие от чтения произведений Достоевского.
Почти все действие в его романах можно свести к разговору, к нервному диалогу, к бредовому монологу. Слышишь беседы братьев Ивана и Алеши Карамазовых, чутко ловишь бредовой шепот князя Мышкина и Рогожина у трупа Настасьи Филипповны иневольно готов воскликнуть: «как во сне». Так быстро и напряженно развиваются события только во сне, и так отчетливы слуховые галлюцинации только у сновидца.
Сон нагромождает одно событие на другое, сплетает и перекрещивает основное событие неожиданными эпизодами и нарушает все привычные перспективы времени и пространства. Эта сторона сновидений поставила перед психологами трудный вопрос: как сознание спящего может вместить в короткий промежуток времени сна такое обилие событий.
У Достоевского всегда необычайное нагромождение событий, отсутствие мерила времени, — в один день, иногда в несколько часов проносится такой вихрь событий, что их хватило бы на год («Преступление и Наказание», «Идиот», «Подросток» и т. д.)·
Такое сгущение событий чрезвычайно усиливает драматический эффект, но временами оно нарушает гармоничность построения. Достоевский знал за собой этот недостаток. «Множество от-
*) Freud. Ор. cit. S. 34.
193
дельных романов и повестей разом втискивается у меня в один, так что ни меры, ни гармонии», пишет он Η. Н. Страхову по поводу «Бесов». *)
Драматизмом произведений—снов Достоевского объясняется и скупость описаний и внешних характеристик. Уже Д. С. Мережковский отметил, что Достоевский в приемах своего творчества близко держался «трех единств», имеющих такое значение для теория драмы. **) В произведениях Достоевского преобладают слуховые образы над зрительными. Он почти не видит обстановки, не замечает ни места, ни времени действия. Все происходит в одной городе, часто в одном доме, место действия лишено конкретных признаков; действие проходит почти «в полотнах». Какая скупость бытовых подробностей, какое бледное отражение окружающей обстановки! Нет пейзажа, только изредка, несколько общих слов для обозначения времени и места действия. Вот примеры: «Но ночь была восхитительная. Было морозно. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском» ... («Скверный анекдот»), или: «наступает осень, желтеет лист» ... («Игрок», глава 13) и так всюду и везде. Достоевского интересует действие, а не обстановка, и он постоянно торопится перейти к диалогу, ограничивая себя самыми общими пояснениями для связи событий. Поэтому он только дает «ремарки» для актера, а не описывает происходящее. Вот пример на удачу из «Дядюшкина сна»:
«Госпожа Москалева садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.
— Зина!
Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные, задумчивые глаза.
— Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.
Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.»
Разве это не ремарки?
*) Биография, отд. 2, стр. 310—311.
**) См. этюд С. Карцевского «Эстетика Достоевского» (Совр. 3. 1921, III).
194
V.
Каторжная жизнь не давала исхода страстной, болезненно-чувствительной натуре Достоевского. «Яд, вогнанный внутрь», отравлял организм и создавал ненормально напряженную жизньплоти идуха; эта жизнь, подпочвенная, искала выхода и пробивалась наружу в творческих снах Достоевского.
Внутренняя жизнь раздроблялась на ряд образов, объективировавших разные стороны душевного мира. Видения — сны давали материал для творческого процесса Достоевского. Но остается не освещенным еще вопрос ο формирующей силе этого процесса.
Дневному сознанию сон представляется хаотической сменой образов, нарушающей все привычные законы мышления. Однако, новейшие исследования в области сновидений приходят к выводу, что сонпротекает по особым, ему одному свойственным законам и имеет свою закономерность. Вот как Фрейд определяет эту сторону сновидений: «сон нельзя сравнивать с музыкальным инструментом, который издает негармоничные звуки, извлекаемые из него не рукою музыканта, а ударами какой-нибудь внешней силы: сон не бессмыслен, не абсурден, не предполагает, что часть богатств наших представлений спит в то время, как другая часть начинает пробуждаться. Сон полноценный психический феномен, а именно является исполнением желания; его должно включить в связь с понятными нам душевными явлениями бодрствования, его создала очень сложная интеллектуальная деятельность.» *)
Таким образом, в основе всякого сна, по мнению Фрейда, лежит желание, объективированное как уже осуществленное, и оно является формирующей силой сна. «Мысль, сначала выступающая в форме желания, затем объективируется сном»; значит, задача исследователя — за сменой образов объективированного сна вскрыть его основную мысль.
Можно лив творчестве Достоевского найти аналогию этой формирующей силы сновидения? Нам думается, что до известной меры и здесь наше наблюдение подтверждает основную мысль всей статьи.
Достоевский отличался большой силой ума, направленного к постановке «вечных вопросов». Мы знаем, например, что одним из таких основных вопросов был вопрос о существо-
*) Freud. Ор. cit. S 35.
195
вании Бога. В письме к A. Н. Майкову Достоевский писал: «главный вопрос, который проводится во всех частях романа «Братья Карамазовы» — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Бога.» Именно «мучился», ибо неотступно стояли перед Достоевским «вечные вопросы» и мучили его сознание. Желание дать ответы на эти вопросы и было творческим стимулом его произведений — снов. Если внутренний мир Достоевского давал материал для его творческих образов, облекал их в плоть и кровь, то неотступные вопросы, требовавшие ответа, являлись двигательным импульсом и формирующей силой его произведений. Произведения Достоевского — «осуществленные желания» творческого гения, объективировавшие сложный мир его душевных переживаний.
Философия Достоевского, его миросозерцание, как совокупность ответов на волновавшие его вопросы, играет направляющую роль в его творчестве. «Над всем, созданным Достоевским, витает его мысль, проникая в самое ядро его художественных замыслов, придавая им особое, вполне индивидуальное идейное содержание», замечает Ф. Батюшков в своей работе о Достоевском. Над этим идейным содержанием, заключенным в творчестве Достоевского, с особой настойчивостью бьется мысль его исследователей, и интерес к идейному содержанию, столь богатому, невольно заслонял собою интерес к его личности. Почти все значительное, написанное о Достоевском, имеет в виду именно эту сторону его жизни.
Наступает, думается нам, время ближе присмотреться и к личности Достоевского, подойти к этой загадке, пожалуй, еще более сложной, чем содержание его произведений.
Путь к такому подходу, как мы старались показать, лежит не через биографию, а через его творчество.
Сны — произведения Достоевского — ключ к его личности.
А. Л. Бем.
196
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
