13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. Платон
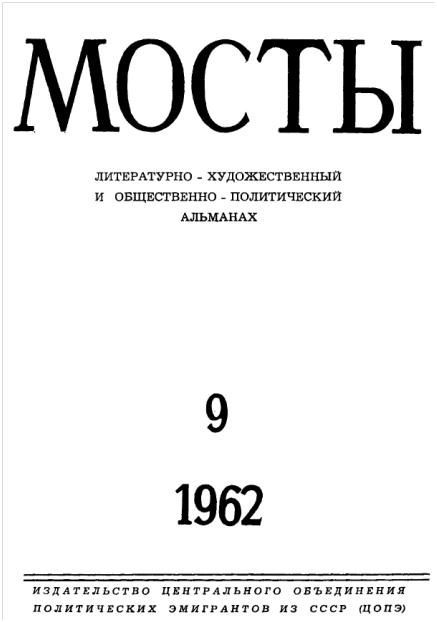
Germany. München
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Файл в формате PDFвзят с сайта http://www.emigrantika.ru/
ЛЕВ ШЕСТОВ
ПЛАТОН
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «SOLA FIDE» *)
Ожесточенная и резкая полемика Аристотеля против Платона всем известна. Известно тоже, что центральным пунктом своих нападѳний на учителя Аристотель избрал учение Платона об идеях. Платон утверждал, что идеи имеют независимое трансцендентное существование, т. е. что поверх доступного обыкновенному познанию видимого мира, существует еще один невидимый, недоступный чувствам мир, и что этот мир постигается в моменты вдохновенного прозрения некоторыми людьми, и он, этот фантастический, с точки зрения обыкновенного сознания, мир и есть единственно реальный мир, в котором жила всегда душа до ее соединения с телом, и куда она вновь вернется, когда сбросит с себя оковы своего земного существования. Только в мире, прекрасном и совершенном, жизнь имеет смысл и значение, только он прекрасен и привлекателен, обыкновенный же мир возбуждает в прозревшим человеке лишь отвращение и презрение. Диалектика главным образом и направлена на то, чтобы разрушить привычные наши привязанности к тому, что привязанности не заслуживает. Отвращение к видимому миру, неудовлетворенность обычными его, даже лучшими благами, есть начало очищения, т. е. начало мудрости, ведущей к постижению истинного ивечного добра. Пока ты ценишь и любишь то, что считается ценным ихорошим большинством людей, пока ты гонишься за почестями, славой, блеском, богатством, за радостями
*) Печатаемые здесь главы о философии Платона входят в книгу Л. Шестова «Только верой», часть которой была издана на французском языке («Sola Fide», Luther et l’Eglise (traduit du russe par Sophie Sève) Presses Universitaires, Paris 1957); некоторые из глав этой книги в разное время появлялись и в русской зарубежной печати. Главы о Платоне (всего их шесть) не вошли во французское издание; не появлялись они и в русских журналах и печатаются нами впервые. Из-за недостатка места в этом альманахе мы печатаем три главы, в следующем будут даны три оставшиеся. (Ред.).
229
жизни — ты слепец, не подозревавший, что ты идешь прямым путем к пропасти, к вечной гибели. Задача философа состоит в том, чтобы обесценить в своих глазах и глазах близких людей все блага, чтобы сделать обычную жизнь постылой и противной, и поставить, как цель жизни, тоску по иному миру, где вечное добро сменит преходящие и потому мало стоящие ценности, влекущие к себе ныне толпу людей, не знающих, что им нужно. В VII главе своего «Государства» Платон рассказывает, ставшую знаменитой, притчу о пещере. Мы все сидим в пещере, спиной к истинной и прекрасной жизни. Нам не видна действительность — мы видим только на стенах своей пещеры тени от действительных вещей. И мы так привыкли к сумраку своего мрачного обиталища, что яркий свет истины и реальности нам страшен. Как совы и другие ночные птицы, мы можем жить только во тьме. Свет ослепляет нас.
Это платоновское учение об идеях казалось более всего невыносимым Аристотелю; он, как я сказал, напал на своего учителя со всей беспощадностью убежденности, верующей в свою правоту. Он забыл даже благодарность, которая обязывает учеников. Истина прежде всего. Дружба должна склониться перед истиной. Даже наиболее горячие поклонники Аристотеля находят выпады его против Платона слишком резкими. Но, самое любопытное, опять-таки даже наиболее пылкие защитники Аристотеля должны были признать два обстоятельства. Во-первых, несмотря на свое резкое полемическое отношение к Платону, Аристотель все-таки в своей метафизике принужден был принять многое из учения об идеях. И второе — метафизика Аристотеля не более свободна от противоречий, чем метафизика Платона. А меж тем критика платоновских идей y Аристотеля всецело (как и всякая, впрочем, философская критика) основывается на выявлении противоречий разбираемого учения. Является вопрос: если взамен учения, отвергаемого, как противоречивое, приходится предложить другое учение, столь же противоречивое, то что этим достигается? И еще более интересный — А для нас особенно существенный вопрос — действительно ли Аристотель отверг учение Платона об идеях из-за замеченных гам в этом учении противоречий? Если хотите, поставьте проблему более обще — позже все равно нам придется это сделать — действительно ли мы отворачиваемся от того или иного учения, потому что мы заметили в нем противоречия? Или решающим моментом тут является нечто иное?
Обращаю внимание на указанное соображение: аристотелево учение о форме и материи страдает не менышими противоречиями, чем учение Платона об идеях, как истинных реальностях. Аристотель хочет думать, что единственной реальностью являются индивидуальные вещи. Но он не хочет уйти от Сократа и Платона. Он признает, что чувственное восприятие не может быть источником
230
познания, что познание направлено не на изменяющееся и преходящее, А на вечное и неизменное. что стало быть предметом познания является не частное, индивидуальное, т. е. единственно, по его мнению, реальное, А общее, т. е. по его учению на самом деле не существующее. Это противоречие проходит через всю систему метафизики Аристотеля. У него получается, что познание, т. е. высшее, относится к чему-то не реальному, и он так же мало может вывести свое реальное, т. е. единичные, индивидуальные вещи, из общих понятий, как и Платон видимый мир из своих невидимых идей. Оба они добиваются истинного, вечного познания, т. е. познания доказанного, обоснованного. Оба они презирают эмпирию и «мнение» (δόςα)и стремится показать, вслед за Сократом, что людям не предоставлено думать, что им вздумается, что есть истинные основоположные суждения, и что первые из них, с необходимостью, не допускающей никаких возражений, выводятся из самоочевидных истин. И оба грешат одним: ни тот, ни другой не могут даже и приблизительно осуществить свою задачу. Вместо необходимости, ими обещанной, получается произвол. Они мечтали создать метафизику, подобную математике, где всякое положение последующее будет неизбежно вытекать из предыдущего, — но создали учения, раздираемые невыносимыми противоречиями.
Если можно говорить о единстве учения y Платона иАристотеля, то только разве о единстве в намерениях. И Платон и Аристотель не выставляли напоказ собственных противоречий. Наоборот, каждый из них говорил тихим тоном, который исключал всякую мысль о возможности противоречий в его собственной системе. Но в самом ли деле они их не замечали? В самом ли деле люди такой великой проницательности, так хорошо умевшие уличать своих противников, не видели собственных недостатков? Не повторяется ли тут история евангельской притчи о сучке в чужом и бревне в своем глазу? Я думаю, что нет, что тут причина совсем другого порядка. После Платона и Аристотеля было erue много великих философов, и с каждым неизбежно повторялась та же история. Он замечал противоречия y своих противников и обличал их, А о своих молчал, как будто бы их совсем и не было. И даже сейчас, в наше время, повторяется то же. Философы страстно обличают друг друга в противоречии, точно противоречие было бы смертным грехом, иточно когда-либо существовали философские учения, свободные от противоречий. Эта странная, возведенная в систему, недобросовестность философской критики никого не смущает. Все привыкли к ней, никто о ней не беспокоится, даже не говорит — как никто не говорит о принятой среди дипломатов заповеди: не говори правды. Я даже недавно прочел y одного признанного и очень ученого философа утверждение, что если в системе философа есть хоть одно противо-
231
речие — она уже теряет всякое значение. Но Аристотель, я убежден в том, не мог так думать. Он видел не только противоречия y Платона, но и свои собственные. Если же он выступал е резкой критикой учения своего великого предшественника, учителя и друга — то не потому, что его беспокоила противоречивость в утверждениях, А потому, что самые утверждения Платона были для него неприемлемы, мешали тому делу, которое он, правильно или неправильно, считал самым важным в жизни. Это тем очевиднее, что Аристотель спокойно и доверчиво щедрой рукой черпал y Платона, каждый раз, как только ему казалось, что созданное Платоном пригодится ему. Я, по поставленной себе задаче, не могу здесь останавливаться долго над выяснением того, чем Аристотель обязан Платону. Да и нужды в том нет: это без меня давно сделали другие. Как я уже говорил, считается общепризнанным, что Аристотель в своем учении о формах принял почти все учение Платона об идеях: отверг только положение о независимом их существовании (трансцендентность идей). Нам нужно себе выяснить, что именно в этом утверждении Платона так отталкивало Аристотеля. Недоказуемость и противоречивость не возмутила бы так нашего философа — это мне кажется несомненным. А затем, вот еще одно указание, которое отрицательным путем нас поведет к уяснению интересующей нас загадки.
Несколько лет тому назад очень известный немецкий ученый, принадлежащий к так называемой Марбургской школе, Натроп, выпустил большое исследование об идеях Платона. И — как это ни покажется странным — теперь, через две тысячи пятьсот лет после Платона, Натроп доказывает, что все нападки Аристотеля на Платона совершенно напрасны, ибо Платону никогда ив голову не приходило считать идеи трансцендентными реальностями. Хоть все и читали Платона, но никто до сих пор Платона не понимал, так как все на него глядели глазами Аристотеля. Аристотель же, хоть и проучился y Платона целых двадцать лет, не разобрал своего учителя, ибо по существу не способен был постигнуть его, как вообще догматики не могут постигнуть критицистов. Уже для Платона, утверждает Натроп, было ясно то, что формулировал Кант: предметом нашего мышления не могут быть вещи, А только отношения. Но Аристотель, как догматик, наивно воображал, что знание есть знание о вещах. Ему потому и казалось, что только индивидуальные вещи действительны, А общие понятия не действительны. На самом деле общие понятия суть такие же категории нашего разума, как и индивидуальные вещи и к ним стало быть в такой же мере применим предикат бытия. У Натропа, как y последовательного кантианца, это значит, что предикат бытия есть только предикат, даваемый нашим сознанием, и стало быть ничего о существовании an
232
sich не говорящий. Это Платон знал и это, только это он утверждал, но Аристотель, для ограниченного понимания которого предикат бытия мог быть приложим только к индивидуальным вещам, на основании того, что Платон считал идеи существующими, решил, что Платон их принимал тоже за индивидуальные и, разумеется, трансцендентные вещи. На самом деле ничего подобного Платон не утверждал. Для него идеи были только логическими формами, только методом научной обработки, только закономерностью, — А вопрос о трансцендентности их существования даже не ставился. Последующие читатели Платона, загипнотизированные Аристотелем, уже не читали своими глазами Платона. Они повторяли о великом философе то, что им показал Аристотель.
Такова основная мысль Натропа, которую он проводит через всю свою большую книгу с основательностью и терпением, свойственным немецким ученым. Насколько мне известно, однако, книга Натропа не произвела желаемого действия. Идеи Платона итеперь, как прежде, истолковываются так, как их истолковал Аристотель. У меня же лично получилось еще такое, добавочное, впечатление: несмотря на все озлобление Натропа по отношению к Аристотелю, Натроп все же является учеником и последователем не Платона, А Аристотеля, ненавистного ему Аристотеля. Если уж искать психологическое толкование того или иного понимания Платона, то ведь недалеко ходить и за психологией Натропа. О нем-то именно и можно сказать, что его философская мысль под влиянием Аристотеля и всех его преемников, вплоть до самого Канта, так оформилась, что самое существование трансцендентных сущностей кажется ему чудовищной несообразностью, смертным грехом. Он ценит, он видит в Платоне только то, чего не отверг Аристотель, что через Аристотеля стало достоянием средневековой, А затем и современной философской мысли. Только Аристотель имеет двойное преимущество пред Натропом (и если угодно, пред непосредственным учителем Натропа — Кантом): он первый восстал против фантастического элемента в философии — это одно, А другое, что он имел смелость открыто отметить и подвергнуть критике незаконные элементы в учении своего божественного учителя. Преимущества немалые, в особенности первое. Ему-то Аристотель и больше всего обязан своим тысячелетним влиянием. Благодаря Аристотелю — этого никто отрицать не станет — стала возможной современная наука, стал возможным сам Кант с его трансцендентальной дедукцией.
Повторяю, метафизика Аристотеля так же противоречива, как и метафизика Платона. Но ведь теория познания Канта, которая предъявила претензии на некогда принадлежавшие метафизике права, исполнена не меньших противоречий. Если и ей Суждено было сыграть столь решающую роль в истории человеческой мысли, то вовсе не из-
233
за ее стройности и логической законченности. Я говорил, говорю и не устану это повторять: миф о существовании логически законченных, не заключающих в себе противоречий философских систем, нужно считать ушедшим в историю. Ибо логическая законченность это такой же идол, как Перун. Есть борода и усы из серебра и золота, но Бога нет. Заслуга (если это заслуга) Канта в том, что он надолго вытравил из философии элемент таинственности и сверхъестественности. Он, как и Аристотель, подвел сознание к «первоначальным» истинам, т. е. к истинам, без которых, по его мнению, наука невозможна, и эти истины стали стражами, задерживающими всякие попытки дальнейшего любознания. Что бы ни говорил Натроп, разница между критицизмом Канта и метафизикой Аристотеля куда менее значительна, чем разница между синтетическими идеями Канта и идеями Платона. Да это и сам Натроп фактически признает. Разбирая «Федона», он мимоходом, как будто бы даже не считая, что это может возбудить в ком-нибудь недоумение, позволяет себе утверждать, что содержание этого диалога не имеет никакого отношения к бессмертию души, и что если бы такая задача была y Платона, то ее нужно считать совершенно неудавшейся, ибо тезис о бессмертии души Сократу удается доказать лишь благодаря недозволенному логическому скачку. Так говорит Натроп о «Федоне» и других диалогах Платона, в которых поднимается и разбирается вопрос о бессмертии души. Для Натротта это метафизика, недозволенное — так же, как и учение Платона об анамнезисе, — А стало быть это не главное. Главное — это учение Платона о синтетических учениях a priori, то есть об идее, как методе, т. е. о науке, имеющей своим источником не действительность и не, упаси Боже, чувственные впечатления (сенсуализм — самое бранное слово в наше время), А «сознание вообще», А логическую закономерность, к которой потому можно приложить предикат бытия, что этот предикат и к индивидуальным вещам применяется лишь по указу того же «сознания вообще». Если Натроп разрешает Платону говорить о вечности, то лишь в одном очень условном смысле. Можно говорить о вечности во мгновении, т. е. о той вечности, которую Шлейемахер нашел y Спинозы и которая передалась по наследству современной протестантской теологии. Такая вечность была y Платона — этого Натроп не отрицает.
Нужно еще отметить, что хотя Натроп действительно впервые (вместе с Г. Когеном) решился подвергнуть Платона описанному выше духовному оскоплению, его дело было уже вполне подготовлено. Оно уже было даже закончено, если хотите, историей, — и именно в факте торжества Аристотеля над Платоном. Ибо отнять y Платона его идеи — значит отдать его под руку Аристотеля. Этого, до Натропа, историки философии, как известно, не делали. Но им это и не
234
нужно было. Хотя они, излагая философию Платона, излагали его учение о воспоминании, о бессмертии души, эросе, мании, о загробном суде и отводили соответственное место его идеям, но выходило, что идеи это то, от чего Платон, по существу, мог бы и отказаться, как мог бы он отказаться от своих мифов. H a y к А от этого нисколько бы не пострадала, — даже выиграла бы, — ибо наука «идеями» Платона не воспользовалась. Аристотель их раскритиковал, — А история почтительно выпроводила в соседнюю, определенно отмежеванную от философии область, в поэзию.
Кто не знает, что Платон был великим поэтом — и что добрая половина его философского багажа, стало быть, не может быть пропущена досмотрщиками философии. И самой главной контрабандой, конечно, являются идеи. Есть и другое, тоже опасное и недозволенное, — о чем сейчас будет речь, — но «идеи» стоят на первом плане. Как продукт поэтического творчества, они могут быть допущены — поэту дозволено нести какой угодно вздор. Но философ вправе выставлять только доказанные истины. А в том, что такие истины существовали и существуют y человечества, сомневаться не дозволяется. И вот, во имя этих доказанных истин, прежние историки выпроваживали платоновские идеи в область поэзии. Натроп же истолковывает их в таком смысле, в каком они могли бы уже удовлетворять Канта и, без сомнения, не вызвали бы отпора y Аристотеля. А какие такие бывают доказанные истины, во имя которых история произнесла свой суд над Платоном, об этом y нас будет сейчас речь.
*
В платоновском «Федоне» читаем мы следующее:
Κινδυνεύουσιγὰρὅσοιτυγχάνουσινὀρθῶςἁπτόμενοιφιλοσοφίαςλεληθέναιτοὺςἄλλους, ὅτιοὐδὲνἄλλοαὐτοὶἐπιτηδεύουσινἤἀποθνῇσχειντε καὶτεθνάναι. (Федон, 64 A).
Это значит, что те, которые всецело отдаются философии, скрывают от непосвященных, что они ничего другого не делают, как упражняются в умирании и смерти. Если вы заглянете в любой из современных учебников философии и поищете определения излагаемой в нем науки, вы найдете там что хотите, — но даже намека не найдете на то, что философия есть упражнение в смерти и умирании. Если вы станете по учебникам истории философии знакомиться с учением Платона, вы опять-таки узнаете многое, но от вас останется скрытым, что Платон давал философии вышеприведенное определение. Как до «Федона», так и тетерь для огромного большинства людей эта тайна — даже после того, как Платон открыл ее людям — осталась тайной. Почему так случилось? Произведения Платона много читались, из них в особенности много читали «Федона». Но как прежде, так и сейчас не только большая публика, но и уче-
235
ные специалисты не знают, в чем была главная задача Платона. А меж тем в «Федоне» это признание повторяется два раза. Через несколько десятков страниц (Федон 80, Е) Сократ опять утверждает, что, философствуя, душа упражняется в умирании. И ведь если угодно, весь «Федон» есть лишь развитие этой основной темы: философствовать — придвигаться к смерти, значит вырываться из видимой жизни и вступать в область вечной тайны, именуемой смертью. Это все читали, и ученые и неученые — и этому никто не поверил. Недаром в том же «Федоне» (Федон 69 Е) Платон утверждает:
Τοῖςδὲπολλοῖςἀπιστίανπαρὲχει
— толпа не верующа. Никто не согласится признать, что можно действительную, осязаемую жизнь променять на проблематическое упражнение в смерти. Кому и для чего оно нужно? Но если это так, если с одной стороны все дело философа сводится к приготовлению к смерти и умиранию, с другой же стороны толпа, т. е. все люди, верят только тогда, когда их к вере принуждает очевидность или сила, равная очевидности, как быть философу, обращающемуся с речью к людям? Если он просто расскажет, что он знает шаг что он видел, ему не поверят: мы не видели, стало быть этого нет, ответят ему. Хуже: его проникновенности и его мудрости противопоставят обыкновенный житейский опыт, как равноправный, как единственно решающий. Платон был свидетелем того, как два человека толпы дерзнули бросить вызов мудрости Сократа. Они не посмотрели на то, что оракул признал Сократа мудрейшим из людей. Он не мудрец, А преступник, заявили они. Он не признает богов и развращает юношество. И Акит с Мелитом победили. Суд афинских граждан признал Сократа виновным и его подвергли самому позорному и страшному наказанию. Сила оказалась на стороне τῶν πολλον,той самой толпы, которая не верит, которая вольно ничего не признает, которая уступает только по принуждению.
Сократ это чувствовал и понимал задолго до возникновения его дела. Он знал, что он один и что против него все. И в его одинокой душе впервые зародилась мысль о возможности бороться с толпой особым оружием — диалектикой. Люди толпы владеют кулаком, владеют даже словом — они умеют говорить красно, — но доказывать они не умеют. И вот для самозащиты Сократ и выдумал особое искусство борьбы, спора — основным условием которого является предположение, что есть ряд непререкаемых, одинаковых для всех обязательных истин. В течении десятков лет Сократ ходил по площадям, базарам и другим общественным местам иубеждал людей только в одном: нет произвола в мире, над всем живым, не только над людьми, но и над богами стоит вечный, неизменный и умеющий постоять за себя закон. Уже, как я вскользь упоминал, в одном из ранних диалогов Платона, в «Эвтифроне», Сократ ставит с необык-
236
иовенной остротой этот вопрос: потому ли добро хорошо, что его любят боги, или боги любят добро, потому что оно хорошо (Эвтифрон 10 а)1). И решает его во втором смысле. И богам произвол не разрешен, и они связаны в своей любви и в своей ненависти. В Апологии и в Ионе Сократ высказывает свое презрение к поэтам; они хоть видят и знают глубокомысленные вещи, но они знают их случайно: ού τέχνη. . . ἀλλὰ θεία μοίρα.2). Они сами не понимают, т.е. не умеют объяснить и доказать того, о чем они говорят. Через все произведения Платона красной нитью проходит противоположение ἐπιστήμη — знания и θεία μοῖρα — т.е. вдохновение, божественное попечение (Федр 244 с; Целлер II-1, 498 примечание). Он против тех, которые делают то, что делают не по мудрости, а как-то по природе, в припадке вдохновения (οὐ σοφία, ποιοίεν ἄ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ενθουσιάζοντες. Апология 22 с. Целлер II—1, 498).
И хотя Θeία μοίρα... ἄνεν νοῦ собственно значит по божественномувдохновению, но раз нет отчетливого понимания, Платон считает, что такая добродетель, такое знание ничтожно и приравнивает их к случаю. (Менон 100 а). Он ценит лишь ту добродетель, которую человек, как учитель, может передать людям. Для него поэтому добродетель и знание синонимы. В «Протагоре» Сократ заставляет признать своего противника, что толпа ошибается, полагая, что знание бессильно и не может властвовать 3). Знание есть прежде всего сила и самая могучая сила на земле. В своей защитительной речи он в ответ на обвинения Анита и Мелита гордо и уверенно говорит: что могут сделать мне Анит и Мелит. Привлечь к суду, оклеветать. Они могут даже добиться y суда моего осуждения, смертного мне приговора. Все это так, — но вреда они мне принести не могут. Ибо дурной человек никогда не может повредить хорошему.
В связи с этим находится и другое особенно поражающее своей смелостью и необычайностью для того времени (да и для нашего времени) положение: Сократ утверждает, что если выбирать, то лучше самому вынести несправедливость, чем быть несправедливым. Об этом говорится и в «Федоне», и в других произведениях Платона, но никогда Платону не удавалось с такой силой развить эту мысль, как в диалоге «Горгий»; Сократу противопоставлен противник такой огромной силы, что y иных по прочтении этого диалога является даже сомнение, можно ли считать победителем в состязании Сократа. Некоторые на этом основании даже отказываются
1) ἇρα τὸ ὄσιον ὅτι ὅσιόν ἐστιν φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν ἢ ὅτι φιλεῖται ὅσιόν ἐστιν.
2) Не благодаря умению... но по божественному вдохновению (Ион. 534 b; Целлер II-1, 498).
3) Δοκεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιούτόν τι, οὐκ ισχυρὸν oὐδ ὑγεμονικὸν οὐδ’ ἀρχικὸν εἶναι (Протагор 352 b: Мнение толпы о знании, что в нем нет никакой силы, никакой власти и никакого авторитета).
237
признавать Платона автором диалога. И точно, Калликл говорит с истинным вдохновением, — но мне кажется, что это именно и служит доказательством подлинности диалога. Платон чувствовал, что он берет на себя, выступая с таким утверждением. Нужно помнить, что одно дело в наше время, через две с половиной тысячи лет после Платона, повторять заученные фразы о преимуществе нравственной силы перед физической, другое дело впервые увидеть и высказать такую мысль. Не то, что наши современники больше проникли в нее и постигли ее. Я уверен, что исейчас, как в древности, вы во всем мире найдете самое незначительное число людей, которые могли бы, положа руку на сердце, сказать, что они больше боятся быть несправедливыми, чем испытать несправедливость. Ибо трудно, бесконечно трудно выносить унижение, сознавать себя слабым и беспомощным, не умеющим защитить свою правоту и вместе с тем сохранить гордое сознание своего преимущества. Калликл об этом говорит бесподобно. Но именно потому, что Платон мог вложить в уста противника Сократа такую вдохновенную речь, можно судить о глубине источника, из которого вытекло творчество Платона. Ясно, что когда Калликл говорил, перед Платоном неотвязчиво стояла картина смерти Сократа. Да, Сократ, великий учитель, лучший и мудрейший из людей, беспомощно свалился под ударом ничтожных людишек, Анита и Мелита, как в наше время пал Пушкин, сраженный пулей никому не нужного Дантеса. Сократ говорил, что Анит и Мелит не могут ему повредить, что злой не опасен для доброго. Но Анити Мелит живут, А Сократа отравили, как живодеры отравляют бродячих собак. Может быть, Сократ был неправ, может быть, все-таки Анит и Мелит были сильнее его? Для Платона это не был отвлеченный вопрос, для него это был вопрос жизни и смерти. Это даже не был для него и вопрос в том смысле, в каком принято понимать теперь это слово.
Со смертью Сократа душа Платона стала не той, что была прежде. Произошел какой-то внутренний сдвиг, после которого не так уже виделось, не так слышалось. То же небо, те же звезды, те же люди, но есть еще что-то, чего прежде не было видно и слышно. Что-то далекое, неясное, неосязаемое и невидимое, но властно притягивающее, приобрело загадочную власть над душой. Платон остался жить и после смерти Сократа — и жил еще очень долго, почти пятьдесят лет. Может быть под старость впечатление ослабело и сгладилось. Но навсегда осталось гложущее и мучительное чувство тоски и неудовлетворенности. И до конца жизни Платон продолжал настойчиво доказывать, что лучше претерпеть несправедливость, чем быть несправедливым.
238
*
Продолжал доказывать... Спрашивается, зачем были доказательства? Зачем было Платону так настойчиво добиваться признания своей истины? Разве недостаточно того, что истина есть истина? Разве недостаточно, что сам Сократ знал, что Акит и Мелит не могут повредить ему, разве нужно, чтобы и Мелит и Анит признали это? И, затем, разве это достижимо? Толпе свойственно неверие и его не преодолеешь, — пусть себе не верит, пусть торжествует в сознании своей силы, Но этого ни Сократ, как мы говорили выше, ни Платон и ни один из живших после них философов не умели вынести. Нам еще не раз придется говорить на эту тему, но сейчас особенно следует остановиться. Всем известно, какую колоссальную роль сыграли Сократ и Платон в истории европейской мысли. Вез преувеличения можно сказать, что наша наука началась с Сократа. Он первый высказал и заставил людей принять то положение, что истина необъясненная и недоказанная не есть истина. Основа мира есть некая вечная, невидимая простому глазу, но доступная наряженной мысли гармоническая связь отношений. Может быть особенно удачно выражено это его убеждение в «Горгии»:
Φασὶ δ’ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ το ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν ὧ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. (Горгий, 507 е)
т. е. мудрецы утверждают, что земля и небо, боги и люди держатся дружбой, общностью и порядком, рассудительностью и справедливостью и потому все называется космосом-порядком, А не акосмией и аколасией, т. е. беспорядком и распущенностью. И еще через несколько строк прибавлено:
ισότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἐνθρώποις μέγα δύναται (Горгий, 507 е)
т. е. большое значение имеет и меж богов и меж людей геометрическое равенство, т. е. идеальный порядок.
В этих немногих словах высказывается заветнейшая мысль Сократа и Платона. Если существует вечный, от начала мира установленный порядок, столь прочный и неизменный, что ни на земле, ни на небе, ми среди богов он не допускает отступлений — значит все наши силы должны быть направлены отнюдь не на то, чтобы осуществлять свои случайные и преходящие желания. Ибо порядок этот не есть нечто выдуманное, зародившееся в голове мудрого или глупого человека. Порядок есть всепобеждающая сила. Его можно игнорировать, можно не знать, — но уйти от него нельзя, как нельзя уйти от законов геометрии. Этот порядок — везде и во всем, в самой душе человека. Попробуйте вырваться из его власти: ваша борьба будет напрасна. И, наоборот, каждого даже самого невежественного человека путем простых вопросов можно постепенно под-
239
вести к тому месту, с которого и ему, доселе слепому, мгновенно откроется все величие и стройность основанного на неизменных принципах космоса. Он будет поражен и ослеплен дотоле невиданным чудным зрелищем и вместе с тем будет принужден признать, что вовсе не совсем для него ново это знание, что он уже однажды, в иной жизни, был приобщен ему, и только вступив на землю позабыл то лучшее, что было ему дано некогда в удел.
Великое искусство открывать этот невидимый мир гармонии открыли Платон с Сократом и назвали его диалектикой. Условием возможности диалектики очевидно является предположение об универсальности человеческого разума. То, что люди считали до Сократа источником познания — опыт, познания дать не может. Опыт, состоящий из чувственных восприятий, изменчив и непостоянен, как и сами чувственные восприятия. То, что сейчас кажется холодным, прежде казалось горячим, предметы вблизи квадратные издалека кажутся круглыми, больному представляется горьким то, что здоровому кажется сладким. Уже предшественники Сократа вплоть до софистов чрезвычайно искусно доказывали ненадежность и непрочность знаний, основанных на чувственном опыте. Гераклит сего утверждением, что все течет, все постоянно изменяется, нет ничего равного себе, нельзя два раза выкупаться в одной реке (потом утверждали, что и один раз нельзя выкупаться в одной реке), и элеаты доставили Сократу и Платону превосходный материал для критики познания, основанного на чувственном опыте. Такое познание приводит именно к акосмии, к признанию невозможности стройной системы мироздания. Учение софистов есть совершенно законный вывод из предположения о том, что единственным источником познания является чувственный опыт. Но учение софистов было наиболее неприемлемым и ненавистным для Сократа. Ибо если софисты правы, в таком случае правы и Анит с Мелитом, и Сократ вполне заслуженно был подвергнут позорной казни. И гимн Калликла силе есть последнее слово человеческой мудрости. Тот в этом мире прав, кто правдой или неправдой добьется успеха. Геометрия знает порядок, но основы мироздания подрывают даже самую идею о порядке.
Что мог противопоставить Сократ видимой действительности и тем своим многочисленным противникам, которые, ссылаясь на эту действительность, порочили учение великого мудреца? Чем мог победить Сократ, чем мог соблазнить он душу многочисленных афинских юношей, искавших его духовного руководства? Ответ на этот вопрос представляет для нас исключительный интерес. Из всего предыдущего изложения, надеюсь, пока выступает ясно одно. Сократ очевидно был далеко не так не прав, когда утверждал, что нравственность и истинное знание есть одно и то же. Вы видите, что
240
все время его поиски идеала человека и идеала знания приводили его к одному месту. Источник как науки, так и морали — в космосе. Основная первая предпосылка, выражаясь современным языком, как возможности существования науки, так и возможности морали, есть предвечный порядок, господствующий как на небе, так ина земле, обязательный как для людей, так идля богов. И вторая предпосылка: человеку дано постичь этот порядок. Попробуйте отказаться от одного из этих допущений — и все дело Сократа и Платона рушится. Ясно, стало быть, что вое силы патриархов философии должны быть направлены в сторону доказательств названных предпосылок. Именно доказательств — ибо их непосредственной очевидности никто не принимал. Наоборот, непосредственная очевидность была за утверждениями противоположными. Видимая действительность и прежде и теперь подтверждает правоту Анита и Мелита, Калликла, софистов. Незыблемого порядка нет ни во внешнем мире, ни в мире моральном. Ведь в первом случайность обыкновенная вещь, во втором — удача, сила, хитрость, неразборчивость в средствах обеспечивают победу.
Сократ нашел, как известно, выход из этого трудного положения. Он первый среди философов ввел в употребление общее понятие, установил, что наше знание относится не к индивидуальному, А к общему. Он принял целиком критику эмпирического знания, представленную его предшественниками. Но эмпирическое знание ине есть знание. Тут речь может быть только о мнениях, и мнения, на самом деле, могут быть и бывают многообразными, ибо основываются на чувственных восприятиях. Но за пределами чувственного восприятия есть нечто общее, нечувственное, постигаемое только разумом. Это разумное есть предмет истинного знания. Мудрец ищет и находит только это. Метод нахождения этого общего был известный метод вопросов. Сократ, правда, все свое внимание сосредоточил на вопросах морали, А не чистой науки. Уже Платон, продолжая дело Сократа, применил его метод ко всем областям, возбуждавшим человеческую пытливость. И это не случайность, что наукaвзяла свое начало от этики, что впервые космос был открыт в человеческой душе, и лишь вслед за тем во внешнем мире.
Если следить за рассуждениями Сократа и Платона, то может показаться, что будто последовательность была иная. Сократ свои изыскания начинал обыкновенно с анализа простых и несложных внешних явлений и затем уже переходил к более сложным. Основной его вопрос, служивший конечной целью всех его диалогов — вопрос о сущности добра, большей частью был не исходным, А заключительным моментом его рассуждений. В начале беседы говорится о кузнецах, кормчих, врачах и их занятиях. В чем разница, спрашивает он, между поваром и врачом. И тот и другой заботятся
241
о нуждах тела. Но повар угождает телу, дает ему то, что телу приятно, врач — то, что телу полезно. На ряде таких примеров из повседневной жизни выясняется разница между пользой и удовольствием, А соответственно этому — между наукой и эмпирическим знанием. А это именно то, что Сократу или Платону и требовалось. Оказывается, что непосредственно человек не знает, что ему на самом деле нужно. О своих истинных нуждах может судить только тот, кто почерпнул сведения свои не из мутного источника эмпирии, А из чистого родника отвлеченного знания. Это первый шаг. Раз выяснено, что могут быть два источника познания, из которого первый дает лжезнание и только второй дает истину, y Сократа уже есть почва под ногами. Доступен ли Аниту и Мелиту, Протагору и Горгию настоящий источник? Знают ли они, что такое знание? Что дает оно? Они думают, что оно дает только сведения. Но они так думают только по своему невежеству и своей ограниченности. Сократ «сведениями» не интересовался. Немножко больше, немножко меньше сведений — от этого жизнь человека не изменится. И Платон, хотя его интересы, в этом отношении, гораздо шире, чем интересы Сократа, никогда не отождествляет философии с наукой. Такое отождествление впервые вводится Аристотелем. Для Платона философия является еще таинством приобщения к иному миру идей, и философствовать значит упражняться в смерти и умирать.
Еще это значит стремиться к добру. О добре впервые заговорил Сократ. Он о науке, об «общем понятии» только потому заговорил, что это для него было этапом к добру. Повар угождает телу, врач лечит тело. А в области духа? Что делают софисты? Тоже угождают душе. Истинных нужд души они не знают. Они думают, что приятное и хорошее одно и то же. Не только не одно и то же, но прямо противоположное. Пусть Калликл как угодно красноречиво и вдохновенно говорит об ужасном положении и беспомощности человека, не умеющего защитить себя и друзей своих от несправедливости врагов — Сократа это не путает, как и Платона. Торжествующему Архелаю, путем убийств и других преступлений добившемуся власти и богатства, они не завидуют 4). Ему хорошо, — но он не хорош. Он получил то, что может дать повар, но если его повести к врачу, врач признает его безнадежно, неизлечимо больным самой ужасной болезнью, какая только может существовать на свете.
В этом важнейшее и наиболее замечательное открытие Сократа. Человеку нужно не счастье, не удача, — А добро. Счастье, удачу дает и отнимает случай, добро добывает себе только сам человек: его никто не может ни дать, ни отнять y человека. Что это так, в этом Сократу и Платону порукой был их разум, который ничего не
4) Горгий, 471 а.
242
утверждает произвольно, который всякое свое положение может обосновать и доказать, который безошибочность своих утверждений выводит и демонстрирует именно тем, что никто из людей и богов — непременно богов тоже — не может избегнуть признания правоты его притязаний. Вот почему нужно всем доказывать — и Аниту и Мелиту, и Горгию и Протагору. Вот почему так важна диалектика, вот почему так важна наука. Сильны, конечно, Анит и Мелит — они убили Сократа. Но последняя победа не за ними — дурной человек никогда не может повредить хорошему. Дурной вредит только себе.
243
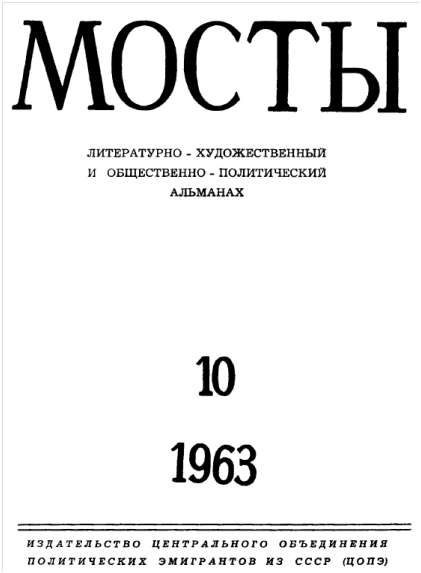
Germany. München
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Файл в формате PDFвзят с сайта http://www.emigrantika.ru/
ЛЕВ ШЕСТОВ
ПЛАТОН
Мне приходилось до сих пор говорить о Сократе и о Платоне, как об одном лице. Иначе это невозможно. Трудно отделить, где кончается дело Сократа и начинается дело Платона. Но я считаю, что ввиду задачи настоящей работы в этом особой беды нет. Если они и не тождественны, то дополняют друг друга. Теперь же я могу перейти к одному Платону. Нелегкую задачу оставил ему в наследство Сократ, не только своим учением, но и своей жизнью и особенно смертью. Трудность была двоякого характера. Злой человек не может повредить доброму, учил Сократ. Раз так — значит главная задача человека в жизни быть добрым и хорошим. И, так как с другой стороны безумно ставить себе недостижимую задачу, стало быть нужно признать, что человек, во-первых, знает очень определенно, что такое добро в этой жизни, во-вторых, если захочет, может выполнить предъявляемые ему добром требования, т. е. быть хорошим.
Нужно тут же отметить, что все вышедшие из Сократа школы (главным образом я имею в виду циников и стоиков), исходили из этого предположения. Больше того, даже средневековые схоластики не могли никогда освободиться от этого принципа. Знаменитый спор блаженного Августина с Пелагием, который возбудил, и до сих пор возбуждает, столько волнений и розни среди католических учителей, в сущности прошел бесследно. Платон утверждал, что загробный судия никогда не откажет в воздаянии в ином мире φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος (Горгий, 526, с) 5). И еще: душа спастись может только в этом мире. Если она здесь не спасется, там уже поздно будет. Так впоследствии и Фома, и другие доказывали, что facienti quod in se est deus inifallilbiter dat gratiami6)
Куда вы не заглянете, с какой системой морали и философии не ознакомитесь, вы неизбежно столкнетесь с тем положением, что
Окончание. См. девятую книгу «Мостов».
5) Философу, который занимался своим, свойственным ему делом.
6) Тому, кто делает, что может, Бог непременно даст благодать.
341
смысл и главная задача нашей жизни состоит в том, чтобы осуществить в пределах наших сил определенную нравственную задачу. Даже Спиноза, который, как известно, в противоположность Платону отверг идею возмездия за добро и зло, который утверждал, что Богу совершенно чуждо ratio bonitatis, даже Спиноза смотрел на жизненную задачу человека именно с точки зрения осуществления ясного идеала добра. У Спинозы даже, пожалуй, эта сторона внутренне проявляется с особенной рельефностью — только по странному капризу судьбы во вне она получила наиболее скупое выражение. Я лично могу указать только одно место у Спинозы, в котором он совсем сбрасывает тяжелые доспехи философа, считающего себя призванным принимать водительство чистого разума и повиноваться только логике. Может быть, именно в силу особенного внутреннего напряжения всего его существа, он так боялся обнажаться. Даже наедине с собой он никогда не снимал с себя оружия. Кажется, он даже спал — если только этот человек вообще когда-нибудь спал — в доспехах. В глубине души его жило неистребимое убеждение, что если он сам не защитит себя, то никто за него не вступится, а Анит и Мелит не дремлют. Послушайте его рассказ из „Tractatus de intellectus emendatione" (вступление):
„Videbam enem me in summo versari periculo, et me cogi remedium, quamvis incertum, summis viribus quaerere; veluti aeger lethali morbo laborans, qui ubi mortem certam praevidet, ni adhibeatur remedium, illud ipsum, quamvis incertum, summis viribus cogitur quaerere, nempe in eo tota ejus spes sita"7).
В таком положении был Спиноза, по его собственным словам. Где было искать помощи, remedium? Обыкновенные средства, излюбленные толпой, ему ничего не обещали:
„illa autem omnia, quae vulgus sequitur non tantum nullum conferunt remedium ad nostrum esse conservandum, sed etiam id impediunt et frequenter sunt causa ineritus eorum, qui ea possident, et semper causa ineritus eorum, qui ab iis possidentur". (Spinosa. Tract. de intellectus emendatione, Introductio, стр. 9)8).
При таких обстоятельствах Спиноза и поставил свой вопрос: чего следует человеку добиваться — изменчивых и преходящих благ жизни или чего-либо прочного и неизменного? Исход его рассуждений был таков: блага жизни изменчивы, это несомненно. Притом несомненно тоже, что одним они даются, другим нет. То же, что он
7) «Я действительно видел себя подвергнутым самой большой опасности и принужденным искать всеми моими силами помощь, хотя бы не достаточную; также, как больной, пораженный смертельной болезнью, предвидящий верную смерть, если он не прибегнет к помощи врача, принужден искать ее всеми силами, хотя бы эта помощь была сомнительна, потому что на нее вся его надежда».
8) «А цели, которые преследует толпа, не только не дают средств для сохранения нашей сущности, но мешают, будучи часто причиной гибели тех, которые под их властью».
342
поставил себе, как цель жизни, может быть тоже недостижимо, но если оно достижимо, — то оно имеет одно огромное преимущество перед желаниями и стремлениями толпы: оно неизменно.
„Sed amor erga rem aeternam et infinitam sola laetitia pascit animum, ipsque omnis tristiriae est expers quod valde est desiderandum, totisque viribus quaerendum" (Spinosa, I b., стр. II)9).
Вот в кратких, но очень выразительных словах история спинозовских исканий и нахождений. Он пришел к философии не затем, чтобы позабавиться или развлечься, не затем, чтобы образовать свой ум, научиться легко и интересно разговаривать и поражать собеседников обилием разнообразных и разносторонних сведений. Большинству современных ученых философов это покажется почти невероятным, до такой степени философия стала специальностью и дисциплиной наряду со всякими другими специальностями — химией и т. д. Но Спиноза пришел к философии не как к науке, а как к роднику новой жизни, как к источнику мертвой и живой воды. „Summis viribus" (всеми силами) искал он средства спасения от неминуемой гибели. И — сейчас для нас это самое главное — он был убежден, что только собственными силами он может спастись.
При всей противоположности системы Спинозы и Платона, эта черта у них общая. Оба они убеждены в том, что спастись человек может собственными своими силами и что, стало быть, ему самому и приходится находить этот путь к спасению.
Вы видите, сколько уже накопилось предпосылок, из которых складывается гранитный фундамент для будущих великих философских систем. Не знаю, замечает ли читатель, что каждая предпосылка является вместе с тем и ограничением. Можно спастись только своими силами — для Сократа и Платона и Спинозы это является источником величайших надежд. Это же является условием возможности философии, как учения, обнимающего собой все бытие. Ибо так может утверждать только тот, кто вместе с тем полагает, что человеческий разум может проникнуть во все тайны жизни. Иначе всем этим утверждениям можно с одинаковым правом противопоставить и противоположные. Может быть мы знаем путь к спасению, а может и нет. Может быть мы и умеем отличать добро от зла, а может и не умеем. Может космос — порядок —обязателен и для людей и для богов, а может быть высшая жизнь осуществляется в акосмии. И, наконец, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος (Горгий, 526, с) 10) может быть нечего совсем ждать, как нечего ждать и обыкновенному смертному, ухлопавшему жизнь свою на мелкие корыстные дела.
9) «Любовь вечной и бесконечной вещи питает душу одной лишь радостью, она же свободна от всякой печали, чего надо сильно желать и к чему надо из всех сил стремиться».
10) Философу, который занимается только свойственным ему делом.
343
Я уже не говорю о том, что спор между Калликлом и Сократом допускает третье решение, о котором спорщики и не вспоминали. Лучше испытать несправедливость или быть несправедливым? И то, и другое, в серьезных, конечно, случаях, очень плохо. Ужасно было бы, если бы Сократ убивал невинных людей, но ужасно тоже, что убили невинного Сократа. Сам Сократ, отвечая на поставленный вопрос, намекает на то, что и он, собственно, так думает. Он говорит: если бы в моей власти было, я бы предпочел совсем не становиться перед такой дилеммой, но раз нужновыбирать — я предпочитаю терпеть обиду, чем быть обидчиком. И я думаю, что Платон мучительно вспоминал жизнь Сократа даже через много лет. Но положение было такое, что раз первая предпосылка была принята, раз было решено, что человек может спастись только собственными силами, пришлось принять уже и все остальные предпосылки. Пришлось строить крепость, в которой можно было бы отсиживаться от нападений Мелита и Анита, т. е. от всех случайностей эмпирической жизни.
Но ведь крепость, хотя и защищает, она вместе с тем и лишает свободы. В крепости человек — как в тюрьме, как в плену. Но когда спасаются, об этом не думают. Ценят прежде всего и выше всего неприступную твердыню. Единственная надежная защита, которую мог придумать Платон —это было сознание своего нравственного превосходства над толпой, сознание своей нравственной безупречности. Уже даже мало быть просто нравственным человеком — честным, правдивым, мужественным, справедливым, бескорыстным. Нужно сознавать себя таковым. Нужно отчетливо знать, что значит быть хорошим и нужно также отчетливо сознавать, что ты этому хорошему причастен, ибо только это средство и защищает от нападений злых, располагающих физической силой — мечом, огнем, ядами и т. д. Платон прямо и говорит, что можно себя признать неумелым врачом или кормчим, но никто не признает себя нехорошим человеком.
После Платона постановка вопроса о сущности морали сохранилась в главных философских системах неизменной. Всех, кто говорил о нравственности, притягивала и манила установленная Платоном возможность приобщения уже здесь на земле к высшему благу. Недаром Ницше говорил, что мораль была сиреной, привлекавшей сладким пением всех философов. Ибо что может быть слаще уверенности в своих преимуществах перед другими людьми. Сократ причастен к добру и знает это. И я, и всякий, кто того захочет, может подобно Сократу приобщиться к добру, и это великое таинство, и сила его простирается за пределы земного существования, она вообще беспредельна. Мы, слабые, ограниченные люди, постигли великую тайну — разве мы не равны богам. И разве то наше свойство, благодаря которому мы проникли в эту тайну, не божественно?
344
Это свойство — давно уже пора произнести слово — есть наш разум. Для разума нет пределов — можно сомневаться в чем угодно, нельзя только заподозреть права разума. Величайшее несчастье, говорит Платон, сделаться мизологом, как бывают мизантропы. И Платон по-видимому прав, вознося разум на трон. Ведь это разум и постиг космос и отстоял от надвигавшейся акосмии, ведь разум дал нам уверенность в наших силах, в наших преимуществах перед другими; ведь разум спас Сократа от Анита и Мелита. Ему ли не воздать высших почестей?
Припомним, однако, и раньше оказанное. Платон утверждал, что философствовать значит упражняться в смерти и умирать. Платон же учил, что идеи суть трансцендентные сущности, что наша видимая жизнь есть тень от реальной, действительной жизни. Наконец, он же утверждал, что источником нашего высшего познания являются эрос и мания, т. е. что увидеть духовным оком «идеи» — тоже действительную жизнь, дано только тем, кто находится в состоянии безумия или экстаза.
Все эти утверждения его, как мы уже говорили, не сохранились в философской науке, как признанные истины. Они остаются только в философских музеях, как любопытные образцы смелой, но распущенной фантазии. Я уже не говорю об учении Платона о загробном существовании и об ожидающем человека возмездии на справедливом суде богов. Что для Платона все эти утверждения являлись существенным элементом его философии —этого, кроме Натропа, мне кажется, никто не отрицал и не станет отрицать. Достаточно прочесть «Горгия» и «Федона», чтобы убедиться, насколько серьезно относился Платон к своему учению о загробной жизни. Он подробнейшим образом рассказывает о том, что ждет душу после смерти. В одном только Натроп прав: «доказать» всю эту фантастику Платону никогда не удавалось, и если считать, что существенными в философской системе являются лишь те положения, которые снабжены доказательствами, то Платона, конечно, придется очень сильно урезать.
Не меньше придется урезать его, если критериумом ценности философского взгляда считать его историческую роль. Фантастика Платона была отвергнута историей и, как принято говорить, будущего не имела. Но я полагаю, что оба эти критические приема ничего нам дать не могут, — и могут только отнять, и очень многое. Платона надо брать целиком, с его трезвостью и его опьянением. И большой еще вопрос, когда мы больше выиграем: когда будем пользоваться критериями или когда пойдем наугад. Пусть Аристотель раскритиковал учение об идеях, пусть Натроп перекроил их на современный лад — мы должны задать себе вопрос: не удалось ли Плато-
345
ну 2500 лет тому назад, в припадке философского вдохновения, увидеть то, что удается редким людям только мельком, в счастливые минуты душевного подъема?
Критика Аристотеля и его преемников исходит из предположения, — которое, правда, разделял и Платон, которое он сам, вслед за Сократом, ввел и развил, — что есть ясно сознанные законы разума, им же по праву принадлежит высший контроль за всеми человеческими суждениями. Нельзя и нет надобности отрицать, что Аристотель мог разбить Платона, ссылаясь на Платона же. Но вывод отсюда будет вовсе не тот, который обыкновенно принято делать. Нужно самый вопрос поставить иначе. Несомненно, что есть какой-то странный парадокс в смешении противоположных элементов в философии Платона для всех тех, которые находят, что философия должна быть наукой, т. е. системой положений, логически между собой связанных. Но для таких людей не только философия, но и вся жизнь парадокс, беспорядок, который допускается только потому, что их разуму положены пределы. Такие люди просто решают вопрос: прозрение, сделанное в минуту вдохновения, не должно иметь никаких преимуществ перед обыкновенными умозаключениями. Даже наоборот, оно требует особенно тщательной проверки всех своих притязаний. Эрос и мания, по их мнению, самые опасные спутники философии. Разве можно верить влюбленным? Они же сами, когда увлечение проходит, дивятся своим безумствам. Разве влюбленному не кажется, что его возлюбленная прекраснее и лучше всех в мире? И разве, когда время охладит его пыл, он не убеждается вместе со всеми, что она самая обыкновенная женщина? Но что еще хуже, разве даже собственный опыт научает человека осторожнее относиться к внушениям Эроса? Мы знаем, что вторая, третья и даже у иных десятая любовь так же обманывает, как первая. Вспомните, как хорошо об этом говорит Шопенгауэр в «Метафизике любви». У него выходит, что специальная задача Эроса — обманывать людей; Шопенгауэру доставляет особенное наслаждение изображать это в своем роде действительно необыкновенное искусство маленького бога или демона. Природе нужно, чтобы Иван и Марья дали ей нового человека, и она их до того ослепляет, что Ивану кажется Марья воплощением всего, что может быть самым лучшим в жизни, и наоборот; и скромные слабые люди, до сих пор ничем не выдававшиеся перед другими, делаются героями. Попробуйте поставить преграду между влюбленными, они все сметут. Но проходит время, природа своего добивается, новый человек существует, хотя еще в утробе матери, и Эрос тушит свои волшебные огни, и Марья с Иваном сами не понимают своего прошлого воодушевления. При обыкновенном, дневном освещении, она видит в нем постылого, рядового человека, он в ней — скучную, ординарную женщину. Обман открывается, разум вступает в свои права.
346
Так, именно так рисует Шопенгауэр любовь, так ее в общем понимают все люди. Никто не сомневается, что Иван ложно судил о Марье, а Марья об Иване тогда, когда они видели друг друга в неестественном свете лучей Эроса, и что они оценили друг друга правильно, когда предстали в обычном ровном освещении. И «доказательство» тому — в первом случае их суждения расходились с общими суждениями, во втором — сошлись. А ведь правильность суждений предполагает их общеобязательность. То, что истинно, может и должно быть представлено и принято всегда и всеми,как истинное. Особенность и главное отличие разума именно в том, что он, и только он, является источником непререкаемых, постоянных истин. И все, что ему противоположно, что ему противоречит, что не от него, является источников лжи и заблуждений. Как лампада бледнеет перед восходящим солнцем, так гаснут лучи эроса перед светом истинного, всегда себе равного, разума.
Так говорит Шопенгауэр, так говорит Трубецкой, так говорят все, так научили людей говорить и думать Сократ и Платон. И эта манера смотреть на жизнь до того срослась с душой человека, что никому, по-видимому, и на минуту не приходит в голову, что тут может быть заблуждение, что допустимо другое решение вопроса, что Иван и Марья как раз тогда были правы, когда видели друг в друге то, чего никто другой не видел в них, чего они и сами в себе, ни до, ни после торжественного момента, не видели, что Эрос не обманывал их, а показывал им только новую, недоступную разуму действительность, которая от них потом скрылась навсегда, как только Эрос погасил свои огни.
Если это правда, то может быть и правда то, что рассказывал Платон о своих идеях. «Реальный», всем и всегда видимый и доступный Иван и «реальная» Марья действительно ординарные и неинтересные люди. Они едят, пьют, бранятся и устраивают свои мелкие дела. Но этот Иван есть только тень настоящего Ивана и Марья только тень Марьи. Чтобы увидеть истинных людей, слабым и грубым намеком на которых является наша обыкновенная действительность, нужны не «метод» и логика, не нивелирующий разум. И метод, и логика, и разум — все это средства, скрывающие от нас действительность. Нужен подъем души, нужна именно способность избавиться от метода, от всякого контроля, налагаемого на нас «логикой». Нужен порыв, восхищение. Когда Диоген сказал Платону: льва я вижу, но львиности я не вижу, Платон ему ответа л: у тебя есть глаз, чтобы видеть льва, но нет органа, чтобы видеть львиность.
В этом ответе есть и неправда, для Платона и для всех нас очень характерная. Чтобы увидеть льва, точно нужен глаз, особый орган, но чтобы увидеть идею льва, львиность, уже не нужен орган. Тут вообще нельзя говорить об условиях такого видения, ибо условия видения, т. е. совпадения определенных обстоятельств, необходи-
347
мых для того, чтобы возможно было то или иное явление, допустимы только до тех пор, пока мы говорим об эмпирическом мире, о том мире, где хозяевами и господами положения являются те Аниты и Мелиты, в борьбе с которыми Платону пришлось напрягать всю свою изобретательность. Они потому и сильны, они потому и побеждают, что признали эти условия, применились к ним и использовали их. Для них идеи Ивана и Марьи нет. Для них существуют только осязательные Иван и Марья, грязные, оборванные, грубые. Они потому так и уверены в себе, что совсем и не чуют призраков. Они и не знают, что могут существовать сократовские демоны, удерживающие человека от поступков, несомненно для него· полезных. Инстинкт посредственности подсказывает им, что всякая связь с невидимым и таинственным влечет за собой эмпирическую гибель. Они и выдумали, что нельзя безнаказанно пренебрегать здравым смыслом. Инстинкт посредственности есть прежде всего так воспетый в последнее время инстинкт самосохранения. И Платану не следовало бы говорить об органе восприятия идей — ибо такого органа не было не только у Диогена, но и у самого Платона. Но тут сказалась особенность душевного склада человека или, если хотите, особенность положения человека в мире.
Заимствуя образ из элементарной физики, мы можем сказать, что две силы владеют нами: центробежная и центростремительная. С одной 'стороны, все мы задаемся целью устроиться в видимом мире. Только то хорошо, только то и ценно, что способствует нашему устройству. Все наши душевные способности мы напрягаем к достижению этой цели. Мы делаем больше: не давая себе отчета, инстинктивно почти, в нас происходит «естественный», сказал бы ученый человек, подбор свойств и особенностей душевных. Те свойства, которые способствуют центростремительному направлению, мы культивируем в себе и беспощадно, насколько это в наших силах, истребляем свойства противоположные, мешающие так или иначе осуществлению этой задачи.
То, что относится к свойствам, относится и к нашим идеям и верованиям. Этим, может быть, объясняется то поразительное явление, что, несмотря на очевидность, огромное большинство людей даже не подозревает, что их ждет смерть и живут так, как будто им суждено вечно существовать на земле, так что наступление смертного часа для всех, даже для стариков, всегда является в какой-то мере неожиданным, как и страшным. Вся их жизнь была направлена на созидание, и вдруг такое нелепое, бессмысленное разрушение, так своевольно, капризно, вне связи со всем предыдущим наступающее. Помните у Толстого в «Смерти Ивана Ильича»? Он еще в гимназии проходил силлогизм: все люди смертны, Сократ — человек, стало быть Сократ смертен. Но то был Сократ, которому, очевидно, и полагалось подходить под силлогизм, Ивану Ильичу полагалось и по-
348
лагается другое. Ему полагается идти по служебной лестнице, а не умирать. И то, что говорил Иван Ильич, сказали бы многие, почти все люди — только не у всех есть такое уменье рассказать себя, каким Толстой снабдил Ивана Ильича.
Но, с другой стороны, есть еще одна сила — центробежная. В противоположность первой, ее почти никто не чувствует и не знает и ее все трепещут и боятся. Но она делает свое страшное дело со спокойствием и безразличием, которые люди называют неумолимостью. Подобно тому, как организм наш в начале жизни растет, крепнет и развивается, а затем постепенно начинает идти на убыль, ссыхается, разлагается, так и в душе бессознательно и против ее воли начинается страшная на вид работа упадка, разрушения и гниения. Сам человек постепенно подкапывается под то, над сооружением чего он так долго и неустанно трудился. Ему самому, если только он замечает, каким безобразным делом он занят, становится жутко, как бывает жутко пред приближением безумия. Он знает, что делает не то, что нужно, но то, что нужно, уже не имеет прежней власти над ним. И подобно тому, как птицы или белки, загипнотизированные змеей, с отчаянным криком, но ничем извне, по-видимому, не побуждаемые, бросаются в пасть чудовищу, так и человек идет навстречу смерти, отрываемый от родного и привычного места загадочной и таинственной волей.
Несомненно, обе силы владеют человеком. Несомненно и то, что все люди умеют видеть, сознавать и — главное — одобрять только силу центростремительную. В нашей жизни происходят часто такие потрясения, после которых раньше прочная, крепко сбитая связь времен расшатывается. Нет над ними единого, застилающего бесконечность голубого купола: на нем появились трещины и сквозь них открывается нечто новое, так непохожее на прежде виденное, что мы не можем даже решиться сказать, к какой категории отнести его — к категории существующего или несуществующего. Точно ли мы видим это, или нам только кажется, что мы видим. И, чтобы убедиться в том, что мы не бредим и не галлюцинируем, мы пытаемся это новое вдвинуть в те же рамки, в которых мы привыкли различать старое. Нам кажется, что мы прибавим ему правна существование, если мы докажем его, если мы свяжем с нашей прежней действительностью, если мы проверим его теми методами, которые научили нас прежде отличать истину от заблуждения, сон от яви. И еще: лукавое человеческое сердце надеется, что таким способом можно будет изменить направление действующей силы — не самим уйти из привычной среды, а привлечь вновь открывшееся к центру, заставить его служить привычным, старым целям.
Мы уже говорили о том, какое впечатление произвела на Платона смерть Сократа. Мы уже говорили о сдвиге его души. Но роль и значение философии Платона может быть понята только, если мы
349
не забудем об указанных двух силах. Безудержно влекло философа к окраинам жизни. Он видел, несомненно видел, что есть какая-то иная жизнь, новая, великая, непохожая на нашу, — но ему этого было мало. Он хотел новое привлечь на службу, на потребу старому. Философствовать значит упражняться в смерти и умирать. Правда, великая правда! Пока смерть не появится на горизонте человека, он в философии еще младенец. Только великие потрясения открывают человеку последнюю тайну. Но зачем искать в видимом мире залога, обеспечениябудущего существования? Зачем думать, что в этом мире за нашу краткую, быстротекущую жизнь мы так много успеваем узнать, что уже можем и богам диктовать законы? Платон хочет думать, что мы не только приготовляемся к умиранию, к смерти, т. е. не только идем навстречу новому неизвестному. Ему нужна уверенность, что это новое известно. И он говорит о нем с той определенностью, с какой Сократ приучил своих учеников и собеседников говорить об обыкновенных житейских делах. Он сам все приуготовляет для будущей жизни, словно опасаясь, что если богам будет оставлена хоть малейшая доля свободы, они погубят все его дело. Вспомните, с какой настойчивостью он предлагает во второй книге «Государства» вытравить из «Илиады» все те стихи, в которых Гомер говорит о том, что боги по усмотрению являются распределителями благ и скорбей между людьми. «Первый закон наш и наше первое правило о богах будет состоять в том, что мы обяжем признать наших граждан, словесно или в их сочинениях, что Бог не есть творец всего, что он есть только творец доброго». (Государство, книга 2-я; 380 с). Смысл этого принципа станет еще яснее, если мы сопоставим с ним соответствующие места из «Федона» о последнем суде над человеческими душами. Гот, кто будет судить там, будет руководствоваться принципами и законами, выработанными нами здесь. Архелай и другие тираны попадут в преисподнюю, те же, которые успели в этой жизни очистить свою душу философией, найдут себе приют на островах блаженных.
И, что бы ни говорил Натроп, это убеждение есть краеугольный камень философии Платона; оно было ему дорого и близко и в ранней молодости, и в зрелом возрасте, и в старости. Справедливость одна и на небе и на земле. И, главное, мы на земле это знаем: и то, в чем справедливость, в чем добро, и то, что добро, как высший закон, управляет всем, равно властно и над людьми и над богами.
•
Мне кажется, что теперь мы уже достаточно выяснили источники философии Платона.Нас теперь менее всего удивляет то странное на первый взгляд, что она вся представляется сотканной из столь непримиримых противоречий. Если бы даже Пла-
350
тон ничего не слыхал про диалектику, если бы он не заявлял так торжественно, что величайшее преступление утверждать, что ты знаешь что-нибудь, когда ты не знаешь, если бы он не требовал, чтобы всякое знание брало бы для себя образцом математику, — словом, если бы он отказался от одного из своих источников познания, то и тогда для противоречий оказалось бы достаточное поприще. Ибо если допустить, что Эрос может водительствовать человеком, то где же порука в том, что этот загадочный демон всегда будет водить человека по одним путям? Л мы знаем, что и Сократ, гораздо более, по преданию, сдержанный и осмотрительный, чем Платон, часто безропотно покорялся внушениям своего демона, — т. е., значит, вопреки собственной теории, совсем как презираемые им поэты, принимал решения, не умея дать себе отчета в том, что определило его выбор в решении. Иными словами, если не установить раз навсегда, что боги, полубоги и люди руководствуются одними и теми же побуждениями, если, наоборот, допустить, что мы, люди, не только не в состоянии проникнуть в тайные помыслы богов, но даже не можем судить о законах их мышления, о логике богов, — а ведь второе суждение имеет за собой все шансы вероятности, — то как можем мы рассчитывать на то, что получаемые нами свыше суждения не будут противоречивыми?! Что с философами не повторится то, что происходит с влюбленными, и что они, по внушению богов, станут не покоряться истине, а властвовать над ней, не стесняясь раньше установленными законами — хотя бы и законом противоречия.
Я тут же должен сказать, что платоновское учение об идеях, даже если и не сличать его с положительной частью его философии, менее всего отличается единством. По существующему обычаю, каждый из читателей Платона составил себе суждение о том, что собственно разумел Платон под идеей, но никто не может доказать, что его суждение единственно правильное. И самое верное, по-моему, было бы открыто признать, что и сам Платон никогда не мог определенно сказать, что он разумел под идеями. Он мгновениями что-то видел — это почти несомненно. К чему-то стремился и от чего-то бежал — это уже просто несомненно. Но обладало ли это что-то постоянством,которое давало бы возможность найти для него ясные и отчетливые предикаты, это большой вопрос. Я прекрасно сознаю, что высказывая такое суждение, я иду вразрез как с традиционными представлениями о Платоне, так и с многочисленными объяснениями самого Платона. Платон хотел убедить нас, и большинство его читателей убедилось в том, что для него идея и понятие синонимы. Что его в «идее» привлекало именно то, что Сократа привлекало в общем понятии — т. е. как раз постоянство, неизменность. Все течет, все появляется и исчезает, порождается и гибнет, все неустойчиво, тленно, мимолетно, но в потоке преходящего, в вечном
351
разнообразии чувственного, незыблемо стоит доступное только разуму Общее.
Что Платон так говорил и что те, кто так воспринимают учение его об идеях, имеют на своей стороне все формальные основания — против этого я спорить не стану. Но что для Платона идеи не были общими понятиями — это для меня так же несомненно. И может быть, если бы Платону не суждено было так долго жить, если бы центростремительная сила не была так властна над ним, мы бы услыхали от него многое такое об идеях, что он унес с собой в могилу. Для меня начало VII книги «Государства» — рассказ о пещере — представляется наиболее удачным местом из всех тех, в которых Платон изображает свои идеи. Но если это так, то отождествление его идей с общими понятиями лишено всякого основания. Ведь тогда наоборот — тогда та истинная жизнь, бледным и серым отражением которой является наше земное существование, должна представляться не более отвлеченной, а более конкретной. Другие же диалоги Платона часто, в самом деле, как будто совершенно не озабочены этой «реальностью». Наоборот, у Платона наблюдается страх перед конкретностью, точно будто под каждым кустом, под каждой травкой притаились кровожадные Аниты и Мелиты. И он топчет все конкретное до тех пор, пока не остаются чистые отвлеченные понятия, ничего не скрывающие, насквозь прозрачные, «очищенные» геометрические фигуры, даже просто числа.
Только тогда, когда им доведена до конца эта страшная разрушительная работа, с его лица сходит тяжелая озабоченность. Он может довериться только линиям и числам, только они уже ничего* не таят в себе, уже никак не вырвутся из положенного им закона, только они не обманут, не предадут. Все, что есть в мире, поэтому должно быть уподоблено числам и фигурам: все науки должны быть построены по образцу и подобию математики. И это говорит Платон, в душе которого жили эрос и мания, Платон, всегда надеявшийся и мечтавший о высшей, прекраснейшей жизни! Вместо музыки — гармонии и мелодии — соотношение колебаний звуков, выражающихся в соответственной пропорциональности цифр. Вместо природы — законы ускорения и тяготения, которые тоже могут быть сведены к цифрам. Но так представить себе Платона, значит вынуть из него душу, все равно, как вынимает душу из природы и музыки тот, кто выражает ее — хотя схематически и верно — математическими формулами. И сколько бы цитат из Платона вы не приводили, вы все-таки не убедите — если хотите, даже самих себя, — что для него идеи и общие понятия тождественны.
И все же диалектике Платона суждено было сыграть колоссальную роль в истории человеческой мысли, особенно в истории философии. Как это ни странно, — а может быть это и не странно, кто
352
разберет, что странно, что не странно в этом мире! — люди из всей философии Платона приняли только его диалектику. Τοῖς δὲ πολλοῖς ἀυστίαν παρέκει.11) Никто не поверил Платону, когда он вдохновенно рассказывал сои пророческие сны. Но все ухватились за те его рассуждения, в которых он убеждал людей ничему не верить без основания, требовать доказательства всех утверждений. Это всем показалось понятным, возможным и, главное, желанным.
Анит, Мелит и все те афиняне, которые осуждали Сократа, были возмущены не трезвостью великого мудреца. Может быть как раз эта черта Сократа встречала наиболее сочувствия. От Сократа отталкивала его загадочность, таинственность. Чуткие греки догадались, что из яйца мудрости Сократа, рано или поздно, должны вылупиться змееныши, будущие циники и стоики, и еще Бог знает, какие юродивые, в самом деле опасные и для отстоявшейся веками народной религии, и для прочного государства. Не метод отыскания истины — метод Сократа (это показало ближайшее будущее) был как раз тем, что больше всего нужно было человечеству, — пугало то, как применял свой метод Сократ. Уже хотя бы то, что Сократ шел со своим методом равно к царям, знаменитым государственным людям, к прославленным философам, а вместе с тем — к ремесленникам и рабам. И говорил со всеми одним и тем же тоном неуважения. Ни государственные мужи, ни философы, ни поэты, ни рабы, ни плотники — никто ничего не знает, все одинаково ничтожны и равно презренны. И чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем меньше уважения он заслуживает. Первых не только нужно сравнять с последними, но поставить их за последними.
Разве метод Сократа предполагает сам по себе такое отношение к сложившимся, вековым обычаям? Метод ничего не предрешал, но в груди Сократа жило глубокое презрение, — не будем допытываться, откуда оно взялось, — к историческим формам жизни и к большинству тех людей, с которыми его сталкивала судьба, и он не пропускал случая, чтобы так или иначе не показать этого. Сущность же метода ничего не предопределяла — и лучшим доказательством тому могут служить школы, вышедшие из Сократа. И циники, и стоики, и Платон, и Аристотель — все это птенцы сократовского гнезда. Если это еще кажется неубедительным, я приведу два примера применения сократовского метода, которые покажут совершенно ясно, сколько произвола еще оставляет мыслителю принятый им метод.
Эпиктет рассуждает: тебе сообщили, что умер незнакомый человек. Услыхав это, ты говоришь: тут ничего особенного нет. По существующим законам природы, раз человек заболел неизлечимой болезнью, ему полагается умереть. Но вот тебе сообщили, что умер твой сын. Ты в отчаянии. Ничего тебе не мило, тебе кажется, что
11) Толпа не верующа (Федон 69 е).
353
все люди должны разделить твою скорбь. Но не правильнее было бы, если бы ты по поводу смерти своего сына вспомнил то, что ты говорил, когда узнал о смерти постороннего человека: по неизбежным законам природы и т. д. Вот истинная философия.
Так рассуждает Эпиктет. И его рассуждение кажется поразительным по своей последовательности. Но можно, с не меньшей последовательностью, повернуть его. Можно сказать: умер твой сын и ты в отчаянии. Теперь умер посторонний человек и ты спокоен, Почему? Вспомни, как убивался ты о своем сыне и прими так же близко к сердцу горе незнакомого тебе отца. Вот истинная философия.
Оба рассуждения построены по одному методу и одинаково логически правильны. Результаты же прямо противоположные.
Теперь еще пример. Говоря о человеческих страстях, Марк Аврелий чуть ли не в каждом из своих афоризмов с истинно сократовской настойчивостью повторяет, что безумно ценить и бесполезно отдаваться радостям жизни, ибо все они кончаются одним: и удачника и неудачника ждет смерть. Указание на бренность всего существующего всегда вводит в наши рассуждения неотразимый элемент убедительности. Но нужно не забывать, что этот элемент принадлежит к числу тех, которые можно, по желанию, вызвать и даже не очень замысловатыми заклинаниями. А убрать, отогнать его, раз он вызван — уже не в воле человека. Правда, тот, кто помнит о смерти, презирает радости жизни. Но сохранит ли он уважение к тем идеалам, о которых так много говорит Марк Аврелий? Как остановить разрушительное действие этого всемогущего духа? Ведь не только радости и горести преходящи. Все, что от человека, рано или поздно погрузится в пучину забвения. Забудутся пиры, оргии и злодейства Нерона, память о Марке Аврелии не будет жить вечно. И сейчас, и за все то долгое время, что протекло после смерти философа на троне, много ли знало человечество о его мыслях и делах? Ученые читают его сочинения и спорят о значении того или иного его изречения, но мир, все люди, так же мало вспоминают о нем, как и о его безобразных предшественниках на римском престоле. Время губит равно и доброе и злое. И аргументация Марка Аврелия одинаково опасна и для эпикурейцев и для стоиков. Там, где властвует смерть, права разума кончаются. Хуже: задача разума в том и состоит, по-видимому, чтобы подвести человека к области, подвластной смерти и ее законам, точнее — ее беззаконию. Мне кажется, и Марк Аврелий и все другие философы отлично это знали — и если все-таки не говорили этого, то единственно в расчете, совершенно верном, на то, что не всякому дано оценить и понять ее всеразрушающее действие. Люди воспринимают только то, что им демонстрируют ad oculos.12)
12) На глаза.
354
Философы молчаливо условились пользоваться упоминанием о смерти только для определенных целей. И обычай стал законом. Но не даром еще Ренан указывал на то, что все размышления Марка Аврелия проникнуты глубокой грустью. Он чувствовал, что его аргументация разрушает гораздо больше, чем ему нужно было. Если впереди уничтожающая смерть — то и тех, кто будет жить сообразно природе, и тех, кто будет жить несообразно природе, ждет одна общая участь. Смерть равно оправдывает и безумие и разум, и у философа нет средств, чтобы оберечь от нее последний и отдать ей в жертву первое. И если все-таки они возводят на престол разум, то это с их стороны есть несомненный акт произвола: sic volo, sic jubeo — sit pro ratione voluntas.13)
И, может быть, это такая же неразгаданная тайна философии, как и та, о которой говорит в «Федоне» Платон. Никто не знает, что философия есть упражнение в умирании, никто не знает, что источником философии является произвол. Нужно сказать больше. Даже сам Платон этого не знал, если под знанием разуметь то, что обыкновенно принято под этим словом разуметь со времени Сократа — т. е. ясное и отчетливое, выраженное в понятии, убеждение. Немецкий мистик 17 столетия, малообразованный Якоб Беме позволил себе, — один, кажется, среди всех писавших на эти темы, — сказать, что он сам понимает им написанное только в те минуты, когда Бог простирает над ним свою десницу. Когда же он отнимает ее — самому философу кажутся бессмысленными те слова, которые он сам раньше написал, как разлюбившему Ивану кажется бессмысленным все то, что он говорил о Марье, как поэту, выражаясь языком Пушкина, пока его не призывает Аполлон к священной жертве, забавы суетного света кажутся полным и исчерпывающим выражением всего, что может дать жизнь. И Сократ, и Платон, и Беме, и Пушкин могли быть ничтожнейшими среди ничтожнейших людей мира — пока Аполлон не звал их к своей священной жертве, и они это мучительно знали.
Оттого-то они так настойчиво искали твердых принципов и начал. Оттого-то Пушкин утверждал, что возвышающий нас обман дороже низких истин. И — это самое главное — все они хотели, чтобы этот обман был похож на низкую истину, т. е. чтобы он казался всем столь же прочным, постоянным и несомненным. И они готовы были на какие угодно ухищрения и жертвы, только бы представить свой обман в виде истины. Они его урезывали и уродовали подчас: им нужно было его иметь у себя всегда наготове, как другие люди имеют наготове низкие истины. Смерть и произвол равно всем страшны — даже Платону.
И никакая «наука» с ними справиться не в силах. Задача науки
13) Так хочу, так приказываю, да первенствует воля над разумом.
355
— отделываться от тайн и загадок. Это понял и это осуществил Аристотель. Он взял у своих гениальных предшественников все то, что в их философии было несомненным и прочным, и устранил все проблематическое. Он заглушил тоску неудовлетворенности и спел величайший гимн торжествующему, уверенному в себе знанию.
Окончание. См. девятую книгу «Мостов».
356
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
