13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Лосский Николай Онуфриевич
Лосский Н.О. Лев Шестов как философ
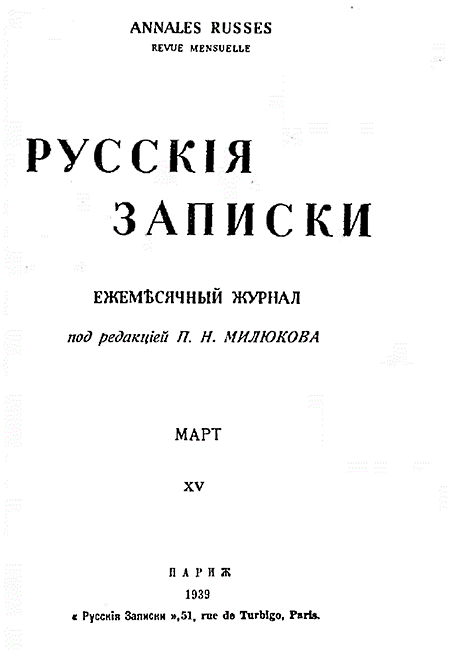
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Н. О. ЛОССКИЙ
ЛЕВ ШЕСТОВ КАК ФИЛОСОФ
Лев Исаакович Шестов (Шварцман, род. в Киеве 31 января 1866 г., скончался в Париже 20 ноября 1938 г.) занимал видное место в русской философской литературе. Уход его в иной мир есть незаменимая утрата. Своеобразное остроумие его, едкая критика философских истин, задающаяся целью «преодоления самоочевидностей», и пылкая проповедь «возможности невозможного» неповторимы. Согласно распространенному мнению, Шестов — скептик. Насколько это верно, увидим после изложения его взглядов.
«Мы живем, окруженные бесконечным множеством тайн», — говорит Шестов. Но как ни загадочны окружающие бытие тайны, — самое загадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы как бы окончательно и навсегда отрезаны от истоков и начал жизни. Это значит, что «либо в самом мироздании но все благополучно, либо наши подходы к истине и предъявляемые к ней требования поражены в самом корне каким-то пороком» (Парм., 7).
Следуя Декарту, мы требуем, чтобы истина была «ясною и отчетливою». Наука осуществляет этот идеал, и ее огромного
_________
Главные труды Шестова: Шекспир и его критик Брандес (СПБ, 1898; собр. соч. изд. «Шиповник>, т. I); Добро в учении Толстого и Нитше. Философия и проповедь (СПБ. 1900; Берлин 1923); Достоевский и Нитше. Философия трагедии (СПБ. 1903; собр. соч., т. III); Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления (СПБ. 1905); Начала и концы (СПБ. 1908; собр. соч. т. V); Великие кануны (СПБ. 1912; собр. соч. т. VI); Potestas clavium (Власть ключей, Берлин 1923); На весах Иова. Странствования по душам (изд. «Совр. Зап.», Париж 1929); Скованный Парменид (YМСА, Париж); Kierkegaard et sa philosophie existentielle, 1936; Athènes et Iérusalem, un essai de philosophie religieuse (Vrin. Paris. 1938; по-франц. и по-вем).
В цитатах я буду обозначать сочинение начальными буквами главного слова; в перечне трудов указаны вторые издания для тех книг, которые я буду цитировать по второму изданию.
131
значения для технического прогресса или, напр., для целей войны Шестов не оспаривает, но последние, самые существенные вопросы нашего бытия не разрешимы ни наукою, ни умозрительной философией.
Наука преодолевает многообразие живого бытия, отыскивая повсюду в мире одинаковое, повторяющееся. Она стремится устанавливать принудительные истины, выразить их во всеобщих и необходимых суждениях и доказывать их с такою же убедительностью, как математические теоремы. Все совершающееся в мире она понимает, как подчиненное не отменимым законам и принципам, как зависящее от закона причинности, обесцвечивающего неизменное единообразие природы. Классическое выражение такого миропонимания осуществлено эллинскою философией, которая, начиная с Фалеса, искала единого первоначала и принудительно доказуемых истин; это — дух Афин. Ему противостоит дух Иерусалима, выраженный в Библии и ее откровении, ставящем во главу миропонимания живого личного Бога, всемогущего, творящего чудеса, Бога, для которого «нет ничего невозможного».
Со времени Филона Иудейского, говорит Шестов, не прекращаются попытки синтеза науки и рациональной философии с библейским миропониманием, однако, все они не удаются. И не удивительно: в основе научно философского миропонимания лежит ложь, и «отцом этой лжи», говорит Шестов, «был не человек, а принявший образ змея дьявол» (Иов, 19). Истолковывая легенду о грехопадении, Шестов утверждает, что «величайшим грехом наших праотцов», вкусивших от древа познания добра и зла, было не ослушание Бога, а «доверие к разуму». Человек «поверил змию, что познание прибавит ему сил, и стал знающим, но ограниченным и смертным существом». «Сущность знания в ограниченности: таков смысл библейского сказания». Также «стыдное, дурное, страшное — пришло от познания и вместе с познанием, с его «критериями», присвоившими себе право суда и осуждения. Непосредственное видение не может принести с собою ничего дурного, ложного. Познание, создав ложь и зло, потом пытается научить человека, как ему своими силами, своими делами спастись от лжи и зла». «Нужно «спасаться» иным способом, «верой» — как учит ап. Павел, одной верой, т. е. напряжением душевным совсем особого рода, именуемым на нашем языке «дерз-
132
новением» (224 сс.). Невозможность примирить этот смелый н творческий библейский дух с духом научно философского мышления и есть тема всех трудов Шестова, начиная с «Апофеоза беспочвенности» и кончая «Афинами и Иерусалимом». Чтобы вжиться в «дерзновение», увлекающее Шестова, познакомимся обстоятельнее с тем, как он изображает дух Афин и Иерусалима.
«Философия, надеющаяся при посредстве общих понятий найти истину, живет иллюзиями», говорит Шестов: вместо того, чтобы прийти к «корням жизни», она ввергает человека в долину смерти, потому что «общее и необходимое есть небытие par excellence» (Вл. 279). Боясь свободы (Парм. 21) подобно Великому Инквизитору, человек ищет «безличной и беспристрастной истины»; он хочет не творить ее, а брать ее «готовой, и не у такого же существа, как он сам, т. е. у существа живого, значит, прежде всего, непостоянного, изменчиБого, капризного, — а из рук чего-то, что перемен не знает и не хочет, ибо оно вообще ничего не хочет и ему нет никакого дела ни до себя, ни до кого другого». (Иов, 18 с.). «Первым условием и предположением» для такого «научного мышления является гибель одушевленного», «ибо преступность индивидуального или одушевленного — в его самовластии» (Вл. 251 с.). Общее для умозрительной философии, напр., Гегеля, выше индивидуального. Вера в чудеса, ссылка на всемогущество Божие для Канта, Гегеля и других философов есть не более, чем Deus ex machina (Парм. 61). Такой ученый, как Тэн, «ни об одном жизненном явлении не может говорить, если предварительно не умертвит его». Даже внутреннему миру наука «навязала» «безличное единство внешнего мира» (Шекспир, 21, 26). «По загадочному капризу судьбы, первый дошедший до нас отрывок из сочинений греческих философов», принадлежащий Анаксимандру, содержит в себе осуждение индивидуального бытия. «Древний мудрец полагает, что «вещи», появившись на свет, вырвавшись из первоначального «общего» или «божественного» бытия к своему теперешнему бытию, совершили в высокой степени нечестивый поступок, за который они по всей справедливости и казнятся высшей мерой наказания: гибелью и разрушением» (Вл. 102).
Сам Бог, согласно учению философов, подчинен законам и принципам, напр., закону противоречия. Сенека так формулировал эту мысль: «Сам основатель и зиждитель мира — всегда по-
133
винуется, и лишь раз повелел» (Парм. 17 с.). «Страшно впасть в руки Бога Живого», думают люди, «а подчиниться безличной необходимости, которая неизвестно как проникла в бытие, вовсе не страшно, это успокаивает и даже радует (Ath., XVI). Согласно Шестову, наоборот, подчинение безличной необходимости есть источник смерти. «Беда бы была, и ужасная, не поддающаяся никакому описанию беда, если бы Гегель и все, кто от Гегеля, угадали бы и говорили бы правду, если бы история имела «смысл» и их Абсолютное было бы пределом человеческих достижений» (Вл. 59).
Всего интереснее то, что научно философский дух, столь кичащийся доказанностью своих истин, не способен доказать свои основные положения. Полагая в основу знания закон причинности, как «принцип закономерности явлений» и вообще «идею самодовлеющего порядка», наука делает «практически в высшей степени полезные, но совершенно необоснованные и лживые допущения» (Иов, 187). Чтобы внедрить их в умы, она прибегает к методу запугивания, уверяя, что без этих допущений знание становится невозможным (Парм. 31). Но ведь это — запрещаемый логикою argumentum adhominem (Кан., 28). Единообразие природы, о котором говорит наука, существует лишь постольку, поскольку «она принимает в свое ведение только те явления, которые постоянно чередуются с известной правильностью», и особенно те, которые доступны эксперименту. Между тем, в важнейших моментах жизни «единичные явления говорят нам гораздо больше, чем постоянно повторяющиеся» (Ап. 206 с.). «И животные экспериментируют, только не сочиняют трактатов по индуктивной логике и не гордятся своим мышлением. Корова, однажды обжегши морду в пойле, второй раз подходит осторожнее к корыту» (210). — Итак, Шестов не отвергает полезности науки, он только предлагает научному философу «судить не выше сапога», как в известном рассказе о художнике и сапожнике.
«Особенно немецкие философы, говорит Шестов, позаботились о том, чтобы все привести в единообразную систему. У немцев везде — в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии один высший принцип: порядок прежде всего» (11). Типичный германский философ Кант «любил большие, хорошо утоптанные дороги, на которых легко и свободно движется теоретиче-
134
ская мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выравненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройтись торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, ни озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такту и давать как можно больше «ноги» (16 с.). За то, по крайней мере, Германия — festes Land.
Что нужно Шестову? Какие ценности он хочет отстоять и какое строение мира, по его мнению, обеспечивает их? — Безграничная свобода несомненно заиимает видное место в идеале Шестова. Он требует свободы индивидуального живого существа от законов природы. Его возмущает мысль, что материя и энергия «оберегается от гибели никем не созданными, а потому вечными законами», а бытие Сократа, единственного и неповторимого, «ничем не охранено. Пришел — ушел. Был — нет». (Иов, 37). Если бы жизнь была подчинена такому безумному порядку, она была бы бессмысленно (Кан., 29 с.). В не меньшей степени возмущает Шестова закон тожества и противоречия. «А может не равняться А»; «допустите возможность сверхъестественного вмешательства — и логика растеряет столь привлекающе умы несомненность и общеобязательность своих выводов» (Ап. 114). «Библия, и Ветхий и Новый завет, менее всего отвечали тем требованиям, которые разум предъявляет к истине. В этих загадочных книгах закон противоречия — первое условие истинности всякого утверждения — прямо игнорировался». «Если в жизни есть противоречия, философия должна жить ими (Вл. 75, 276).
Шестов зовет нас из иллюзорного мира необходимости, придуманного наукою, «в тот мир, где не законы владычествуют над смертными и над бессмертными, а где бессмертные и, с их божественного соизволения, созданные ими смертные, сами творят и сами отменяют законы» (Парм. 53). В этом мире господствует не разум, а творческая воля (Вл. 278), к нему принадлежит все то, «что носит отпечаток неожиданности, свободы, почина, что ищет и желает не пассивного бытия, а творческого, ничем не связанного и не определяемого делания» (Парм. 69). Этот мир не далеко от нас; мы уже находимся в нем. но наука приучила нас не замечать его: она выработала теорию эволюции, как ряда «постепенных, незаметных изменений»; таким образом, она на-
135
деется устранить всякое творческое fiat. Между тем, в действительности—«основная черта жизни есть дерзновение». Перед глазами человека, который усмотрел бы это, «вместо мира, всегда во всех частях себе равного, вместо эволюционирующего процесса, явился бы мир мгновенных, чудесных и таинственных превращений, из которых каждое значило бы больше, чем весь теперешний процесс и вся естественная эволюция. Конечно, такой мир нельзя «понять». Но такой мир и не нужно понимать. В таком мире понимание излишне» (Иов, 156 сс.). «Пигмалион захотел, и, потому что он захотел, невозможное стало возможным, статуя превратилась в живую женщину» (Парм. 81). Шестов часто ссылается на обетование Иисуса Христа: «не будет для вас ничего невозможного». Мыслима жизнь, говорит Шестов, в которой «нет закономерности, а, стало быть, есть бесконечное количество возможностей. Там чувство страха — позорнейшее чувство — исчезает». «Если есть Бог, если все люди — дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть» (Ап. 54 с.).
«Все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно», — эти слова Юма нередко повторяет Шестов. Отсюда понятно, что искания алхимиков и догадки астрологов он считал заслуживающими внимания. «Астрология и алхимия отжили свое время и умерли естественной смертью, — но оставили после себя потомство: химию, изобретающую красящие вещества, и астрономию, накопляющую формулы. Так всегда бывает: у гениальных отцов рождаются дети идиоты. В особенности, когда матери бывают очень добродетельны, а на этот раз мы имеем необыкновенно добродетельных матерей: общественную пользу и мораль» (Ап. 159).
Мир населен живыми, творчески деятельными существами,а потому изменчивость и разнообразие их проявлений чрезвычайны. Вместе с Джемсом Шестов недоверчиво относится к общим суждениям, он сочувствует его плюрализму (Кан. 299304) и множеством примерных предположений разъясняет ненадежность общих положений. Считая очередною задачею философии обязанность, действительно, «усомниться во всем», Шестов, шутя, допускает мысль, что «предметы тяготеют к центру земли не в силу естественной необходимости, а добровольно. Боятся, скажем, одиночества и теснятся друг к другу, как овцы ночью
136
(Иов, 207). Отсюда следовало бы, что закон тяготения есть только правило обыкновенного поведения атомов, а вовсе не железный закон природы. Под этой шуткой у Шестова кроется мысль, высказываемая многими философами, напр., Фихте, Соловьевым, что в составе конечной цели развития мира находится одухотворение всей природы.
Шестов допускает, что ярко выраженная личность, упорно идаже богоборчески отстаивающая свою самостоятельность, обладает индивидуальным личным бессмертием, а тот, кто отрекается от себя, «сольется с первоединым, растворится в сущности бытия вместе с массою себе подобных индивидуумов». Уже тридцать лет тому назад он предвидел, что немцы «все до последнего, наверное, сольются в идею, Ding an sich, субстанцию или иное заманчивое единство» (Нач., 175 с.).
Все отрицания и утверждения Шестова имеют целью отстоять высшую ценность и высшую ступень бытия — индивидуальную личность и ее призвание к свободной творческой деятельности (Ключ. 107). Его высшие чаяния соединены с верою во всемогущество Божие. Вслед за Паскалем он подчеркивает, что это Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов. «Он по ту сторону противоречия и основания, как и по ту сторону добра и зла» (Кл. 110). Истина от Него зависит, а не Он от истины (Ath. XVI). Оспаривая Гуссерля и его идеал философии, как строгой науки, Шестов утверждает, что глубинная истина, метафизическая, «как все живое, не только никогда не бывает себе равна, но и не всегда на себя похожа» (Ключ. 166). У Бога все живет и изменяется: Он способен даже бывшее сделать не бывшим, как ото утверждал уже философ ХI-го века Петр Дамиани. Так, напр., Шестов не может примириться с тем, что Сократ был отравлен в 399 г. до Р. Хр. цикутою, как отравляют бешеных собак. По просьбе нашей Бог властен отменить эту истину (Парм. 28 с.). «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите», — сказал Христос людям, живущим «верою, представляющею собою такое измерение мысли, в котором истина безбоязненно и радостно отдается в полное распоряжение Творца». А Он в свою очередь, «безбоязненно и царственно возвращает верующему его утраченную силу» (Ath., XXXII).
Шестов не соглашается жить «без убеждения, что правда и духовное совершенство в последнем счете выходят победителя-
137
ми в мире» (Кан., 30). Совершенен был Иисус Христос и, когда Он призывал «Приидите ко мне, все труждающиеся и обременные, и Я успокою вас». Он говорил, как власть имеющий (Ап. 203).
Действительно, «свободное исследование» начинается тогда, когда люди убедятся, «что в Священном Писании есть Истина» (Иов, 24). «Истина там, где наука видит «ничто» (188). Чтобы усмотреть ее, нужен не телесный глаз, а духовный (Парм. 35 сс.). В одной мудрой древней книге «рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами». «Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано; он незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое, как видят не люди, а существа иных миров» (Иов, 29). Тогда человек становится способным усвоить «Новый Оргапон» Тертуллиана: «Не устыжает, — ибо постыдно; достоверно. — ибо нелепо; несомненно, — ибо невозможно». Он понял, что «прославляемые разумом «постыдно, нелепо, невозможно» отнимают у нас «самое нужное и самое драгоценное» (17).
Глубины духовного мира нередко открывает человеку болезнь, как это было, напр., с Паскалем и Нитше (271). Даже опыт ненормальных людей может иметь высокую ценности», как это высказал «осторожно и с опаской» Достоевский, а теперь открыто заявил Джемс (Кан., 103, 42 с.). «Скажут, — мы тогда не гарантированы от злостных обманов. Люди, никогда не бывшие в раю, будут выдавать себя за Магометов; все это верно. Но ведь будут и правду рассказывать. И, чтобы спасти такую правду, можно решиться проплыть целый океан лжи. Да, если угодно, вовсе не так уже невозможно в этой области отличить правду от лжи, хотя, разумеется, не по тем признакам, которые выработала логика» (54 с.).
По обыкновению, Шестов, боясь систематичности и усматривая в ней «верный признак духовной ограниченности» (Шексп. 11), не разработал своей ценной мысли, что и в той области, в которую он нас ведет, можно отличить правду от лжи. Я, по-видимому, смелее Шестова: не боюсь духовной ограничен-
138
ности и попытаюсь выцарапать из его книг хотя бы намек на школьные выражения дорогой ему мысли. Глава, в которой она выражена, обозначена словами: «Опыт и доказательства» (Кан., 51). В ней он противопоставляет индивидуальный опыт дедуктивным доказательствам из общих посылок, а также индуктивным обобщениям, опирающимся на экспериментально повторимые факты. Подобно Джемсу и русскому интуитивизму он является сторонником «радикального эмпиризма». Так, напр., он не любит онтологического доказательства бытия Бога, если понять его, как силлогизм. «Есть такие истины», говорит он, «которые можно увидеть, но которые нельзя показывать. И это не только истины о Боге или бессмертии души. Есть еще много истин такого же порядка» (Кл. 81). Иногда такие истины только смутно чувствуются человеком (см. соображения Шестова о Спинозе и его пламенной любви к Богу — Иов, 255 сс.).
В философии Киркегарда Шестов нашел много родственного себе. Киркегард называл свою философию экзистенциальною, потому что «мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить». Он боролся с умозрительною философией и, подобно Паскалю, пришел к философии, движимый отчаянием; истины он «искал в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом». Он обратился за нею не к Гегелю, а к Иову, ценя в его истории не тот момент, когда Иов покорно сказал «Бог дал, Бог и взял», а тот, когда он взывал к Богу, и у Бога невозможное стало возможным. Максимализм Иова одобряют и Киркегард, и Шестов («Русск. Зап.» 1938, III). Экзистенциальную философию Бердяева Шестов не вполне одобряет, главным образом, потому, что Бердяев ограничивает всемогущество Божие, считая, вслед за Беме, свободу мировых существ не сотворенною Богом («Совр. Зап.» 1938, 67).
Не только гносеология с ее идеалом все понимающего и все доказывающего разума, но и этика, проповедующая общеобязательную мораль, подвергается резким нападениям Шестова. Формализм автономной этики Канта, законничество традиционной морали он решительно осуждает и советует искать того, что «выше добра», «искать Бога» (Ключ. 9). Как и Бердяев, он считает Бога стоящим выше добра и зла, и напоминает «загадочные слова евангельской благовести: солнце одинаково всходит над грешниками и праведниками» (Добро, 114). «Истина и добро
139
плоды с «запретного» дерева — для ограниченных существ, для изгнанников из рая. Знаю, что осуществить на земле этот идеал свободы от истины и добра невозможно — вернее всего, и не нужно. Но предчувствовать последнюю свободу человеку дано» (Иов, 209).
Особенно отрицательно относится Шестов к проповеди добра и добродетели самих по себе. Он сочувственно относится к Толстому-Левину, который в «Анне Карениной» «прямо заявляет, что сознательное служение добру — есть ненужная ложь» (Добро, 18). В последнем периоде своей жизни Толстой от этой мысли отступил и окончательно сосредоточил все свои силы на исполнении правила — «нужно быть добродетельным» (30). В таком настроении Шестов усматривает не столько заботу о других, сколько заботу о себе, о спокойствии своей души (41). Иными словами, он боится фарисеизма, к которому легко может привести забота о своей добродетельности, как это прекрасно выяснил Шелер в своей этике.
Душевный переворот Нитше Шестов объясняет его разочарованием в Боге, как законническом безличном добре (97). Однако, и его новый идеал сверхчеловека, есть, по мнению Шестова, «лишь голова старого идола» — «быть великим» (118). Ошибку Нитше он находит в том, что Нитше видел одно дурное в земном добре «и просмотрел в нем все хорошее» (121); сам Шестов, как и Бердяев, очевидно, считает земное добро полу-добром.
В творчестве Шестова видное место занимает литературная критика. И в ней он был философом, восходя при анализе произведений художника к тайне жизни, к проблеме добра, к существу нравственности. Критика, но его мнению, не должна быть «научною, — т. е. затягиваться в систему логически связанных положений». «Объясненный поэт все равно, что увядший цветок: нет красок, нет аромата — место ему в сорной куче» (Кан., 22). Любимейший художник Шестова — Шекспир. В своей первой книге «Шекспир и его критик Брандес» он обрушивается на научную критику, образцом которой он считает исследование Тэна об английской литературе и книгу Брандеса о Шекспире. Встретившись с «гигантом» Шекспиром, говорит Шестов, Тэну, как представителю «научности», нужно было «втиснуть в цепь явле-
140
ний» его «рыкающих львов, Болингброков и Норфольков, его рыдающих Лиров, безумствующих Гамлетов, восторженных Ромео, могучих Ричардов, трогательных в своем кротком величии Дездемон и Корделий, бесстрашно идущих к своему идеалу Брутов». «Всю эту глубокую, обширную жизнь нужно было пересмотреть и отметить ее лишь как добавочное к борьбе сил природы цветение. И Тон не отступил перед этой задачей» (27). Такой же операции подвергнул Шекспира и Брандес, а Шестову, утверждающему приоритет свободного творчески деятельного духа, нужно проникнуть в глубину личности героев Шекспира, испытать вместе с ними их столкновения с миром, вжиться в их страсти и проследить их значение в жизни духа. По пути он показывает, как ненаучна критика Брандеса, напр., поскольку он, не углубляясь в шекспировский вопрос, не замечает крайней несогласованности между характером актера Шекспира и совокупностью художественных образов в творениях, приписываемых ему.
Верный своей философии, Шестов понимает Гамлета, как человека, который, наслаждаясь в Витенберге наукою и мечтательной философией, утратил способность действовать и не смеет желать себе «настоящего познавания, готового измерить без страха бездну человеческой жизни». Поэтому Гамлету его трагедия была необходима: благодаря ей, в нем «родился новый человек» (95). «Шекспир именно потому и велик, что умел видеть порядок и смысл там, где другие видели только хаос и нелепость». Две его трагедии «Гамлет» и «Юлий Цезарь» Шестов рассматривает, как «вопрос и ответ». Гамлет спрашивает — Брут отвечает (95). Шекспир не по невежеству, а под руководством Плутарха изображает Цезаря, как честолюбца, а Брута, как искателя «вечных идеалов» (148), который не следует «с подобострастием за диктатором». Стоя перед выбором — «свобода или рабство Рима», он «вырвал из своего сердца и любовь к Цезарю, и благодарность, и опасения за исход дела, и любовь к Порции, и глубокую ненависть к пролитию крови, и отвращение к тайному убийству» (108).
Исследуя «Кориолана», Брандес пытается установить «антидемократическое настроение Шекспира». Шестов нашел иное содержание в этой драме: в ней изображена ненависть Кориолана к толпе, а не антидемократическое отношение к народу. Кориолан столкнулся не только с плебеями, но и с патрициями: для
141
него невыносима мысль, что обе стороны руководятся в борьбе не требованиями снраведливости, а только соотношением силы.
Величайшим «из всех когда-либо написанных художественных произведений» Шестов считает «Короля Лира». Старик Лир, в котором «каждый вершок король», пострадав от человеческой низости, делает открытие, что «все люди — Лиры»; «под видимым всем горем короля происходит невидимый рост его души». Вслед за Шекспиром и мы начинаем видеть в жизни «школу, где мы растем и совершенствуемся, а не тюрьму, где нас подвергают пыткам». «Поэзия Шекспира связана с его любовью ко всему простому, истинному, справедливому, великому и прекрасному, более того, его поэзия и есть это истинное, великое и прекрасное» (160).
С проблемою личности и творчества Достоевского Шестов боролся всю жизнь и только под конец несколько исправил ошибки своей книги «Достоевский и Нитше». Первый период творчества Достоевского он характеризует тою идеею, «что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». «Новизной, как видите, она не блещет». «Записками из подполья» начинается второй период его жизни, когда он почувствовал самого себя «навеки, навсегда сравненным с последним человеком» и найденные им в себе «страшные душевные элементы» развились «в настоящую философию каторги, безнадежности, в философию подпольного человека». Хрустальные дворцы, «прекрасное и высокое», все мечты своей юности Достоевский осмеивает в этом произведении, и, если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предает его проклятию. Сущность души подпольного человека и свою собственную он выразил в формуле: пусть проваливается весь свет, «а чтоб мне чай всегда пить». В своих дальнейших произведениях Достоевский «постоянно имел в запасе показные идеалы, которые он тем истеричнее выкрикивал, чем глубже они расходились с сущностью его заветных желаний и, если хотите, с желаниями всего его существа. Его позднейшее произведения все до одного почти проникнуты этой двойственностью» (56, 235). В «Преступлении и наказании» Достоевский «всю силу своего огромного таланта направил на поддержание престижа «не убий», по мнению Шестова, «главным образом, потому, что он все равно не мог быть Наполеоном. Оттого-то он и душит своего Рас-
142
кольникова» (Добро, 48). Зосима для Шестова бледен, Алеша занимается «жалкого болтовней».
В начале XX в. Шестов не усмотрел, что «Записки из подполья» выражают не крушение идеализма Достоевского, а отказ от поверхностных идеалов, выразителем которых был, напр., Чернышевский. В эту пору Достоевский увидал такую глубину зла в себе и в человеке вообще, что понял необходимость помощи Божией для метафизического преображения души и мира, чтобы достигнуть завершения борьбы совести человеческой со злом. В нем совершался переворот, который привел его к христианскому идеалу Царства Божия и такой свободы в нем, которая роднит его религиозный максимализм с религиозною требовательностью Шестова. По-видимому, под конец жизни Шестов стал замечать это. В книге «На весах Иова» он уже говорит, что не только у подпольного анти-героя, но и в книгах и исповедях величайших святых можно найти «такие же признания». «Так глубоко пал человек», что «потребовалось, чтоб Бог отдал своего единственного Сына, потребовалась такая жертва из жертв, — иначе нельзя было спасти грешника. Так верили, так видели, так буквально говорили святые. То же увидел и Достоевский, когда отлетел от него ангел смерти, оставив ему неприметно новые глаза» (39 сс.). «Второе зрение» открыло Достоевскому «иные миры» и «он познал последнюю свободу», увидел, что Бог требует невозможного» (93) с точки зрения ограниченного разума, и «дошел до Осанны» (Ключ. 135).
В художественном творчестве Льва Толстого Шестов отмечает проявления склонности его к законнической морали. «Все действующие лица «Анны Карениной» разделены на две категории. Одни следуют правилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимости своих действий, подпадают более или менее жестокому наказанию. Анна — наиболее даровитая, ее ждет крайний позор». Впрочем, «в эпоху создания этого романа художник дает добру только относительную власть над человеческой жизнью. Более того, служение добру, как исключительная и сознательная цель жизни, еще отрицается им» (Добро 15 с.). «Война и мир», говорит Шестов, есть «истинно философское произведение»; «в ней преобладает еще гомеровская или шекспировская «наивность», т. е. нежелание воздавать людям за
143
добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, вне нас. Только в отношении к Наполеону не выдержан общий тон». Пьер говорит Наташе: «Я не виноват, что жив и хочу жить; и вы тоже». «Так тогда разрешал гр. Толстой навязчивые вопросы совести, эти вечные «виноват», которые загораживали путь его лучшим героям». «С какою любовью описывает гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, где бы столь безнадежно средний человек был изображен в столь поэтических красках» (53 с.). Понятно, что роман его производит «бодрящее впечатление». Но был у Толстого после душевного кризиса и другой опыт, открывающий ужас жизни, выталкивающий человека из «общего мира». Таков неоконченный рассказ Толстого: «Записки сумасшедшего», рассказ «Утро после бала», история «Отца Сергия», которому не помогали ни молитва, ни добрые деда», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната». В свете этого опыта человек везде видит «Мертвые души» подобно Гоголю, который в этом своем произведении «не выступал обличителем общественных нравов, а гадал о своей судьбе и судьбах всего человечества» (Иов, 101). В итоге своих исследований Шестов находит у Толстого «органическое соединение двух, по-видимому, совершенно несоединимых душ. С одной стороны, в нем живет пророк, готовый последовать примеру Авраама и даже Иезекииля, готовый сродниться с безумием, вызвать на смертный бой здравый смысл и пренебречь всеми радостями жизни». «С другой стороны — он судорожно держится за разум и учит людей надеяться, что религия есть как раз то, что помогает нам устраивать свою жизнь» (Кан., 144).
Рассмотрев взгляды Шестова, отдадим себе отчет, можно ли считать его скептиком. Рауль Рихтер в своей книге «Скептицизм в философии» исследует полный и частичный скептицизм. Деля все предметы знания на чувственные и нечувственные, он различает два вида частичного скептицизма: первый вид — трансцендентный скептицизм при имманентном догматизме, напр., такова теория знания Канта; второй вид — имманентный скептицизм при трансцендентном догматизме, встречающийся у религиозных мыслителей, напр., у Паскаля. Можно было бы думать, что и Шестов принадлежит к этой второй группе: он ищет последних истин в области сверхчувственного и даже сверхлогического, он презрительно относится к «научным» истинам и до-
144
казательствам. Посмотрим, однако, что он сам говорит о себе. Против тех, кто причисляет его к скептикам, он заявляет: «Я не выражаю солидарности с существующими философскими системами и смеюсь над их самоуверенной торжественностью победителей. Но, господа, разве это значит быть скептиком?» (Нач. 119). И в самом деле, он живет исканием и открытием «последних» истин; но вместе с тем он говорит, что и в науке, напр., в физике, химии можно прийти «к достоверному, прочному убеждению» (Кл. 166); презрительной критике он подвергает только гносеологию и научно философские теории. Мы видим, как он обрушивается на гносеологов, обосновывающих возможность общих необходимых суждений, отстаивающих закон причинности, как закон единообразия природы. Это вовсе не значит, будто он отрицает закон причинности, как утверждение, что каждое явление обусловлено творческою деятельностью какого-либо существа. Конечно, он признает, что Пушкин — причина возникновения поэмы «Евгений Онегин». Но он думает, что не доказано, будто мир состоит из существ, которые действуют вечно одним и тем же способом. Из этого, в свою очередь, следует, что в природе существуют только правила, согласно которым более или менее часто возникают события, но не законы, которые были бы абсолютно не отменимы. Собственно, когда Шестов борется противпринудительных всеобщих суждений, он ищет свободы не от истины, а от законов природы. Ему нужно не разрушить науку, а заставить ее высказывать свои обобщения в более скромной, не аподиктической форме и таким образом очистить место для религиозных истин и учения о власти духа.
Только в одном пункте Шестов заходит слишком далеко, именно тогда, когда он отвергает даже закон тожества и противоречия, так что, оказывается, Бог мог бы сделать бывшее не бывшим. Правда, есть великие философы, напр., Гегель, считавшие живую действительность воплощенным противоречием. Однако, исследование показывает, что такие утверждения возникают всегда вследствие неправильного понимания законов тожества п противоречия (это подробно рассмотрено в моей «Логике»),
В области «последних», особенно религиозных истин у Шестова много защищаемых пм положительных утверждений. В центре его внимания, как показано выше, находится живая, творчески деятельная индивидуальная личность. Он признает
145
свободу ее и возможность метафизического господства духа над природою. Особенно увлекает его идея всемогущества Божия. Число таких положительных утверждений его можно было бы значительно увеличить. Так, он говорит: «Чистых душ нет: все в пятнах. На страшном суде все это само собой отпадает: ведь там человек судит себя сам. И судит с такой суровостью и беспощадностью, о которой на земле и не слыхивали». «И вот получается задача: можно ли спасти душу, созданную из ничего ивновь — от ужаса пред своим безобразием — осудившую себя на уничтожение и не желающую из этого «ничто» уходить? Как это Бог делает, я не знаю. Но я иногда чувствую, что Он это делает». (Вл. 94 с.), Шестов верит в восстановление Богом всех (Добро, 51). Но в области этих последних истин есть много такого, что доступно нам только путем «приобщения» к ним (Кан., 43 с.); их лучше открывают поэты, чем философы (56 с.), но в значительной мере они и вовсе не выразимы словами (Нач. 184 с.).
Даже и краткий обзор обнаруживает своеобразие и ценность идей Шестова; необходимо отметить еще его литературный талант и превосходный русский язык. Еврей по крови, Шестов принадлежал к числу тех русских евреев, которые приобщили высокую талантливость своего народа к жизни русской культуры и много содействовали расцвету ея. Он был видным членом русской интеллигенции, вырабатывавшей высокия духовные ценности. Вечная память ему!
Н. Лосский
146
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
