13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Сувчинский П.
Сувчинский П. Страсти и Опасность
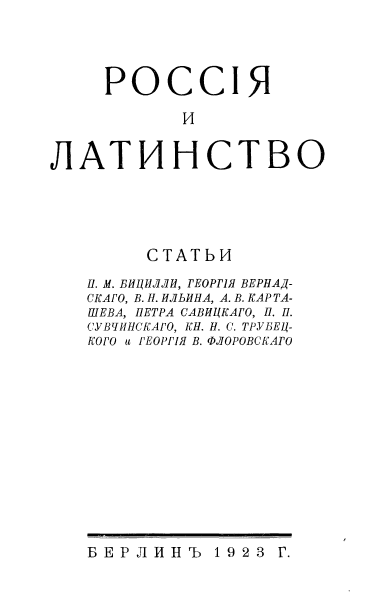
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
СТРАСТИ И ОПАСНОСТЬ *)
Сбывается вся полнота испытаний России. Прошедший 1922-ой — страшный год. Нельзя сказать — самый страшный, ибо неисповедимо будущее, но хочется именно так сказать — самый страшный, исключительный год. Многим сначала казалось, что русская революция, прорвавшаяся в эпоху наибольшего авторитета западно-евро-
_________________
*) Настоящая статья написана под впечатлением нескольких писем, полученных в недавнее время из России. Вопросы религии, Церкви, а также всевозможные толки о пересмотре православных догматов и священных канонов встали ныне перед различными русскими кругами во всей остроте и неожиданности. И эта неожиданность поставленных религиозно-практических проблем в связи с их исключительною трудностью, во многих случаях приводит к опасным результатам. Почти вся Россия и интеллигенция в особенности, за последний век утратила стиль и образ религиозного мышления, религиозного творчества, которые требуют своей культуры, своего подхода к ним. Ныне, поставленные лицом к лицу перед разрешением глубочайших проблем религиозного и церковного опыта, современные поколения России, в некоторых случаях и без злой воли, готовы впасть в неканонический стиль при обсуждении трудных вопросов церковной реформы. Одно лишь упование на благодатное просветление умов — греховно. Надлежит сознать свою немощь и пытаться вновь обрести живой дар религиозного творчества, чтобы достойно принять те великие задания, которые наложены на Россию всею современной эпохой.
16
пейской цивилизации, идеалы и формы которой еще так недавно принимались как всечеловеческие и абсолютные, пройдет быстро и конспективно все необходимые социально-политические и экономические свои этапы, с тем, чтобы выровнять «отсталую» Россию в едином фронте человеческого прогресса. Казалось также, чем больнее и жгучей вскипели сначала, затаившиеся на дне русского быта и культуры давние противоречия и грехи, тем скорее расточит революция свой гнев и злую эмоциональность. Но вот эмоциональный период революции давно изжит; революция, как катастрофический сдвиг народных пластов, как замена и утверждение на поверхности активного, государственно-социального существования новых общественных слоев — также закончена, а между тем Россия все еще в мятеже и безумие! И нынешний огонь, огонь 1922-го года — поистине инфернальный — страшнее того пожара гражданской войны, который господствовал в предыдущие годы. Теперь поднята сама страсть духа, раскрылся пафос кощунства и мерзости, тогда как раньше проявлялись только неудержимые вожделения зависти и мщения обеих боровшихся сторон. И стало ясным: значит русская революция одними социально-политическими процессами не исчерпывается. Значит Россия — не только выравнивается по отношению к Европе. Значит она таит в себе иной смысл, иное свершение.
Как бы разобщенно ни жила Россия в своих отдельных культурных слоях, нужно признать, что отблеск единого источника света внутренне связывал все стороны ее бытия. Когда начались процессы социально-прикладные, то не могло остаться незатронутым и существо. Поднялось дно — замутилось и померкло отражение неба.
17
И поднялась и стоит теперь в процессе времен русская революция, как трагедия и надлом всего культурно-духовного существа России, как новая историческая эпоха, как самостоятельное раскрытие сложного и глубокого целого, по-видимому во всех отношениях обособленного и внутренне независимого от Европы. И предельный итог ее удачи — волевое раскрытие мира православной культуры.
В первые годы революции необходимость поставила перед Россией катастрофическое разрешение наболевших и запущенных проблем аграрного и социально-уравнительного порядка. В обстановке гражданской войны, в этом революционном этапе, равновесия достигнуто не было и дальнейшее развитие этих процессов пошло по пути медленного и последовательного приспособления к требованиям необходимости и жизни. В этом, вступительном своем этапе, революция как бы не коснулась самого существа, корня русской культуры. Коммунизм выступал прежде всего, как слепая революционная энергия. Однако большевистская власть пошла дальше и из революционной энергии, из носительницы революционной эмоциональности превратилась в оплот культурно-коммунистической инициативы. Обстоятельств для такого победного превращения, неожиданного для самой революционной интеллигенции, оказалось множество и, прежде всего, полное и всеобщее неуяснение, или забытие к моменту катастрофы, тех основ, на которых покоилась русская духовность и культура. В слепоте и нищете духовной предалась Россия тому началу, которое, прельстив ее благами жизни, мгновенно принялось осуществлять на ней и через нее, свой утопический фанатизм. Насколько отдававшаяся Россия забыла себя, настолько те, кто завладевали ею, ни
18
на мгновение не теряли сознания своего внутреннего существа и твердо понимали, что раскинутый ими лозунг социального равенства, лишь заманивающий зов, лишь первая ступень к порогу злой пустоты, той пропасти, которая является столпом утверждения законченной и целостной религии абсолютного позитивизма и социалистического натурализма и что любое сознание человеческое, не имеющее противоустоя, раз вступивши на первую ступень, обреченно увлекается в бездну и уничтожается в этом приобщении пустоте. Устой России был подготовительно подточен. Она не удержалась в равновесии перед раскрывшейся внезапно пропастью и рухнула вниз. Говорили «о коммунистическом эксперименте над Россией», этим самым как бы выдвигая вперед социальную утопичность большевизма, забывая, что она лишь практически-действенная проекция страшного мировоззрения, страшной религии, и что для ослепленных фанатиков противление и противоречия эмпирического опыта при проведении в жизнь их веры, только усугубляют напор страстности, ибо она имеет свой религиозный упор, хотя бы в пустоту. Пафосу может быть противопоставлен в борьбе — только пафос. А для пафоса нужна концентрация воли и веры.
Когда часть России, с первого дня захвата большевиками власти, противопоставила себя — им, то это был в сущности только жест защиты, почти что рефлекторный, бессознательное движение чтобы оборонить себя от чего то такого, что инстинктивно воспринималось как вред, опасность, беда, зло. Противление было рассеянное, несосредоточенное, ибо не имело в себе никакого положительного устоя отпора, тогда как противник был, как взведенная пружина, в которой
19
затаилась вся потенциальная мощь подпольного фанатизма. Белое движение очень скоро обнаружило слабость своих духовных основ, превратившись из рефлекторной обороны в классовую самозащиту, что привело к быстрому разложению и поражению.
Без духовного средоточия, одинакового по силе и упорности, победить коммунизм оказалось невозможным. Борствующая Россия отошла в глубокий тыл. Она была приведена к необходимости сложить оружие практической борьбы и начать процесс основного духовного накопления. Та Россия, которая не приняла коммунизм, ушла в Церковь. Большевики это поняли и подняли гонение на Церковь, спровоцировав его необходимостью имущественной секуляризации.
1922-ой год потому и может считаться годом исключительным, что он обнаружил внутреннее расщепление в походе против большевизма. Изобличив всю беспомощность эмпирического опыта в деле преодоления социалистического утопизма и оставив эти два начала — реального и призрачного, противопоставляться в жизни в самых уродливых и парадоксальных формах и сочетаниях (новая экономическая политика, прорастание новой буржуазии и т. п.) и ощутив, наконец, в чем коренится упорность большевистской воли, — процесс борьбы и одоления раздвоился и перенес напряжение своих сил вглубь духовного перерождения и самонахождения. Первая попытка нового фронта, давшая примеры истого мученичества, сразу раскрыла, что избранное новое направление борьбы верное, могучее и опасное для противоположной стороны. В 1922-м году Россия вступила в полосу не только прикладного приспособления коммунистических принципов к требованиям «буржуазной» действительности, но и на
20
путь страстей духа, на которых происходит религиозное самонахождение России. Гражданская война была жертвенной, но духовный знак, ее «во имя», найдены не были. Теперь они вскрылись во всей полноте: Этот знак — крест. Бог — против пустоты. Православие — против социализма.
Вместе с раскрытием этого раздвоения борьбы начинает определяться и срок конечного достижения: он далек, долог и труден, ибо действенная энергия сопротивления отныне почти целиком переходит в энергию потенциального накопления. Создается как бы видимая утечка сил, непротивление, уход с поверхности борьбы в недра, которые можно опрометчиво определять, как сдачу всех позиций, как пассивное подчинение цепко могучему противнику. Но такое суждение, конечно, неправильно. Слишком долог был процесс внутреннего опустошения, изнурения и греховного расточения духовных благ и сил России, чтобы можно было надеяться на скорое обратное накопление. Нужно обильное средоточие творческих сил, чтобы хватило их на возведение монолитной духовной Церкви, потому что обличать и сражаться с фанатическим ослеплением бесполезно.
Нужно рядом с его крепостью возводить свою твердыню, которая бы самодовлеющим утверждением притянула бы к себе расшатанный народный организм, и около своей основы наново сосредоточила бы распавшееся целое. Но чтобы строить крепко нужно начать строить снизу, с основания, глубоко под землей утвердить первые камни будущего здания. Закладка эта уже произведена, пока что работа идет невидимая, подземная. И чем дольше будут работать над фундаментом, тем прочнее окажутся возводимые потом стены и купол. Поэтому так важно, чтобы в период об
21
новленного основоположения будущей культуры, будущего мироутверждения России, — самое существо, сердцевина, зерно этого зачатия — оказались бы подлинными и благоверными.
Посев еще не означает скорой жатвы. Конечно, моральное падение России — чрезвычайное, хотя оно, в сущности, порядка религиозного — результат быстрого и массового усыпления религиозного центра в каждом (как будто мгновенно у всех вынут религиозный позвоночник), после чего наступило последовательное разложение всего духовно-нравственного организма России. Пока что — Россия пребывает в состоянии злой и действенной аморальности (т. е. греха) и вряд ли скоро усыпленное благочестие будет подменено кодексом прикладной, европейской безрелигиозной морали; поэтому исцеление ее может наступить столь же мгновенно, как и падение, коль скоро основной позвоночник духа будет в России восстановлен.
Та религиозная смута, которая ныне вспыхнула в России, как последний предел достижения революционного огня, является, конечно, лишь отчасти органическим завершением того процесса переустройства, который с первых дней революции захватил всю Россию. Если поводы для сурового обновления русского Православия и можно найти в его многолетнем соборном цепенении, то самый образ проведения этого обновления в жизнь, каким он ныне сказывается, — является исключительно делом злой воли тех, которые задачей своей поставили посеять плевелы в ту землю, куда положено зерно пшеницы Господней, дабы, если нет сил предвратить посев, то хотя бы засорить будущие всходы веры. Конечного вреда опорочение это принести не может, ибо
22
возрожденная жизнь Православия ощущается ныне, как начальное возглавление мощной, исторической эпохи, предельное развитие и влияние которой, в случае удачи, едва ли поддаются охвату. Но на пути укрепления Православия, церковная смута стоит как страшный соблазн, который и следует как таковой учитывать, для полного и беспоследственного одоления его.
Было бы ошибочным видеть в современной русской церковной разрухе — назревающий процесс реформации Православия.*) Если Россия в мятежные века Возрождения фактически не была вовлечена в его опыт и страсти, то это не значит, что русское сознание не прошло исторически, в разных аспектах, сквозь всю совокупность идей Гуманизма. Если же Россия только поверхностно впитала в себя идеологические мотивы Возрождения, то искать объяснение этому нужно в особенностях религиозно-культурного существа русской стихии, которому было и есть чужд весь пафос европейской секуляризации. Кроме того, сама эпоха современности такова, что на ее основе немыслимо повторение исторических процессов протестантства и гуманизма. В катастрофическую пору, когда добро и зло реально проступают и обозначаются, в событийности жизни, скорее возможен соблазн манихейства, равноправности этих двух начал (как результат опознания пределов зла, пессимистических сомнений и ропота), нежели утверждение затемненного ощущения их, каковое присуще гуманистическому идеализму. Позитивная мораль, которая является следствием
_________________
*) Склонность к «реформации» Православия имеет сравнительно недавно обозначившаяся группа «либерального» духовенства, которая представляет собой жалкое и ничтожное вырождение из здоровой и крепкой своей среды, столь же ненужное, как и средняя либеральная интеллигенция.
23
очеловечения религиозной идеи добра, в эпоху трагических свершений, теряет свое рационалистическое обаяние, ибо добро — жизненно раскрывается в своей метафизической, подлинно таинственной сущности. Простить войну, революцию, насилие и убийство, можно только с точки зрения религиозной идеи добра. Точно также и протестантский индивидуализм и вся совокупность связанных с ним психических настроенностей немыслимы, когда события истории начинают трагически разыгрываться в самой массе человеческой, когда каждый чувствует себя одинаково захваченным, значным и правным в этих процессах. В такие времена, массы не распыляются, а наоборот, помимо личной воли, насильственно организуются, подчиняются взаимному духовному строю.
Реальная трагедия жизни требует какого-то обоснования, оправдания, которые могут быть найдены лишь в соответствующем по реальности Откровении религии. Поэтому пришедшая в себя Россия в настоящее время тянется в Церковь и отнюдь не находится на пути секуляризации и гуманистической реформации.
Наконец, реформация уже потому не может быть дважды повторена, что она уже создала и утвердила на долгие времена — неизменную и с точки зрения религиозного рационализма — идеальную схему веры и молитвенного обычая, и эта схема будет еще века жить в своей замкнутой омертвелости. Повторять реформацию незачем, ибо она всечеловечна, в смысле до конца точного закрепления самой сущности того специфического толкования и учения христианства, которые всегда будут иметь среди разновидности темпераментов наций и отдельных людей — своих последователей. Православие не таит в себе великого греха присвоения
24
себе абсолютной харизмы, который внутренне определил процесс реформации из Католичества, а потому, тем русским бесцерковникам, которым понадобилось ныне отойти от Церкви и поднять в лоне ее революцию, которым не раскрылась тайна Церкви, как священного организма, где уже все дано, где нельзя что либо произвольно, революционно прибавлять или убавлять, где можно только развивать и растить, которым еще не предстала Церковь, как единая, законченная форма, постигающаяся человеческим творчеством одинаково, в озарении пророчеств, в богомудром раскрытии отеческой письменности, в распевах и песнях, в зодчестве и иконописи, в опыте личности и в свыше вдохновенном разуме Соборности — тем не нужно создавать реформированного толка Православия, а достаточно примкнуть к уже имеющимся. В них они найдут просто и безболезненно те прописи молитвенного распорядка и обычая, освобожденные от всех «излишеств» церковного творчества, к которым по-видимому стремятся. Для этого не нужны масштабы организованной реформации, исторических данных для которой в России нет, — это Privatsache каждого.
Опасность для Православия не в реформаторских претензиях некоторой части русской церкви, а в том, что в эпоху господства в России общего духа слепой гордыни и самонадеянности, «пересмотр догматов и нравоучения Православной веры, священных канонов св. вселенских соборов и православных богослужебных уставов », — перед которым так стремительно «живая церковь» хочет поставить русский народ, не имеющий для этого в пору революции должного духовного равновесия, может привести к худшим последствиям, нежели к специфической реформации —
25
к внутреннему подмену или искажению самих основ духа православного богоуставничества и богоисповедничества, о которых не помышляют, может быть, сами проводники и вершители церковной революции. Пусть инициаторы в меньшинстве и соборность их искусственная и разбойная, но когда весь народный организм в лихорадочном воспалении, в тяжком недуге, — общая восприимчивость повышается и тот яд, который при нормальных, здоровых условиях нашел бы себе противоядие, может оставить следы заразы большие и более затяжные, нежели это кажется.
Не перспектива реформаторского раскола открывается перед русской церковью, а опасность ее внутреннего замутнения, которое может невидимо вывести русское православное сознание из сферы его исконного богоутверждения. Не опасность реформации, а призрак деформации, — католичества — стоит перед ним.
***
Католичество, отмеченное действенным тоносом своего конфессионализма, значительно больше Православия участвовало во внешней истории Христианства и может считаться ныне — вполне определившимся религиозно-культурным феноменом. Иначе обстоит дело с Православием: насколько Византийское Православие, как эпоха, плодоносно воспринявшая зерно Откровения и давшая Христианству исторический рост, стихийно скрестив в своей культуре различные религиозно-творческие потоки, — достаточно утверждено и изучено — настолько дальнейшие этапы православного развития, (православие славянское, западное, восточно-
26
азийское, новогреческое, русское) раскрыты, как исторические лики единого православного гения.
В частности, православная Россия должна быть выделена, начиная с 14—16 в. из числа народов православных, как носительница Великого Православия, ибо русская православная Церковь и русский религиозный опыт носят на себе ту же печать неоспоримой избранности и «великости», что и история русской государственности, в которой, даже в эпоху величайшего упадка, заложена история великодержавности Российской. *)
Если сравнивать практическую энергию Православия и Католичества, то, бесспорно, Католичество выступает как образец исключительного волевого конфессионализма. Искать объяснения разницы темпераментов исповедываний исключительно в области этнографической, значило бы вовсе лишить эту проблему религиозно - метафизического смысла. Не коренится-ли волевая пассивность Православия, по отношению к Католичеству, во внутреннем ощущении своей истинности, не нуждающейся в суете излишнего миссионерства? Православие,
_________________
*) Однако само русское Православие является сложным религиозно-культурным организмом и имеет множество аспектов развития и проявления, иногда противоречивых и казалось-бы несовместимых.
Образы русских православных святителей и мучеников, Добротолюбие, эллинские и византийские элементы Православия, творчество и быт господствующей исторической Церкви русской, раскол, старообрядчество, мистическое сектантство, уния, народный эпос, юродство, старчество, русское православное богословие, православие Достоевского, К. Леонтьева, Славянофилов, Гоголя, Пушкина, А. Иванова, Лескова, Розанова — вот образцы разноликости русской православной стихии, которые надлежит опознать и понять, как единое и органическое целое, таящее в себе силы еще неведомые....
27
как Завет, призванный к самоосуществлению, обладающий полнотой Откровения, лишь оберегает свою чистоту и сущность.
Не из помысла отрицать в Католичестве положительное Откровение и гений ведения и разумения, приходится все-таки удостоверить, что болезненно-волевая напряженность Римской церкви, ее тревожное стремление к всемирной теократии, — является следствием, вынужденным самооправданием абсолютной харизмы, которой дерзновенно венчается вся католическая теодицея. Избрав путь самообожающей гордыни, Католичество вынуждено во что бы то ни стало осуществлять этот постулат. Из теократического абсолютизма вытекает тот практический и моральный релятивизм Католичества, который столь чужд Православию. Отсюда, то негласное соглашательство, попущения и допущения многого, которыми определяется не поддающаяся регламентации активная политика Ватикана, безмерно расширившего свои прикладные функции. Отсюда превращение незыблемого, столпообразного Завета Православия, уставность и практика которого одинаково косны, в змеистое рационалистическое самооправдание — учение Католичества, которое всегда в поиске, а значит в риске *)
Дерево Церкви, с заложенной безмерностью постепенного роста и развития, Католичество заменило постройкой в один прием грандиозной башни, которую в связи с убегающими горизонтами истории приходится без конца надстраивать. Православие утверждается по вертикали — вглубь и ввысь: Католичество — в гори-
_________________
*) «Заветность» Православия определила и общий уклон русского творчества в сторону духовного реализма, которому чужд и враждебен западный символизм, коренящийся в самой природе католичества.
28
зонтальной плоскости, которую оно пытается безгранично себе подчинить. Соединив в царстве мира сего оба откровения — первое и второе пришествие (ибо при наместничестве второе пришествие уже как-бы осуществлено), Католичество имеет не только устой Завета, т.е. устой начала, на котором взрастается Церковь Христова, но и призрачный устой в бесконечности, притяжение вперед, несовместимое с религиозным смирением и христианским Царством не от мира сего. Этим вторым устоем, точно парализующим первый, Католичество и близко к утопии. Но не только это — догмы Католичества, позитивистического утопизма и материалистическая метафизика сближаются на почве их абсолютной монистичности и в этом основа их роковой союзности.
Россия в настоящее время, несмотря на страстные потуги одной своей части сбросить с себя коммунистические путы, все-таки должна считаться глубоко зараженной ядом социализма. Благодаря полному овладению всеми сторонами русской жизни и культуры, революционная интеллигенция имеет возможность подвергнуть Россию не только эксперименту внешней социализации, но и воздействию самого концентрированного духа позитивистической религии, жгучая заразительность которого действует скрыто и разнообразно. Не подлежит сомнению, что зараза внесена и в Церковь. Вернувшись к творческой традиции соборности, Православная Церковь, в процессе оживления своих сил, поставила бы сама на разрешение многие вопросы, которые ныне вошли в программу преобразований восставшей церковной группы. Но, конечно, постановка была бы совсем иной, т. к. внешний характер церковного восстания и его методы проведения — изобличают большую внутреннюю близость
29
руководящей группы с тем идейно-волевым началом, которому подчинена вся Россия. И не гуманистические тяготения реформации сквозят в делах и лозунгах ослушников Церкви, а та практическая терпимость и духовное попустительство, которые так характерны для активного Католицизма. Где Завет Православия находит достаточно веры и устоя сказать открыто — нет, «живая церковь» подобно Католичеству, спешно развивает примирительную идеологию, или же корыстно закрывает глаза. (Католичеству свойственно стремление хотя бы к компромиссному завоевательному соглашению уния.) И если Католичество идет на уступки, то в главном оно всегда сумеет оберечь свой авторитет, престиж и свою властность, тогда как «живая церковь», входя в своеобразную унию с коммунизмом, готова осуществить ее ценою внутреннего самопредательства. Как знать, может быть в дерзновенном вызове всему миру, в неслыханном слепом самоутверждении большевизма, Ватикан инстинктивно почувствовал сродную себе по гордости идеологию, близкий по тоносу волевой упор — и насторожился, и потянулся к России. С другой стороны, куда же как не в сторону соблазнительной тактики Ватикана было обратиться той части русской Церкви, которая, предав творческое основание Завета т. е. благоверную соборность, и потеряв религиозное ощущение русской катастрофы, в «порядке революции» дерзнула начать пересмотр догматов и канонов? Присвоив себе прерогативы легальной партии, церковные революционеры обрушились со всею силою на ту сердцевину Церкви и Православия, которая оказалась оплотом единственно возможного отношения религии и Церкви к событиям революции и этим, конечно, навсегда заклеймили себя насилием и злой страстностью. Не
30
страсти опасны для Православия. Вся Россия находится в страстной одержимости, при которой теряется ощущение качества состояния, вся Россия в магическом круге безумия, в котором каждый во власти каждого, каждый во власти всех, и все во власти каждого, когда круговая порука этой одержимости не дает никому возможности высвободить себя из-под ее гнета, сбросить с себя ее шальной и злой бред. Но рано или поздно, если суждено, Россия из дна адова выберется. Когда процесс духовного накопления воздвигнет наконец крепкий устой за спинами прозревших и борящихся, — внутреннее наступление должно оказаться решительнее всех до сего времени бывших наступлений внешних и только оно в состоянии будет сокрушить оплот человекоубийцы. В страстях только могло развиться то содержание, которое начинает теперь заполнять опустошенность русской духовной культуры. И опасность лишь в том умном и тонком яде, который внутренне и явно заражает весь организм современного человечества, который может отравить и Православие, приведя его к условному, частичному окатоличению, безразлично, либо в основах, либо в осуществлениях.
Ведь Россия в настоящее время вся расплавленная, текучая, газообразная, — от тех огненных процессов, которые происходят в ее недрах. Вся она снялась с якорей, стала плывучей. Поэтому, как воск растопленный, больное тело России легко поддается давлению и воздействию, и когда огненная лава ее наконец застынет — все ли примет исконные формы? Многое необходимо переплавить и наново выковать, — но не все. Есть исторические формы, искажение которых равносильно уничтожению, ибо шлифовка и грань веков не вос-
31
становимы. К таковым формам прежде всего в России принадлежит Православная Церковь.
Не все с полной мудростью пошли под сень Церкви. Много загнанных страданием и горем. Многие спасаются в Церкви, ибо среди окружающего разорения — она одна стояла до сих пор непреступной скалой. Но не все, даже среди верующих и обращенных, поймут, что перед ужасом поднятого гонения на Церковь, ради сохранения ее заветности, лучше идти на внешнюю гибель, нежели стать на путь попущений и компромиссов. Может быть не всем ясно, что творческий почин Церкви заключен лишь в соборной мудрости верных и всякое вторжение человеческого авторитета в творческий мир ее, означает еретическое насилие и приводит к католическому принципу взаимоотношений Бога и человека. Нависает для Православия соблазн внутренний, духовно-качественный и если он не будет до конца осознан и преодолен, и оставит хотя бы бледный исторический след на челе Православия, то Католичество в праве учесть это как свой значительный успех. И если в Католичестве есть вздроги сознания безвыходности своих путей, то тем пристальнее обнаружит оно зачатки своей же болезни в здоровом доселе организме Православия. В настоящее время во всей силе приложены к России идеи, принципы и методы Запада, и в том числе господство духа слепой человеческой гордыни. А стоит кому-нибудь хотя бы внутренне отречься и предать Завет, т. е. нормы богочеловеческие, как автоматически вступает в силу полная обреченность самому себе, своему своеволию, которое в погоне за искусительным познанием истины (т. е. своего человеческого идеала), манящей и никогда не дающейся, приводит, в одной
32
плоскости к парадоксальному материализма и спиритуализма, а в другой — к соблазнам католичества. Но кроме опасности внутренней — есть опасность реально — внешняя. Нельзя сказать, что Церковь стала исключительно жертвой революционного, стихийного вихря, — к ней кроме того ведется подкоп сознательный и инициативный. Лучше быть обостренно-бдительным, нежели затемненным, или нерадивым.
Может быть в итогах революции, как они уже теперь намечаются, Россия, в целом, отвернется от Запада и следовательно противопоставит свое Православие — Западному Католичеству, ибо «латинство» всегда воспринималось на Руси, как яркий и вражеский признак иностранства. Но пока-что, усилившаяся католическая пропаганда может рассчитывать в России на успех, ибо нынешняя русская возбужденность духа и религиозная растерянность — носят характер болезненной восприимчивости.
Не слепой фанатизм заставляет ныне русское Православие оборонительно насторожиться в сторону Римской Церкви, а конкретные факты, свидетельствующие что исконно-агрессивное отношение Ватикана к Востоку, им не оставлено.
Может быть следовало, перед лицом страшного и, казалось бы, общего врага — теснее объединиться Церквам Восточной и Западной, может быть Католичество, пребывающее в силе и господстве, могло бы прийти на помощь истерзанной Церкви русской, но где те гарантии, что этот союз и эта помощь не будут использованы воинствующим Римом согласно исторической традиции, как самый тонкий и мудрый вид пропаганды, как насаждение своего авторитета? Где гарантии, что страдальческий опыт русской Церкви,
33
который должен будет привести Православие к действительному осознанию всей силы врагов Христовых и к осознанию необходимости единения всего христианского мира во имя борьбы с ними — не обернет Ватикан в свою пользу?
Веры в бескорыстие Католичества — у православных нет и, до перерождения самой сущности и всей практики Западной Церкви, — доверия к нему обнаружено быть не может.
Ни на мгновение не оставляя помысла о Единой Вселенской Церкви, (ибо «все причащаемся от единого хлеба»), в катастрофическую эпоху современности, в «дни лукавые», надлежит перенести упор и волю из сферы религиозно-церковного макрокосма в область частности, в область конкретной действительности и тут твердо удержаться на устое Православия, на том устое, который, веруем, станет утверждением Церкви Вселенской.
Следовательно, для современного Православия ревнивое самозамыкание и кафоличность должны стать синонимами.
Откровение нашей эпохи, эсхатология ее заключается в трагическом раскрытии, как бы наново, границ Божеского и человеческого, тех границ, которые за последние века окончательно сбиты и попраны. И на обозначившихся границах надлежит утвердить новую мироуставность, творчески исполнившись данностью Откровения. Но смысл происходящего может открыться лишь тем, в ком рассудок и глаза свободны и не схвачены и не парализованы гипнотической властью злой пустоты.
Поэтому так важно, чтобы в такую откровенную эпоху, Православие, в коем границы эти еще четко
34
устояли, оказалось бы не зараженным в последнюю минуту теми влияниями, в которых уже давно все разделения и грани разрушены и растоптаны.*)
Уже давно человечество находится в великом соблазне. Этот соблазн заключается в небывалом укреплении всей совокупности тех идей и жизненных принципов, согласно которым вся полнота мировой тайны, воли и закона, а также и жизненного смысла — сосредоточена исключительно в человеке. Все стороны современной культуры, иногда даже безотчетно, одержимы этой самонадеянностью. Но, чем шире простирается над миром этот человеческий вымысел, тем трагичнее проявляется он в эмпирической действительности. Поистине, приложимо к современности библейское изречение о беззаконном: «и низложит его собственный замысл его.» (Книга Иова, 18.)
Там, где христианство раскрывает трагическую антиномию спасенного человеческого бытия, являющегося
_________________
*) В разнообразных попытках осознать и определить сущность Православия до сих пор мало обращалось внимания на то, что устой православный зиждется именно на этой, строго обозначенной, и до конца сохраненной границе человеческого и божеского.
Даже психо-духовный феномен любви в человечестве, собственно лик любви в миру, казалось бы, цельный и неделимый по своей природе — воспринимается и живет в Православии и русской духовной стихии — раздвоенно, двулико, имеет две обращенности, два естества в своей единосущности. (Речь идет не о тварной любви — притяжении человека к Богу и ответной Любви — Смирении Бога к твари, а о «междучеловеческой» любви).
Человеческая любовь в людях очевидно была дифференцирована в качестве самостоятельного, психо-духовного феномена из всеобщего погружения твари в Боге — лишь после грехопадения первых людей, после того, как непосредственная связь неба и земли была расторгнута и нарушенное притяжение человека ввысь, частично заменилось уже человеческим, притяжением друг к другу.
35
все-таки «пленником закона греховного», в котором зло имеет значение физического закона, вследствие чего мучительно чаемый синтез всего человечества в добре — не может иметь место на земле, а совершается лишь в «обновлении духа», в «откровении сынов Божиих», — дурной человеческий универсализм самонадеянно убежден осуществить этот синтез механически-уравнительным принципом, и намеренно оставаясь лишь в плоскости земного и человеческого — остается роковым образом в сфере зла.
Не в подобных ли соблазнах дурного универсализма находится и усилившаяся за последнее время проповедь о соединении церквей? Не присваиваются ли в данном случае человеческим силам такие возможности достижений, которые могут быть осуществлены только в эсхатологический срок волею последнего свершения? И самый факт, что человечество трагически
_________________
Религиозная память об этом первичном моменте зарождения исторического эона, память о трагическом узле грехопадения, определившем собою все дальнейшее отношение бытия человеческого и Бога с исключительной силой запечатлелась на духовном лике русского Православия, и с беспримерною органичностью воспринято им в религиозный опыт. Специфически-человеческое, тварное естество любви, осознается им как вина, как виновность всех перед всеми, как виновность человека перед всею тварью за первородный грех. Человек — как бы обречен на любовь, однако до конца исполниться ею, или свергнуть с себя ее бремя одинаково не в силах. Любовь человеческая, возникающая между людьми, как неосуществимый нравственный союз — есть следствие греха. Не было бы греха в мире — не было бы и любви в ее человеческом, чисто тварном аспекте. Любовь — свойство греховного состояния человека. Человек добровольно обрек себя на искус любви…Любовь трагически сочетается с грехом мира, а через это и с свободной волей человека, вследствие чего любовь должна неизменно иметь смысл раскаяния и покаяния.
36
осуждено в различных формах исповедовать единое Откровение Христианства — не означает ли действие все того же первичного закона зла, вследствие которого человечество, получив Божественное искупление и спасение все таки находится вне чертога Христова и осуждено пребывать в немощи греха, несмотря на то что находится в обладании Пути в Царство не от мира сего?...
А если это так, то перед этой антиномией надлежит только смириться и средствами человеческими и недостойными не покушаться па преодоление ее. Подобно тому, как в опыте личности, христианская правда обретается не в экспансии, а в духовном самоуглублении, — опыт Церкви, особенно Православия, следует преумножать не посредством соединения, а в процессе бесконечного внутреннего углубления и возношения, что вернее, особенно в наше искушенное время, ведет в лоно единой Христовой Церкви. Сейчас, больше чем когда-либо, нужно оберегаться соблазнов всеразрешаю-
_________________
Здесь заложен тот пафос вселенскости, который так характерен для Православно-русского, религиозного идеализма, ибо весь мир во зле лежит и, следовательно, все несут кару за первую вину человека, которая заложена в каждом и неизживаема. Подобное понимание любви — привело бы к глубочайшему арелигиозному пессимизму, если бы православная внутренно-духовная установка проблемы Любви человеческой, не имела бы другой обращенности, столь же ярко и органично утверждаемой обращенности к Богу, согласно которой любовь «междучеловеческая» есть в то же время символ спасения, искупления и радости во Христе.
Христос, хотя и не упразднил бремя тварной любви человеческой, но указал путь, становясь на который человек перестает чувствовать это иго, ибо оно становится легким.
Заклятие первородного греха Христом снято, а этим снят и порожденный грехом оброк исключительно тварной любви между «сынами противления» века сего. Любовь во Христе к ближнему становится безусловно — божественной
37
щих утопий, достижение которых предполагается человеческими средствами и возможностями, ибо надлежит во что бы то ни стало, наконец, прозреть в отношении онтологической реальности и законности мира и, на основании этого опыта, вернуть человеческое сознание из призрачного мира утопических вымыслов к жизненной действительности «ибо Господня земля и что наполняет ее.» (Псал. 23, 1.)
Прозревших пока не много. Прозревающие может быть — еще грядут. В страшной борьбе намечается раскрепощение людей, но на этот раз не от «гнета» Церкви, как это было в века реформации и гуманизма, но от самих же себя, от всеобщего и взаимного рабства. Предчувствуются кануны великой эпохи, которую, может быть определить и возглавить — призвано будет Православие, ибо в кругу христианских богоисповеднических систем — оно единственно устояло на живом устое кафолического Откровения, а другого выхода для восстановления богочеловеческих норм, как возвра-
_________________
функцией в человеке, которая не отменяет любовь тварную (ибо грех в мире, несмотря на то, что он побежден божественно, по человечеству пребывает и свободная воля в людях еще сильнее утверждается после Откровения Христа), но соединяясь с нею дает богочеловеческий синтез любви Нового Завета для всех людей между собой в мире здешнем.
Вот этого богочеловеческого утверждения феномена любви не знает ни Католичество, ни подавно протестантство и вообще все западное религиозное сознание, в котором «устав любви» утверждается не как живой, творимый, постоянно-становляемый синтез трагического искуса обреченности и божественного спасения — что и составляет религиозно-этическую основу Православия, — а как божественный императив, как нормы продиктованные свыше, в горделивом обладании которых, человечество, либо само обожествляет себя, либо отвертывается от Бога, в обоих случаях одинако забывая источник Правды.
38
щения к христианскому исповедничеству — конечно нет и быть не может.
Не только Россия, весь мир сам себя расплавил и начинает теряться, захлебываться, ибо во всем и везде проступает зыбь, устои уходят из-под ног. В такие времена мало бороться с открытыми врагами Христа, нужно еще блюсти и уберечь Церковь от тех, в чьих руках и она сама становится сильнейшим искушением христианского богоутверждения.
Россия, внешне опустошенная и потерянная, внутренне находится в таинственном и вдохновенном процессе накопления и средоточия духовных сил своих. Но где вдохновение — там и соблазны, и от них то и нужно оберегаться — в них опасность — «Блюдите убо, како опасно ходите:.., яко дни лукавы суть» (к Ефс. 5, 15—16).
П. Сувчинский.
Ноябрь 1922 г.
39
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
