13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Степун Фёдор Августович
Степун Ф.А. Ревность
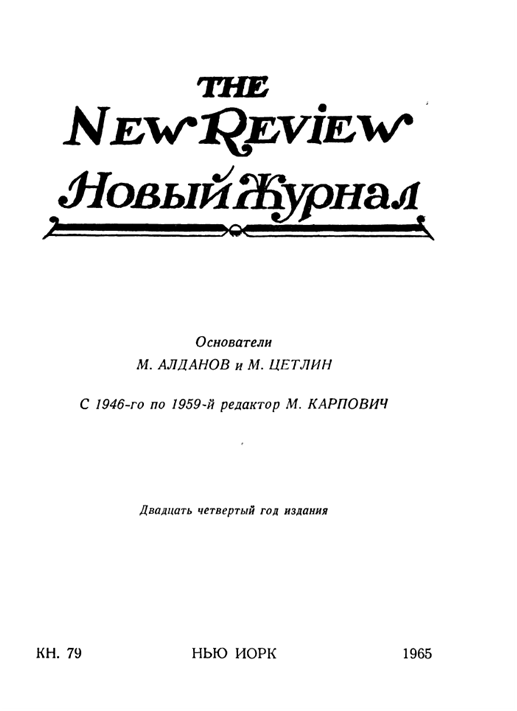
Разбивка страниц настоящего электронного рассказа соответствует оригиналу.
Ф. Степун
РЕВНОСТЬ
ОТ РЕДАКЦИИ
23 февраля этого года в Мюнхене скоропостижно скончался Ф. А. Степун, давний друг и сотрудник «Н. Ж.». Мы обратились к профессору Канзасского университета Андрею Штаммлеру с просьбой написать о Ф. А. статью для нашего журнала. Проф. Штаммлер был очень близок к Ф. А. и лично и духовно. В ближайшей книге «Н. Ж.» мы с удовольствием напечатаем статью проф. Штаммлера о Ф. А.
Рассказ «Ревность» мы получили от Ф. А. месяца за два до смерти. Вот что писал о нем Ф. А. 22 октября 1964 г. Р. Б. Гулю: «В ближайшее время пришлю Вам нечто для Вас неожиданное. Я недавно кончил небольшой рассказ, 18 машинных страниц, озаглавленный «Ревность» — чувство, которое я реально никогда не переживал. Фабула — роман героя с фотографией — взята из жизни, но развивается она в рамке моих философских размышлений о сущности любви. Не думайте, что рассказ безбытновитийственный, то есть чисто философский; там есть и сцена, и парки, и музыка — Шопен и Рахманинов и так далее. К Вам только одна просьба: не печатайте, если радикально не понравится». И в письме от 1-го января 1965 г.: «Читал я (рассказ) и немцам. Передовые писатели и критики говорят, что в нем очень много хорошего, но что он устарел, что много сентиментального и мистически углубленного. Но я считаю, что тому, что Европа считает устаревшим принадлежит будущее. На том, чем держится современное искусство, будущая Европа держаться не может. Уж очень силен душек растления!». РЕД.
В одном из больших городов Германии, известном своей высокой театральной культурой, шел «Отелло». На афише красовалось имя знаменитого режиссера, новатора и эротомана.
В одном из первых рядов сидел человек лет пятидесяти, старый эмигрант, знаток и любитель театра, Сергей Алексеевич
25
Исцеленов, с женой. Он был явно недоволен постановкой и игрой актеров.
Стоя в перерыве у буфета с чашкой кофе в руках, он с брезгливым выражением на взволнованном лице говорил Марине:
— Нет, это невозможно. Может быть, Штейнхауэр талантливый актер, но его Отелло недопустимо искажает и даже оскорбляет благородный образ мавра. Словно невоспитанный охотничий пес курицу гоняет его Отелло испуганную Дездемону по сцене. Как бы ни гнусна была ревность в жизни, ее изображение в искусстве должно быть благородно. Боже, до чего прекрасен должен был быть по рассказам моей матери, игравшей в молодости с самим Станиславским, Отелло в исполнении Сальвини! Полный скорбного отчаяния, но и презрения к изменнице, он выхватывает из кармана платок и быстрым движением, не касаясь лица Дездемоны, как будто ударяет ее в лицо. Я не знаю, знал ли Сальвини изречение Пушкина: «Отелло не ревнив, он доверчив», но играл он, во всяком случае, трагедию оскорбленного доверия, а не буйство чувственной ревности.
— Знаю, знаю, родной, это наша старая тема, — сказала Марина. — Дай Бог, чтобы ты никогда не пережил ревности. Самое страшное в ней то, что она самовольно и беспричинно входит в жизнь. Вот я тебя всю жизнь ревную, хотя твердо верю в твою верность. Ну, пойдем.
Марина Константиновна взяла мужа под руку и повела досматривать «буйство слепой ревности».
— А когда придем домой, — предложила она, — пробежим «Отелло». Я думаю, Пушкин был не вполне прав. Конечно, Отелло доверчив, а не злостно подозрителен, но разве доверчивость исключает ревность?
В потушенном зале быстро поднялся занавес. Раздалась музыка третьего акта, и появился шут.
Когда Исцеленовы вышли из театра, они были радостно поражены неожиданным подарком: выпал снег. С любовью и вкусом обставленная Мариной квартира показалась обоим еще бо-
26
лее милой и своей, чем обыкновенно. Вероятно, потому, что возвращались домой по заснеженным, тротуарам.
Ни Шекспира, ни Пушкина Марина беспокоить не стала, а принялась готовить чай. Пройдя к себе в кабинет, Сергей Алексеевич благодарно ощутил уют своего мира. Сев в любимое кресло перед раскрытою двойной дверью, через которую было видно, как Марина накрывала стол корельской березы, дешево купленный на распродаже шведского консульства, он со все растущей нежностью любовался тишиной Марининого образа, музыкой ее плавных движений и какою-то, быть может от сельских священников и деревенских церквей, унаследованной кротостью.
— Latabulapronta, — прозвучал певучий голос Марины. (Милое воспоминание об итальянской поездке, которую влюбленные в свою дочь родители подарили ей за блестящее окончание гимназии).
Сергей Алексеевич встал и, охваченный своими мыслями и чувствами, перешел в столовую.
— А, знаешь, — взглянула Марина на мужа, — собирая ужин, я всё время думала о нашем, вечном разногласии — о ревности. Ты знаешь как мне тяжело без России, без родителей. Из именьица — а как радовались, когда покупали — их выгнали. Отец уже умер без нас, без нас скоро умрет и мать. И всё же, да простит мне Бог, я рада, что мы в Европе. Больно и стыдно думать, а всё же думается: была ли бы твоя любовь ко мне, если бы мы остались в Москве, так же нерушима, так же безоглядна, как здесь. Здесь мы, как только зазвонят в соседней церкви, вспоминаем колокола Звенигородского монастыря, в гостинице которого переживали самые трагические дни нашего пути друг к другу. Вспоминали ли бы мы их также и в Москве?
Затягиваясь крепкой папиросой, Исцеленов взволнованно слушал жену. Ему от всей души хотелось сказать ей, что она ошибается, что и в Москве он не менее безоглядно любил бы ее, как в Германии или где бы то ни было, но что-то мешало ему исполнить свое желание. Марине, знавшей мужа глубже,
27
чем он сам себя, стало жаль своего Сережу и захотелось помочь ему.
— А знаешь, родной, может быть я и впрямь ошибаюсь. Не к кому мне, ревнивице, ревновать. Вот я и выдумала соперницу, Россию. Странная соперница, которая не уводит тебя от меня, а, наоборот, прикрепляет ко мне. Ну, довольно, уже поздно, надо идти спать. Тебе надо хорошо выспаться, ведь завтра в девять утра придут снимать тебя для какого-то художественного альбома.
На следующий день ровно в девять раздался звонок. Вошел изящно и модно одетый человек средних лет. Закончив работу и поболтав на тему о трагической встрече Германии и России в первую и вторую войну, он обещал через несколько дней прислать пробные снимки для своего фотоальбома по истории культуры. Присланные снимки оказались очень интересными по существу и технически блестяще исполненными.
Стоял прохладный, под высоким небесным куполом бледно-синий, у земли же закатно-желтый, в красных полотнищах день. Уставший от работы Исцеленов шел загородным парком, местами густым как лес. На душе у него было щемительно тревожно и всё же как-то приглушенно хорошо: не слышалось автомобильных гудков, не встречались случайные прохожие, попадались аллеи еще голых берез, молоденьких, не больше тридцати лет, как дома в Подмосковьи. Дома? Но есть ли у него еще дом? Вот только Марина!
Выйдя из парка, Исцеленов вскочил в подходивший автобус и взял билет до театральной площади: хотелось посмотреть афиши. С площади пошел на главную, обрамленную высокими тополями улицу. Бессмысленно обгоняя друг друга, неслись друг за другом громадные автомобили. На них с недоброжелательностью, смотрели спешившие по тротуару люди. Витрины и рекламы напрягали последние силы, чтобы воспрепятствовать автомобилям пронестись мимо них. Всё это и душевно и телесно утомляло Исцеленова, порождало в нем непреодолимую тоску. Всё как будто бы кипит жизнью, думалось ему, а на самом деле всё живет смертью.
28
Сняв с увлажненной от быстрой ходьбы головы шляпу, он свернул в прилегающую улицу. Подходя к недавно выстроенному дому комфортабельных квартир, он уже издали увидел в нишеобразном углублении стены фотовитрину с его собственным портретом, в правом нижнем углу которого, к его удивлению, была помещена фотография молодой женщины, с как будто бы простым, но пленительным и зовущим куда-то вдаль лицом, скорее славянского, чем германского типа. Стоя у витрины вот уже десять, а может быть и пятнадцать минут — время для него как будто бы остановилось — и всё глубже проникая в глубину заворожившего его лица, Исцеленов взволнованно чувствовал, что за холодным стеклом свершается какая-то таинственная жизнь.
Придя домой, он вошел в кабинет и сел за давно начатую рукопись, изредка взглядывая на висевший над его письменным столом портрет Достоевского.
— Прошу обедать, — позвала из столовой Марина.
За обедом Сергей Алексеевич, человек от природы говорливый, рассказал жене о прогулке в парке, пофилософствовал о непереносимом для него мертвом беге современности и упомянул о двойном портрете, но о своем странном ощущении теплой под холодным стеклом жизни почему-то умолчал.
Ничего не говорил о нем Марине и все следующие дни, хотя дня не проходило без свидания с портретами.
Примерно через неделю выпал особенно хмурый ветренный день. Голые ветви лип взволнованно мотались в большом окне исцеленовского кабинета. Решив, что он с утра не пойдет гулять, Исцеленов снял с полки книгу Анри Масси«DefensedeI’Occident» и сел за письменный стол. Хотя книга его очень интересовала, он читал недолго. Взглянув в окно и решив без достаточного на то основания, что погода улучшится, он накинул плащ, надел старую шляпу и вышел на улицу без ежедневного предпрогулочного вопроса: куда идти? Уже через час он подходил к портретам. Лицо молодой женщины показалось ему еще пленительнее, чем в прежние свидания.
— Уверен, — вдруг прошептал он про себя, —· что она
29
ему очень нравится, что он влюблен в нее и тут же перебил себя самого: но кому же она нравится? Не застекленной же бумажке, не физико-химической светописи? Нравится она, конечно, живой душе, таящейся в фотографии. Но чьей? Моей? Да, моей, и всё же враждебной мне душе моего двойника, которого я ненавижу, к которому ревную. Да, ревную, первый раз в моей жизни. Ревную потому, что он всегда с ней: и шумным вечером, когда мимо них несутся автомобили в театр, и ночью, и ранним утром, когда восходит солнце. А вот я, я лишь на полчаса прибегаю к ней, чтобы душой унестись в какие-то волнующие меня, зовущие куда-то дали. Мучительно еще и то, что утаиваю свои переживания от Марины. За обедом мимоходом с улыбочкой скажу: «А мои влюбленные-то всё еще висят на углу. Хорошо им: немые, неподвижные, застекленные, им и поссориться трудно». А вот чтобы рассказать, что во мне происходит, — так нет, не рассказываю. Если бы всё было во мне простой игрой художественного воображения, наверное, не только всё рассказал бы, но и повел бы Марину посмотреть на мою бумажную красавицу. Но не веду, не показываю. Чувствую, что и в Марине что-то происходит. Почему она ни о чем не спрашивает? Испугавшись этой своей мысли, Исцеленов нервно, быстро зашагал домой.
Пронеслись дни, промелькали ночи, пробежали недели. Душевное состояние Исцеленова становилось всё мучительнее, всё сложнее. Зовущий в даль фотопортрет с каждым днем всё самоувереннее и самовольнее превращался в живое существо, стремящееся, если не сегодня, то завтра войти в его жизнь. Чувство вины перед Мариной, трагической вины без вины, неустанно росло у него в душе. Но поделиться всем с женой он всё же не мог, может быть потому, что она силой своей любви и своей духовной трезвенности могла бы освободить его из плена, а освобождения он не хотел: уже любил свой плен, таящееся в нем единство счастья и страдания.
В таких, уже не покидавших его, чувствах Исцеленов сварливым апрельским днем шел на свое ежедневное свидание. Уже издали он заметил какую-то перемену, какой-то беспорядок.
30
Оказалось, что в портреты был брошен довольно увесистый камень, витрина, в которой он лежал, была полна осколков. Портретов, конечно, не было. Возмущенный и до глубины души оскорбленный Исцеленов из ближайшей же телефонной будки позвонил фотографу, чтобы узнать, что случилось. Сочувствия своему возмущению он, однако, не встретил. Ответ был прост и даже циничен: какой-нибудь пьяный хулиган пошутил; в университетских городах даже студенты разбивают фонари. А может быть какому-нибудь мальчишке понравилась смазливенькая девчонка под стеклом, — вот он и решил разбить стекло и сунуть ее себе в карман. Волноваться, геррИсцеленов, право, не стоит. Починим витрину и повесим вашу фотографию на старое место.
Этот короткий деловой разговор потряс Исцеленова. Особенно, циничное замечание: «быть может, смазливенькая девчонка понравилась какому-нибудь пьяному хулигану». Ведь она и ему «понравилась», и он хотел, не разбивая стекла, высвободить ее из витрины и как-то оживить для себя.
Вернувшись после быстрого пробега по знакомым улицам домой, Исцеленов прошел в кабинет, снял с полки книгу Анри Масси, в которой посрамление России называлось защитой Европы, и решил немножко отвлечься, поработать. Но работа не ладилась: перед глазами стояла разбитая витрина, в душе — тяжелое одиночество.
Закурив всегда успокаивающую его крепкую папиросу, Исцеленов надолго погрузился в какое-то бессловесное раздумье. В глубине души начало как будто немного светлеть. Всё же не к кому больше бегать на свидания и ревновать мечтою оживленный портрет к своему немому двойнику, да еще скрывать всё это от Марины.
Эти раздумья были внезапно прерваны с юношеских лет знакомыми и любимыми звуками Шопена. Вернувшись с закупочной прогулки, Марина прошла в столовую и села, как всегда перед обедом, за рояль. Дверь в кабинет Исцеленова она прикрыла и играла, чтобы не, мешать мужу, вполголоса. Играла хорошо. В консерватории ее ценили. Бросила она ее не без
31
душевной борьбы, из-за любви к своему любимому брату — небезызвестному социалисту-революционеру, считавшему, как и многие из его товарищей, что волноваться руладами Шопена, когда уже слышны раскаты революции этически недопустимо.
После Шопена она перешла к Скрябину, а под конец сыграла даже всеми забытого Глиера, который писал музыку для постановки «Царя Эдипа» Софокла, в которой Исцеленов принимал участие.
За дверью по черно-белым клавишам бегали Маринины пальцы. Так много лет смотревшему на них Исцеленову казалось, что он видит их сквозь закрытую дверь. Вместе с пальцами бегали и воспоминания о России. Всем своим существом Сергей Алексеевич жил в творчески взволнованной предвоенной Москве. Под Мариниными руками замер Шопеновский этюд... В памяти Исцеленова остановился ранний нижегородский поезд. Выбежав из душного ночного купе в бодрящую синеву сентябрьского утра, он весело зашагал по тротуару и, вскочив в полулихацкую пролетку, понесся к Марине. Уже на лестнице он услышал того же Шопена, которого она только- что играла. То, что она играла, означало, что она одна дома, что ее муж, помощник известного присяжного поверенного, уже в канцелярии своего патрона. С охапкой роз в сгибе руки, он, как зачарованный, слушал ее игру...
— Здравствуй, милый, — неожиданно раздался в дверях голос Марины. Подойдя к нему, она ласково обняла его и, сбросив своей милой рукой — маленькой квадратной лопаточкой — уже седеющую волну -волос с правого виска, нежно поцеловала его, словно вдохнула в него свою душу. — Знаю, Сереженька, скучно тебе. По чьему-то злостному повелению исчезли твои влюбленные тени.
— А ты почему знаешь? — взволнованно спросил Исцеленов.
— Случайно проходила мимо и увидела разбитую витрину.
Пытливо взглянув на жену, Исцеленов молча отошел кокну. В комнате наступило сосредоточенное молчание, многими вопросами обращенное и к Марине и к ее Сергею.
32
— Так ты, — повернулся Нецеленов к жене, — значит, знала, чувствовала, что со мной творится нечто неладное. Почему же ни разу ни о чем не спросила? Ведь тебе было, конечно, непривычно и даже больно, что я в первый раз в нашей жизни что-то утаиваю от тебя.
— Ну, конечно, чувствовала, что ты сам не свой. Пожалуй, даже догадывалась в чем ты запутался, думалось, что пока лучше помолчать. Ведь я знала, что когда придет время распутываться, ты сам придешь ко мне. Ты сейчас уже на пол- пути домой. Потому и заговорила. Расскажи, чем же ты мучился?
— Ну, конечно, той самой ревностью, которую никогда не переживал, но о которой мы говорили с тобой всю жизнь. Не странно ли, впрочем, что она впервые вспыхнула во мне на следующий день после нашего разговора о постановке «Отелло» здесь, в Германии, и в Москве.
— Я думаю, что ты ошибаешься, — осторожно заговорила Марина. — Ты не ревностью мучился. Ревность человек испытывает лишь когда любимое существо уходит к другому. Но ведь в твоем романе с незнакомкой второго героя нет, и ревновать тебе потому не к кому.
— Ах, вот как ты думаешь, — удивился Исцеленов и молча снова отошел к окну. — Но если я не мог испытывать ревности, то что же со мной, по-твоему, было?
— На этот вопрос, Сереженька, я могу тебе ответить лишь напоминанием нашего первого разговора о любви. С ним я живу всю жизнь как с самым умным другом и советником. Ты, конечно, помнишь, что слушая тебя, я заблудилась в нашем приусадебном лесочке, в котором знала каждый куст и каждый пень, в котором ночью могла бы собрать все грибы, не оставив ни одного подо мхом.
Голос Марины дрогнул, та же вечерняя заря, которою она тридцать лет тому назад, не находя дороги, вела Сережу домой, нежно окрасила ее лицо и засветилась в поднятых к Сергею глазах.
— Боже, до чего ты сейчас молода и хороша! — бросился
33
Исцеленов к Марине, и страстно обняв ее, подвел к большой фотографии их старой усадьбы, к которой они когда-то не могли найти пути.
— Да, да, прекрасно помню, как доказывая тебе необходимость покинуть мужа, я откровенно признался, что обещать тебе пожизненную верность не могу. Не могу обещать даже нескольких лет безоглядной любви. За этой жестокостью, в которой мне было нелегко признаться, стояло мое, опытом проверенное убеждение, что большинству людей моего романтического склада суждено пожизненно мучиться борьбой между волею к целостному единству и соблазнительными желаниями множественности... Как бы твердо я не верил, что ты мое всё, мое единство, — говорил я в тот вечер тебе, — такой счастливый, замученный и растроганный, — я временами всё же буду прислушиваться к каким-то издали зовущим меня голосам и волноваться ожиданием приближения к нашему дому пленительных теней, жаждущих воплощения и тем грозящих нашему счастью.
Ничуть не разделяя взглядов Сергея, Марина всё же с удовольствием слушала его воспоминания о вечере их первого разговора о любви.
— К твоей теории любви, милый, я хочу добавить только твою главную мысль: если бы перед судьбоносной любовью не стояла задача постоянной борьбы с соблазняющими тенями и победа над ними, то у этой любви не было бы того религиозного смысла, которым только и спасается мир: один Бог, одна мать, одна смерть, одна любовь.
— Ну, пойдем ко мне, — предложил Исцеленов. — Сядем в наши кресла и хорошо обо всем вместе подумаем. И принеси нашего белого вина для бодрости.
Вернувшись Марина близко подсела к Сергею, привычно провела рукой по его волосам и, повторив его слова: «Давай вместе хорошо подумаем», начала разговор с нелегкого для нее признания:
— Конечно, Сереженька, мне было грустно, что ты впервые за нашу 25-летнюю жизнь почувствовал себя раненым
34
женским образом и даже не осилил откровенного признания в этом. Но одновременно я всё же была и рада, что первая возжаждавшая воплотиться тень была судьбою остановлена на полпути: осталась образом и не стала плотью. Воплотись она в живую женщину да еще, не дай Бог, пленительную, молодую советскую девушку — и моя жизнь, при твоей вере, что Россию может спасти только страдающий там народ, могла бы надолго погрузиться в ночную тьму. Господи, спаси нас от такого несчастья, — Марина взглянула на образ Божьей Матери и медленно перекрестилась.
— Но вернемся к ревности. Я уже намекала тебе, что мне не верится, что ты мучился ревностью. Когда у героя романа нет соперника, то ревность невозможна.
— Но чем же я тогда мучился, если не ревностью? За что ненавидел своего двойника в витрине?
— На это очень трудно ответить. Ты знаешь, я не умом думаю, но попробую. Я, видишь ли, уверена, что женщина, подкинутая тебе произволом фотографа, ранила тебя потому, что в тебе уже раньше всколыхнулась романтическая мечта о воплощении одной из твоих теней, которые по твоему убеждению должны были бы всю жизнь невоплощенно маячить на далеком горизонте нашей жизни. Ты потому страдаешь, что возмечтавшая воплотиться тень не осуществила своей мечты. Судьба заступилась за меня: посланницу дали она подарила тебе лишь в образе, но не во плоти, а ей в качестве ее героя преподнесла тебя, но немого, безжизненного, за холодным стеклом стынущего, себя самого себе запретившего. В этом раздвоении и вся твоя мука.
— Ах, милый и бедный ты мой! Хоть я совсем на тебя не похожа, я тебя до последней черточки знаю. Ты хочешь невозможного: хочешь не снимаясь с якоря на всех парусах нестись вдаль. С ревностью это не имеет ничего общего. Вот если бы при возобновлении витрины, фотограф вставил бы в нее фотографию другого, да еще интересного мужчины, а внизу, в правом углу, поместил бы фотографию твоей возлюбленной, то ты смог бы сойти с ума от настоящей ревности. Ах, Сере-
35
женька, — проговорила Марина, наливая мужу остаток вина, — если бы ты знал, как много я за последние недели думала о тебе, старалась понять, что в тебе происходит. Твоей вины передо мной не чувствую и потому, может быть, и помогу тебе; в твоем несчастье ты мне ближе, чем был до него.
Бывают в жизни странные случаи, а впрочем, что такое случай? Не пользуемся ли мы этим словом как указанием на непонятное для нас веление судьбы. Таким судьбоносным случаем и закончился роман Иоцеленова с его пленительной тенью.
Недели через две после многих раздумий Исцеленов под вечер шел по фешенебельному предместью города. На углу двух нарядных улиц, к которому он подходил, он увидел молодую изящную чету, которая оживленно жестикулировала, что-то рассматривая. Подойдя ближе, Исцеленов увидел в той же витрине, в которой он сам был выставлен, прекрасный большой портрет европейски знаменитого композитора и дирижера, кумира всех артистически настроенных модниц города, а внизу, под его сердцем, снимок своей возлюбленной, зовущей в даль уже не его, а известного всему миру безответственного соблазнителя женщин, избалованного публикой заносчивого наглеца. Кровь бросилась Исцеленову в голову, в голове потемнело, в темноте застучало. Не слишком здоровое от трудной жизни сердце засуетилось в груди, нечем было дышать. Где выход, где дверь? Как она могла, как осмелилась, — судорожно сжимал кулаки Исцеленов, мысленно грозя поднять их к наглому лицу соблазнителя. Вот она настоящая ревность. «Убью», — прошептал он, не понимая бессмыслицы своей угрозы и, уйдя подбородком в поднятый воротник, быстро зашагал домой.
— Что с тобой? — удивленно воскликнула Марина, открывая дверь мужу.
— Ты напророчила. Она в действительности ушла к другому, да еще к мерзавцу. Молчит у него под сердцем и немотой своей зовет и его вдаль, его — который никакой другой дали, кроме дали денег и аплодисментов, не знает! Ах, Марина, Марина, какая боль, какая мука! Нет, не утешай, не говори, что их любовь мной выдумана, что они друг друга не знают. Для
36
меня эта логика неубедительна, потому что я вот уже два месяца только и живу той сложной мукой, которой они меня душат. Не знаю как с ней справиться, но знаю, что справиться надо, а то я сойду с ума.
—Какое счастье, Марина, что ты почуяла, что мое наваждение совсем не сумасшествие, а очень сложная личная драма, — влюбленность в карточную подругу. Что-то близкое трагической иронии Блоковского балаганчика.
— Если бы ты этого не почуяла, то, вероятно, уже давно позвонила бы в клинику для душевнобольных и тем отдала бы меня в лапы какого-нибудь знаменитого психоаналитика. Прошу тебя и в будущем не звони. Как-нибудь обойдется, как- нибудь мы сами со всем справимся.
— Ну, пойдем поужинаем. Привычный обиход всегда успокаивает. Ах, как хочется освободиться от наваждения и снова войти в разум истины, которым мы с тобой жили до сих пор. А попозднее пойдем ко мне и обо всем по-хорошему подумаем. В прошлый раз это помогло.
Хорошего разговора, как в прошлый раз, однако, не вышло. Что-то мешало Исцеленову приоткрыть Марине как будто бы назревающее в нем решение. Чувствуя это, Марина от себя разговора не повела, но не быть вместе с Сергеем в этот страшный вечереющий день ей было невмоготу. Подойдя к рояли, она выбрала из лежащих на черной лакированной крышке нот прелюдию Рахманинова и опустила руки на клавиши. Раздался, ах, какой знакомый, какой обоими любимый аккорд, слышанный впервые в Москве, потом в Дрездене и, наконец, вПодмосковной на Фирвальдштедтском озере усадьбы Рахманинова, в которой они с Сергеем провели год тому назад два особенно памятных, счастливых для них дня.
На следующее утро Исцеленов снова сидел в своем кабинете. Перед ним лежала бумага, а на ней химический карандаш, очевидно выпавший из рук. За обедом он был особенно внимателен к Марине, но и очень молчалив. В нем вызревало какое-то, ему самому еще неясное, решение, постепенно оформлялся последний акт его сюрреалистической драмы. Неделю
37
спустя после всего случившегося, Сергей Алексеевич поздним вечером пришел к Марине и сказал, что он очень устал, что у него болит голова и что ему необходимо прогуляться; может быть он даже зайдет, если у них будет гореть свет, к Никифоровым — поболтать, развлечься.
Марине было ясно, что возражать нельзя, что что-то принуждает ее мужа к его решению.
— Иди, — сказала она, — если чувствуешь, что не можешь остаться. Но только прошу тебя, не приходи слишком поздно — к двенадцати буду ждать тебя.
Захлопнув дверь, Марина, не вынимая и не поворачивая ключа, долго простояла у выхода наружу.
Звонок раздался около часа. Быстро вошедший, почти вбежавший в переднюю Исцеленов, превратился, как показалось Марине за несколько часов отсутствия в совершенно другого человека, чем тот, за которым она захлопнула дверь. На его в последнее время таком мрачном лице был какой-то дальний отсвет просветления. Он взволнованно бросился к Марине и крепко обнял ее.
— Где ты был? Что делал? Что с тобой? — взволнованно, но все-же и с надеждой, что ничего страшного не произошло, спрашивала Марина мужа.
— Был на мосту. А что делал — утопил.
— Кого?
— Ну, конечно, ту первую из царства теней, что возжелала воплотиться и войти в нашу с тобой жизнь. К моему и твоему счастью, она подло изменила, и я возненавидел ее и приревновав ее, решил, что она должна умереть. Она! Но пойми Марина: она — это не только ее застекленный образ, а и та живая женщина, которую я ощутил сквозь фотографию и в которую, признаюсь, по-настоящему, влюбился. Это единство образа и реальности тебе, пожалуй, трудно понять. Да и я эту странную магию понял только совсем недавно в моем общении с портретами. Но древняя магия эту тайну давно знала, всегда верила, что во всяком отображении человека: в портрете ли, в сновидении ли, в зеркальности вод таится и он сам.
38
Это правда, Марина. Если бы эта вера не была правдой, я не мог бы пережить моего романа.
— Решив утопить свою любовь, я стал раздумывать как это правильнее осуществить. Проще всего было бы разбить стекло, вынуть портрет и бросить его куда-нибудь — хоть в лужу. Но это показалось как-то вульгарно. И потому я решил купить алмаз для разрезания стекол: купив, попробовал — режет. Потом встал второй вопрос — не положить ли портрет в большой конверт — как покойника в гроб. Сначала подумалось правильно, но потом опять перерешил. Нет, пускай захлебывается. Решив так, взял с собой веревку, перевязал фотографию крест-накрест, подвесил к ней камень, прошел на реку и бросил с моста мою недовоплощенную тень в реку.
— Исполнял я всё это, — признавался Исцеленов Марине, — с несвойственной мне медлительностью и точностью и в странном чувстве будто бы совершаю некое тройственное священнодействие: покаяние — вина перед тобой, жертвоприношение — ведь она умерла, искупая вину всех возмечтавших о воплощении теней, и воскресение — возвращение в нашу прежнюю жизнь.
Сидя, с опущенными глазами за письменным столом, Марина слушала рассказ-исповедь Сергея без малейшего движения в лице. В комнате стояла о чем-то бесконечно глубоком задумавшаяся тишина.
Подойдя после долгого молчания к Сергею, Марина взяла его под руку и подвела к окну, в котором уже брезжило: в розовеющем тумане начали проступать церковные башни.
— Я очень счастлива, родной, что ты начинаешь духовно выздоравливать. Я уверена, что ты скоро совсем выздоровеешь. Когда ты блуждал среди твоих мистических теней, я очень боялась за нас, за конец нашей жизни, о котором я в последнее время много думаю. Ведь если в час последнего расставания людям может быть дарован свет, то он только и может быть светом за всю жизнь ничем незатемненной любви...
На следующий день в столовой казалось светлее, чем за окном. Марина вышла к чаю в стареньком, еще в Москве сши-
39
том платье, которое она надела в знак благодарности прошлому, вернувшему ей Сергея. Чай пили молча, лишь изредка многозначительно перекидывались малозначительными словами. Устали разговаривать о несказуемом и мучительно молчать об очевидном.
В недалекой католической церкви зазвонили к заутрене. — Как хорошо звонят, — сказала Марина. — Знаешь что, — радостно прибавила она, — мы уже давно не гуляли вместе. Хочешь — день сегодня такой светлый — пройдемся по нашему чудесному парку, а на обратном пути зайдем в церковь. Мы давно уже в ней не были.
Федор Степун
40
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
