13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Ильин В. Н.
Ильин В. Н. Религия революции и гибель культуры
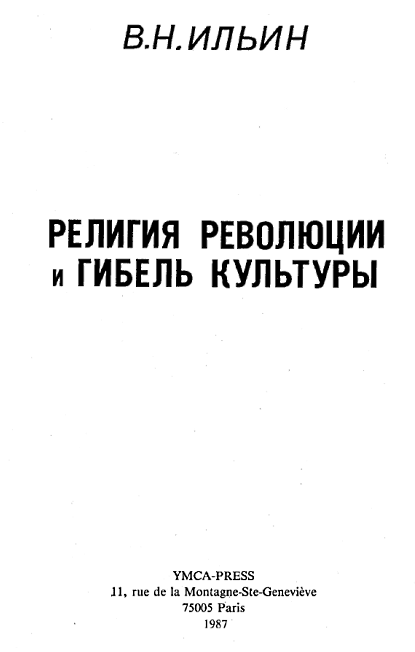
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление перенесено в начало книги.
В. Н. ИЛЬИН
РЕЛИГИЯ РЕВОЛЮЦИИ
и ГИБЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
Весь источен сердец наших мир.
В чем желать, в чем искать обновленья?
И жиреет могильный Вампир
Урожаем годов оскуденья...
Случевский
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 2. Профанация трагедии 35
Глава 3. Скрытое стало явным 49
Глава 5. Революция, Европа и русская культура 65
Глава 6. Ложь, бездарность, насилие 67
Глава 8. Революционные „святцы” 81
Глава 9. Две болезни русской души 103
Глава 10. Перед властию презренные рабы 117
Глава 11. Революция и Козьма Прутков 122
Глава 12. Революция — небытие 130
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Автор этой книги поставил себе целью раскрыть тайну конфликта революции и культуры, тайну их несовместимости. Так как невозможно при этом пользоваться только общими формулами, то в настоящем и принят огненный образ этого конфликта русская трагедия.
Ценой невероятных страданий открылись перспективы, прежде закрытые. Прояснились дали и обнаружились глубины, о которых ранее можно было лишь глухо догадываться и смутно пророчествовать. Здесь, впрочем, Достоевский и Константин Леонтьев увидели нечто весьма значительное в ту эпоху, когда все общество сверху донизу было заколдовано революционно-либеральным наговором и ни в чем не могло разобраться. Противоположности сходятся и антиподы революционно-либерального слоя равным образом ничего не понимали. Мы живем в эпоху вторичного гипноза революционных духов, налегших на мир через данную им власть. Если до революции эти духи околдовывали, соблазняя будто бы мученичеством и гонимостью адептов революции (и это после ужасов французской „Великой” революции), то ныне они загипнотизировали полнотой своей власти. Для того, чтобы разобраться в сложной диалектике революции и культуры, необходимы ум и совесть. Но, как правило, революционеры страдают отсутствием совести, контрреволюционеры — отсутствием ума. В масонском капитало-ком-
7
мунизме, через которого ныне действует „князь века сего”, — ни ума, ни совести. Все заменилось бесовской дипломатической хитростью, имеющей мало отношения к подлинному уму, и принципиально бессовестной. Всюду воцарились „убеждения”. Но истинный философ, единственно призванный судить в тяжбе революции и культуры, — не может иметь убеждений. Убеждения имеют лишь публицисты и политики. Правда, некоторые из них заставляют служить даже и богословие своей публицистике — от этого дело бесконечно ухудшается. Убеждения не только притупляют ум — они изгоняют совесть. Стоит только заговорить о революции и культуре, как сейчас же начинаются допросы и розыски о политических и социальных убеждениях. Этим особенно любят заниматься так называемые идеалисты.
И никому из этих „чистых” и „благородных идеалистов”, зачарованных красной „словесностью” и „красной властью”, не приходит в голову углубить тему, хотя бы с точки зрения элементарной этики и задуматься, например, о бесчисленных жертвах и разрушенных ценностях. Наоборот — некоторые лица, до революции утверждавшие личность и свободу, ныне готовы как бы пересмотреть в отрицательном смысле все эти утверждения и найти в рабьем лепете камердинеров Сталина великие философские откровения, а в массовых смертных казнях „истинно христианское дело уничтожения классов”. Готовы подвергнуться вторичной канонизации, казалось бы, до конца разоблаченные представители старой революционно-нигилистической интеллигенции — Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский и проч. И наоборот, величайшее произведение Достоевского — бездонные „Бесы”, где открылись предельные метафизические глубины через разоблачение духов революции и расшифровку революционных иерогли-
8
фов — как бы оказались осторожно обойденными и замолчанными, т. е. по отношению к ним была применена типичная революционно-радикальная тактика. Словно Достоевский учинил скандал, выставив на мировой позор фигуру Петра Верховенского, о чем остается только стыдливо молчать. Некоторые даже решаются говорить о „клевете” в произведении Достоевского, насквозь метафизическом и глубоко философском.
Объяснить это можно лишь тем, что всюду совершается революционный процесс, всюду наблюдается рост революционной волны и кульминации революционного идолопоклонства. Коммунизм и фашизм, шовинизм социальный, шовинизм национальный — в сущности одно и то же.
Европейским радикалам все кажется, что они не достаточно радикальны, что они не достаточно православны в области революционного предания и революционного культа. „Русские кающиеся дворяне” все еще никак не могут достаточно раскаяться, им все кажется, что их гибкая спина недостаточно согнулась перед красным молохом.
В эмиграции, где пишутся эти строки, происходит удивительный процесс, синтетически воспроизводящий обе стороны революционного тления и растления.
Основная масса обывателей всецело погружена в процессы запоздалого распада, который наблюдался в России непосредственно до войны и во время войны. Этот процесс можно охарактеризовать как сниженный, до толпы вульгаризированный символизм и вульгаризированную растленную лжеромантику и лжеэстетизм. Сюда входит и ложный национализм, ничего не имеющий общего с подлинным постижением и утверждением основ русской культуры. Все это в высшей степени карикатурно обнаруживается
9
в борьбе разных эфемерных и загробных партий, в комических „днях русской культуры”, где микроскопические журналисты решаются говорить о Достоевском, о Гоголе, „патриотически” понося великую французскую литературу и думая, что этим оказывается услуга русскому гению. Поистине услужливый дурак опаснее врага. Здесь мы видим все еще никак не могущий разложиться до конца „высочайше утвержденный дюрюсс с петушками”.
Вообще в наше время как никогда выясняется, что дурной вкус и дурной стиль есть нечто в высшей степени зловещее, истинный симптом „смерти второй”. Захваченные вертинщиной не могли не сделаться ни чем другим, как только навозом революции, которым беспрепятственно распоряжается II и III Интернационал.
Не менее ужасен дурной стиль и дурной вкус в области философии и богословия, когда видишь комический сыск за несуществующими ересями или попытку возрождения оскверненной государственности в виде какой-нибудь апологии виселицы под предлогом защиты „христианского меча”. Сюда же относится и стремление утвердить „высокое и прекрасное”, понося всю русскую культуру от Толстого и Достоевского до Стравинского под предлогом „большевизма” этих гениев и в целях „противления злу насилием”... над здравым смыслом и хорошим вкусом. Еще смешнее, еще ужаснее и носят на себе черты трупного распада — запоздалые геральдические упражнения и местничество вне почвы. Одним словом:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет.
(Пушкин)
10
Собственно говоря, как бы ни были окрашены все эти явления, в огромном большинстве случаев они представляют собою типичные феномены предреволюционного и революционного разложения, очень хорошо маскирующие сущность революции. Совершенно так же большая часть „Белого движения” являлась, несмотря на свою контрреволюционность, весьма революционным явлением. Снова и снова возникают дымовые завесы, и снова все делается двусмысленным.
Наблюдающийся рецидив революционной апологетики частью базируется на затушевывании самого существа революции, частью на ложном перетолковывании ее причин и истоков.
Начать с того, что считать революцию и революционеров (во главе с коммунистами) „протестом против крепостного права”, „старого режима” или же, что еще смешнее, „состраданием к трудящимся и эксплуатируемым” — нам представляется верхом либеральной обывательщины и нефилософичности. Приписывание революции культурных устремлений не выдерживает критики. Сущность революции есть борьба за абсолютную власть. И сама революционность есть феномен чистой властности. Отсюда вытекает буквально все — и глубинная онтологическая метафизика революции и то, что революция есть насильственный обрыв культуры.
Все злободневные детали революционной драмы вытекают из этой ее сущности. Совершенно нецелесообразным представляется также противопоставление революции капитализму и буржуазному строю. Так как золотой телец, „мамона” — финансовый капитал, есть тоже представитель идеи чистой власти, то отсюда связь революции с „мамоной”, несмотря на видимость борьбы. В сущности, нужно говорить так: и революция и мамона являются двумя ликами
11
одной и той же идеи чистой власти, ее феноменологией (берем этот термин не в смысле Гуссерля, но в смысле Гегеля). Причем именно революция ближе и непосредственнее являет эту идею. Революция — почти и есть сама эта идея чистой власти.
Теперь совершенно ясно, почему современная буржуазия, капитализм и масонство так тесно связаны с лоном революции, почему они это лоно поддерживают и питают. В чем сущность чистой власти и ее предел? Прежде всего — в уничтожении подвластного.
В самом деле, чистая власть не может и не желает по самому своему существу оставить для подвластного какую-либо автономную, свободную, лишь ему принадлежащую сферу. Но все, что существует, существует автономно и свободно. Поэтому идея Бога-Творца есть вместе с тем и идея свободы. Всякое творчество есть свободное творчество и в то же время дарование сотворенному свободы. Абсолютная властность революции несовместима ни со свободным существованием, ни — поэтому — с творчеством. Отсюда вражда не на жизнь, а на смерть с идеей Творца, Который в то же время есть и Освободитель не только в силу искупления, но и в силу самого творения. Уничтожение подвластного может быть или буквально, через фактическое убиение, или через превращение подвластного в бездушное автоматическое орудие властвующего. В том и другом случае атомизация, распыление и раздробление оказываются одновременно целью и средством, идеологией и тактикой — явление столь типичное для революции. Разделяй и властвуй — это принцип не только политический, но и метафизический. Отсюда идеология рассудочного разложения и связанная с ней позитивистическая, материалистическая „философия”. Отсюда мышление и действие по принципу — от части
12
к целому, от простого к сложному, от неодушевленного к одушевленному и т. д. Это есть принцип искусственности и механизации. Революция поэтому есть переход к принципу искусственности и механизации бытия или, по меткому выражению проф. В. В. Вейдле, — революция есть механизация жизни.
Эта идеология деградации, разложения, профанации до конца. И здесь пахнет уже не политикой и журналистикой, но адом. Выясняется, куда клонится публицистическое убежденство, пытающееся в наше время всевозможных усовершенствований прикрываться чем попало — не щадя даже и философии.
Есть еще одна особенность идеи чистой власти. Особенность эта — взгляд на все, как на орудие и объект, и признание лишь себя в качестве цели и субъекта. Не следует думать, что здесь мы встречаемся с уединенным демонизмом избранных натур. Наоборот, в идее чистой власти весьма уместен демократический принцип и здесь поистине „кто палку взял, тот и капрал”.
Мы все глядим в Наполеоны
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...
(Пушкин)
Власть вообще самое вульгарное из всего, что только можно себе представить. Но „посмеятельна бывает пагуба нечестивца” — чистый властитель в плане вечности выглядит шутом гороховым. Такой единственный субъект власти является с необходимостью абсолютным — проваливается в свою собственную претензию. Сталин, например, — всеведущ, всемогущ, вездесущ и неизменно держит знамя коммунизма. Его культ носит характер обожествления. Он единственный авторитет во всем. От клино-
13
писи и древнекитайской литературы до высшей математики и оперативного акушерства. Он вообще все, и кроме него нет ничего. Все бытие лишь его модусы.
Такое самообожествление носителей революционной идеи чистой власти карается провалом в Козьму Пруткова — о чем ниже. Но есть и следствие гораздо более страшное, поистине инфернальное: носители революционной идеи чистой власти не знают принципа служения. Они не только никому не служат, но наоборот — требуют, чтобы вся и все им служило. Они добиваются этого путем тайного террора и воздействия на общественное мнение, пока они не у власти, и проводят это через полную монополизацию всех прав и всем аппаратом явного и всеобщего террора, когда власть в их руках.
Такая концепция революционной абсолютной власти находится в теснейшей внутренней связи с тезисом истребления всего органического, заменяемого механически организованным, или, короче говоря, происходит замена искусства и творчества искусственностью и механичностью. (Слово „искусство” мы берем здесь в широком творчески-космологическом смысле.)
Отсюда принципиальная вражда революционера к гению, так как гений своим искусством противостоит искусственности... Ибо внутренняя само движущая сила искусства и внешняя насилующая власть искусственности — абсолютно непримиримы.
Сила творчества, искусства — интенсивна, внутриположна, „внутри есть” — подобна Царству Божию. Власть искусственности, механичности — экстенсивна, внеположна. Это — царство кесаря. Можно даже сказать, что насилие власти есть обнаружение ее слабости, ее внутренней несостоятельности. Внешнее насилие приходит тогда, когда человек внутренне
14
ослабел. Рабья революционная душа появляется раньше насильника-диктатора. Здесь, как и всюду, спрос рождает предложение. Люди организуются по принципу — „перед кем бы склонить выю”.
Революция есть обнаружение внутренней слабости, внутренней несостоятельности человека и даже раскрытие, обнаружение этой несостоятельности. Революционная диктатура берет на себя миссию организации мертвецов и убиения всякой, могущей зародиться в этом царстве мертвецов, жизни.
Из сказанного, между прочим, явствует, насколько нелепы модные в наше время попытки сближения учения Н. Ф. Федорова с доктринами революции. Федоров стремился соединить все человечество в братство жизни. Революция — это орден мертвецов и убийц. Техницизм Федорова ничего общего не имеет с техницизмом революции — ибо цели у них диаметрально противоположны.
Всю драму мироздания и особенно трагедию земли можно рассматривать как борьбу сил творческого гения, борьбу творческого искусства с внешней насилующей властью, с властью организующей и умерщвляющей искусственности. Замечательно, что в эпоху, когда развивалась впервые настоящая революционная идеология, т. е. в эпоху „просветительства” XVIII века, тогда же появилась тенденция к курьезной „искусственной естественности”, выразившейся в писаниях Жан-Жака Руссо. Однако эта „искусственная естественность” все же прежде всего искусственна, а потому и революционна. Этим предрешалось как революционное действие Руссо в системе идей Робеспьера, так и значительное влияние его на русскую революционную интеллигенцию через главаря социалистов-революционеров бездарного Н. Н. Михайловского.
15
Сила творчества — божественна, любовна, эротична. И неслучайно по-гречески „Творец” и „Поэт” пишутся совершенно одинаково. Сила творчества удивительно сочетает рост и сохранение, цветение и покой. Отсюда — эдемская сладость бытия.
Власть искусственной революционной организации прежде всего необыкновенно уродлива. Она восстает на этот вечно движущийся покой божественного творчества. Власть искусственной механической организации — безлюбовна и антиэротична, она есть предельное извращение — й недаром по-гречески дьявол значит извратитель (и потом уже — „клеветник”, что, впрочем, сводится к одному и тому же). „Клеветник”, „извратитель” мироздания стремится силу творческого эротического гения заменить насилующей властью безлюбовного искусственного организатора. Творческий покой и гармония заменяются строительской дергающейся какофонией, коллективистическим американизмом.
Задача, которую ставит себе такой насильник-организатор, — превращение свободной человеческой личности в робота, механически исполняющего социальный заказ и механически повторяющего комбинации незамысловатых революционных фраз и понятий, какие прикажут в данный момент рулевые генеральные линии.
Всюду в мироздании и в мире и во все эпохи — мы видим это. Но огромное значение нашего зона революции во главе с марксизмом — это явление идеи чистой власти в бесспорном и предельно отчетливом виде. Мир увидел, наконец, своего обидчика и растлителя. Но уже было поздно. Человек был повержен, связан и подпал под железную пяту. Но он должен восстать и свергнуть иго поработителя. Иначе он не человек, но уродливый обезьяноподобный
16
„раб и льстец”, которому нет места ни по сю сторону бытия, ни по ту.
Нет ничего превратнее и немощнее той ходячей точки зрения, согласно которой революционеры борются с так называемыми „старыми режимами” за свободу и творчество.
Революционерам ненавистен „старый режим” не потому, что в нем много властности и мало творчества, но наоборот — потому, что в нем слишком много творчества и мало властности. В „старых режимах” господствовала идея служебной власти, совершенно чуждая революционерам.
Этим объясняется, почему в „старых режимах” наряду с большей или меньшей степенью властвующего насильничества была подлинная сила культурного и творческого служения. Именно в этом смысле можно говорить о власти, что она от Бога, в этом смысле власть права, когда она ссылается на Христа, ибо „и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих” (Марк 10:45).
Вообще Богу свойственны сила и мудрость, князю века сего и всем тем, кто с ним — свойственны власть и ум. В созидающем творчестве культуры отражаются эти божественные свойства, силой и мудростью перенесенные на человека. Им противостоит революция власти и ума, стремящаяся этими двумя орудиями, которые так похожи на библейские образы Оголы и Оголивы, двух „блудниц дьявола” — извратить и прекратить творчество. Отсюда и вся сложная ткань трагической диалектики революции и культуры. Отсюда и все детали этой борьбы, этого поистине „последнего и решительного боя”, превращающего всю историю в этапы Апокалипсиса.
17
Возьмем примеры из деяний русской революционной интеллигенции. Они в высшей степени знаменательны и показательны. Знамя „Что делать” Чернышевского воздвигнуто против подлинной литературы, как знамя искусственности против искусства. Что же касается приписывания революционерам жажды мысли, то мы считаем, что это утверждение одного порядка с признанием за Дзержинским „золотого сердца”. Не приходится голословно опровергать это утверждение. Достаточно процитировать непосредственно слова самого Писарева: „Философские вопросы останутся непонятными для человека, одаренного простым здравым смыслом и непосвященного в мистерии философских школ. Не мешало бы выкинуть вон из науки то, что понимается немногими и не может никогда сделаться общедоступным”. Перед нами типичный и глубочайший обскурантизм; революционно-нигилистический апофеоз обывательщины. При чем здесь протест против крепостной независимости и „старого режима”? А ведь в наше время существуют люди, загипнотизированные непобедимостью революционной власти, вновь готовые всячески возвышать Писарева и протесты против него считать обывательщиной — в то время как сама „писаревщина” и есть предельная и пошлая обывательщина. Во всяком случае у нас больше оснований доверять словам самого Писарева, чем словам его современных адвокатов. Как характерна эта ненависть Писарева — к философии, которая ведь есть любовь не к уму, но к мудрости. Ведь обыватель очень любит власть и ум, но терпеть не может силы и мудрости — и при первой возможности распинает их носителей или же подносит им отравленный кубок. Обыватели, отравившие Сократа, хотя и были по своему социальному признаку и своим „убеждениям” добрыми демократическими консер-
18
ваторами, но поступили они как подлинные революционеры: почему Ликон, Мелит и Анит, убийцы Сократа — и заслужили почетное местов в революционном Пантеоне наряду с Маратом, Дантоном и Робеспьером. Вся суть здесь в „демократии”, в „коллективе”. В них-то и коренится революция, в них-то и вселился „легион бесов” — совершенно независимо от того, какие политические убеждения при этом высказываются. Безобразен и революционен сам факт „убеждения” вообще, враждебный мудрости и силе.
Видеть в сносе деревень, в ссылке на мучительную смерть миллионов крестьян и вообще в их вторичном и жесточайшем закрепощении с целью уничтожения — видеть в этом протест против крепостной зависимости могут по нашему мнению только „кающиеся дворяне” да „убежденные народники-интеллигенты”, которым все кажется, что они недостаточно раскаялись. Они явно просмотрели Соловки, Чека и концлагеря...
Ум, как это мы здесь видим, может быть иногда и глуповат.
Чека, Соловки и другие концлагеря есть выявление самого существа чистой власти в ее предельной форме революционной диктатуры. Цель этой власти — уничтожение всего выдающегося, всего дерзающего и творческого.
Абсолютная революционная власть желает все сравнять, дабы эта уравненная, благополучно скучная и покорная серость могла быть вечно ею попираема и никогда не смогла бы больше ни внутренне, ни внешне догадаться о бездарной пошлости и комическом ничтожестве властителя, дабы изначальный, домирный „человекоубийца искони” получал постоянное удовлетворение. В Соловках и им подобных местах запрещено петь „Вставай проклятьем заклей-
19
менный”, — факт, вполне заслуживающий быть внесенным в число анекдотов Козьмы Пруткова. Да и вообще вся прославленная революционная „культура” и весь „пролеткульт” — не что иное, как кровавый педантизм „покрасневшего” Козьмы Пруткова.
Еще другой шаблон господствует в наше время — иногда даже и среди острых и проницательных умов. Именно полагают, что всякое восстание против власти, всякий протест против нее — есть вообще революция и что революция по природе анархична. Какой жалкий шаблон! Какое непонятное недомыслие! Да ведь революция — это „тишина, притворившаяся бурей”, это стремление раз навсегда все усмирить, все придавить, уничтожить возможность всякого протеста. С замечательной, прямо-таки гениальной проницательностью говорит об этом Константин Леонтьев: „Революция XVIII и XIX веков вовсе не значит террор какой-нибудь и казни. Она не есть ряд периодических восстаний (восстание Польши, восстание басков в Испании, Вандеи во Франции были реакционного, а не революционного, не уравнительного характера). Революция не есть какое-нибудь вообще антилегальное движение (не все легальное зиждительно и не все с виду беззаконное разрушительно), Такие определения современного нам революционного движения односторонни, узки и сбивчивы... Если же мы скажем, вместе с Прудоном, что революция нашего времени есть стремление ко всеобщему смешению и ко всеобщей ассимиляции в типе среднего труженика, то все станет для нас понятно и ясно. Прудон может желать такого результата. Другие могут глубоко ненавидеть подобный идеал, но и врагу и приверженцу станет все ясно при таком определении революции. Европейская революция есть всеобщее смешение, стремление уравнять и обезличить людей в типе среднего, безвредного
20
и трудолюбивого, но безбожного человека — немного эпикурейца и немного стоика”.
Короче говоря, революция есть процесс онтологического подрыва мироздания в лице человека-микрокосма, подрыва через остановку творчества и растворения его в строительстве, т. е. в замене художника инженером, при котором и жизнь и творчество делаются уже невозможными. Социальные же государственно-правовые следствия из этого „строительского” устремления являются вторичной и ничего не определяющей „надстройкой”.
Из всего сказанного видно, до какой степени неосновательной и мелкой является точка зрения, согласно которой дефекты „старых режимов” являются будто бы причиной революции. В наше время необычайного философского уточнения и углубления такое возвращение к элементарной причинности в области объяснения исторических и культурных явлений является прямо-таки грозным с точки зрения умственной квалификации сторонников такого объяснения. Не может быть места элементарной причинности в области явлений социального порядка, в то время как уже в естественных науках фетиш причинности свергнут, и оплакивать его могут лишь Троцкий с Милюковым и проч., так сказать, старые девы философии, свято сохранившие невинность в области мысли.
„Старые режимы”, равно как и режимы революционного просветительства (к каковым несомненно относится коммунизм), — это самостоятельные исторические комплексы, „зоны”, которые сталкиваются, борются и изживают себя путем катастрофических коллизий, равно как и путем объективации и исчерпания внутренних потенций, но они никак не могут быть „причинами” друг друга и потому нести какую-либо ответственность друг за друга.
21
Это могут только отдельные люди, но не культурно-исторические типы.
„Старый режим” ушел вместе с Корнелем, Расином, Лафонтеном, Ронсаром, Боссюэ, Гете, Державиным, Пушкиным, Баратынским, Тютчевым — и более не вернется. Его глубокая трагедия, грациозные менуэты и философские откровения также непонятны пионерам и комсомольцам (или фашистам), как и рыцарский подвиг, средневековые архитектура и богословско-философские системы, одним словом, как все то, что с таким вкусом и знанием дела подчас именуют „средневековым мраком”.
И вдвойне непереносимо подчиняться уже не Марксу, Гольбаху и Ленину, но последнему слову о них, которое скажет, к примеру, товарищ Сталин, как известно, специалист во всех областях за исключением воскрешения из мертвых, ибо его призвание не воскрешать, а убивать, И пусть не упрекают контрреволюционеров в пошлости. После философии Чернышевского и текстов революционных песен — сопение наевшегося Чичикова и его разглагольствования о „коловращении людей” зазвучат ,,ангельской арфой”, подобно тому, как всякий режим покажется раем по сравнению с большевизмом. Но к некоторым публицистам, воображающим себя философами, ныне опять вернулся дух того доброго старого времени, про которое сказано „хороша старина да и Бог с ней”. Многие из них омолодились до... „споров народников с марксистами”.
Нами перечитана вся важнейшая интеллигентская литература, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Михайловский, Иванов-Разумник, Овсяннико-Куликовский, Пыпин, Плеханов, Ленин и „меньшие боги” — от доски до доски — и мы великолепно знаем, с кем имеем дело.
22
Худо не только то, что революционеры бездарны, худо, что они хотят навязать свою бездарность путем насилия и организованного бесправия, хотя бы для этого им пришлось истребить весь народ, о „любви беззаветной” к которому они так проникновенно прожужжали все уши.
Неужели все еще недостаточно видно, что эта компания, с одной стороны — и Пушкин, Тютчев и Достоевский, с другой — разделены непроходимой пропастью. „Гений и злодейство — две вещи несовместные”, и „не был убийцею создатель Ватикана” (Пушкин).
С одной стороны — бездарность и бесправие, с другой — гений и право. Мы выбрали второе.
Ибо речь здесь идет не об убеждениях, но о жизни.
23
Глава 1
ГОЛГОФА КУЛЬТУРЫ
Русская культура находится в жестоком кризисе. И что особенно трагично — этот кризис вызван чужеродными силами, действующими изнутри. Это приводит не глубоко или тенденциозно мыслящих на эту тему к совершенно неверному утверждению, будто здесь налицо симптомы саморазложения так наз. „старого режима”. Эти упрощенные схемы следует оставить всем, кто заинтересован в торжестве правды-истины и правды-справедливости. Упрощенное понимание кошмаров настоящего кризиса и отнесение его причин в категорию несовершенств „старого режима”, несомненно, есть результат исповедания своеобразной религии революции, поклонения революционному „богу”. Эта революционная идол атрия совершенно искажает, смещает, а то и просто уничтожает все перспективы, всякое ведение и что еще хуже — в корне разрушает элементарную совестливость и честность. Одержимому фанатизмом революционной идололатрии доступны лишь своеобразные фантазии и фикции, которые он настойчиво стремится реализовать.
Иной раз мы наблюдаем здесь даже своеобразную трезвость и деловитость, которой мы не должны, однако, обманываться и тем более доверять ей. Далее
24
мы увидим, каковы источники этой ложной трезвости, под которыми легко усмотреть самый злостный и порой безумный фанатизм. На алтаре революционного молоха сожжены бесчисленные и несметные культурные ценности, закланы миллионы человеческих жертв, и дым этого жертвоприношения раз навсегда замутил сознание и совесть революционных жрецов. Эти жрецы и ими проповедуемая „религия” могут быть только объектами философии культуры, но никак не ее субъектами... Жрец — палач, однако, связан страшной мистической связью с той жизнью, которую он замучивает, убивает и сжигает. Этим объясняется удивительная связь философии русской революции с философией русской культуры и выработанных ею духовных и материальных ценностей, В этой философии соединяется идея пророческого символизма культуры (в частности, культуры русской) — с философией ее палача и истребителя в лице русской радикально-интеллигентской революции, увенчанной большевизмом. Последний — в пределах естественной, так сказать, диалектики революции несомненно может быть рассматриваем как сущность и цель революционности вообще, ее энтелехия. Большевизм так же естественно выявился из общего комплекса революционности, как бабочка возникает из куколки. Здесь мы особенно настаиваем на этом моменте философской диалектики русской революции.
Палач и жертва всегда связаны между собой, хотя и страшной противоестественной связью. Так в священной и символической пророческой истории древнего Израиля были связаны пророки с теми, кто их побивал и замучивал.
Так связаны ценности и образы русской культуры с теми, кто их истребляет и уничтожает, истребляя и уничтожая одновременно русский народ. Дея-
25
ния революции диалектически связаны с той культурой и тем народом, который они возвели на Голгофу.
Надо все время иметь в виду, что точка зрения, в силу которой все исторические процессы непрерывно переходят один в другой, в силу чего возможно, скажем, утверждение, что революция есть энтелехия старого режима (приблизительно такую точку зрения развивал Токвилль) — такое утверждение односторонне и даже в корне неправильно. Существуют непереходные явления и непереходные сущности, в которых действуют внутренние имманентные процессы, приводящие к результатам однородным с исходным тезисом, с исходной базой. Поэтому если бы за революцией последовал духовный расцвет и физическая мощь данной культуры — скажем, русской, то было бы поспешным и даже ошибочным заключать, что этот положительный результат есть выявление революционной диалектики и энтелехия революции. Повторяем, надо все время помнить о непереходности и однородности исторических циклов и типов. Революция приблизительно так же относится к культуре, как протеиновые яды к живому белку организма (хотя и существует парадоксальная теория о происхождении жизни на земле из занесенных на нее спор тех микроорганизмов, которые в настоящее время действуют на нее разрушительно). Подобного рода, с позволения сказать, „концепции” ближе дурной фантастике, чем трезвой научной мысли.
Мы ни в коем случае не хотим сказать, что органические процессы так наз. старых режимов безгрешны, не имеют дефектов и не несут в себе „семени тления”. Однако существует огромная разница между дефектами организма, в силу которых болезнетворно-разрушительные начала могут с успе-
26
хом начать и завершить свою разрушительную деятельность, и между самими этими началами.
Старые режимы были несомненно запятнаны и греховны. Но не походят ли эти пятна на солнечные? От солнца бывает жарко и душно, но в лучах его с такой буйной силой растет и развивается пышная органика жизни и ее своеобразная сладость, что без этого жизнь теряет значительную долю смысла. Аббат Сиейс, один из деятелей французской революции, не мог совладать с чувством жизненной правды, которая у него пробилась сквозь окоченелость и смерть революционной интеллигентщины и фразеологии: „Тот, кто не жил при старом режиме, не знает, что такое сладость жизни” (Celui qui n’a pas vécu sous l’ancien régime, ne connaît pas la douceur de la vie).
Органическое чувство сладости жизни ошибочно было бы осуждать как лишь предосудительную чувственность, мешающую высшим целям жизни и ее идеологическому содержанию. В. В. Розанов с присущим ему гениальным чутьем понял это чувство как переживание вечности — не отвлеченной, но конкретной вечности во плоти и крови. Несомненно, конечно, и то, что органическое чувство сладости жизни связано с целым рядом своеобразных грехов. И вот против них ополчается, так сказать, дух морального и личного сознания. „Чистый дух” это есть своеобразный фарисей, полный чувства самодовольства и безгрешности. Он не соблазняется ни едой, ни питьем, ни очарованием половой любви, ни красивой музыкой и стихами. Это все для него греховная мерзость, за отсутствие которой он благодарит... кого? Иногда Бога, но большей частью — самого себя. Фарисей идеологии и интеллигентщины смертельно ненавидит мытаря жизни и органики, превозносится пред ним и очень близок к тому, что-
27
бы начать кровавое его истребление. Именно в этих образах уместно символизировать борьбу революционного радикализма с органикой жизни. Конечно, проблема эта чрезвычайно сложна и в некоторых своих моментах иррациональна, как иррационален, во многом, исторический процесс. Поэтому надо всячески избегать такого типа осознания трагедии русской культуры, которое было бы дурным ее упрощением. Как раз это упрощение мы и ставим в вину радикальной интеллигенции, умственный тип которой удачно самоопределился в одном чрезвычайно одиозном слове — „сознательность ”.
Фарисейство и „сознательность” — вот чем определяется духовная сущность и духовная установка того удивительного феномена, который в XIX и XX веках противостал культуре вообще и русской культуре, в частности.
Замечательно, однако, и для историософа драгоценно, что положительные жизнетворные (онтологические) начала культуры вскрываются с особенной яркостью и отчетливостью, предстают перед нами во всем блеске своей красоты — именно при столкновении с началами им враждебными, противоборствующими и стремящимися к уничтожению и убийству культуры.
Здесь можно установить некоторую аналогию с историей положительных религиозных догматов христианства, которые выявлялись и утверждались именно в борьбе с еретическим умалением и ущерблением. В этой аналогии, однако, нельзя заходить слишком далеко, т. к. еретики очень часто бывали людьми талантливыми и блестящими (Аполлинарий Лаодикийский, некоторые гностики и т, п.), с большой богословско-философской интуицией, поэтическим полетом мысли и историософскими перспективами. Ничего этого мы не наблюдаем в представи-
28
телях „фарисейства” и „сознательности”. Это, конечно, с точки зрения богословской — „еретики”, но еретики с крайне ущербленной и бедной духовностью. Эта ущербленность и бедность связана именно с феноменом „чистой духовности”, которую ниже мы подвергнем историософской критике,
Ересь „чистой духовности”, о которой мы говорим, может быть сопоставлена с тем своеобразным позитивизмом в церковно-догматической области, который развивался в XIX веке параллельно с позитивизмом светским и секулярным. Мы здесь усиливаем эту мысль и относим к явлениям „чистой духовности” и так наз. материализм. Пора покончить с инфантильными представлениями о позитивизме и материализме как о миросозерцаниях, вышедших из недр специального естествознания и вообще эмпирической науки. Позитивизм и материализм прежде всего должны быть охарактеризованы как своеобразное перенесение элементов или, если угодно, атомов, монад „чистого духа” во все разнообразие конкретной действительности, конкретного бытия. Позитивизм и материализм не исходят из материи и конкретной эмпирии, но наоборот — входят в нее, производя там невероятные разрушения и опустошения, о которых речь будет впереди, К сказанному надо еще прибавить одну чрезвычайно важную особенность материалистической, позитивистской установки „чистого духа”: особенность эта — принципиальное устранение всякой тайны, всякой мистерии и в силу этого всякого бытия и всякой жизни. Ибо жизнь и бытие есть прежде всего мистерия — тайна и таинство.
Тайна и таинство жизни включают мистерию греха. Жизнь мира, в которую погружено человечество и, следовательно, каждый из нас, есть жизнь, полная роковых противоречий, в основе ее — глубокая тра-
29
гедия. Глубины религии, философии, искусства и даже науки — все они говорят прежде всего об этом основном свойстве падшей жизни, падшего бытия. Можно даже сказать, что оптимистическая точка зрения есть некое лекарство, правда, совершенно паллиативное — против горечи мира.
Оптимизм потому и существует, что жизнь горька. „Мир лежит во зле”, — говорит христианство. „Страдание есть сущность мира”, проповедует буддизм. Дантов ад совершенно легко и удобно может быть воспринят как символичная картина мира, в котором мы живем — и совсем не надо спускаться под землю, чтобы узреть эту картину. Для этого достаточно оглянуться вокруг себя или же, в крайнем случае, раскрыть историю новейшего времени. Перед адом у революции большие заслуги, и она смело может воссесть по левую сторону Вельзевула,
Но вот именно этой трагедии мира и его падшего мучительного состояния не замечают носители радикально-революционного духа.
Безгрешное самосознание или, лучше, самосознание безгреховности радикальной интеллигенции логически приводит к своеобразному переживанию мира и общества как исключительного объекта на грани небытия — простой материи, полной дефектов, пороков и, если угодно, грехов, и подлежащей частью полной переделке, частью уничтожению. Возникает психология утописта — инквизитора и, следовательно, палача. „Безгрешный фарисей” всегда смотрит на себя, как на субъект, а на внешний мир — только как на объект.
Отсюда неминуемое превращение „безгрешного фарисея” в утописта-палача со всеми отсюда вытекающими последствиями как для его внутреннего мира и духовного устройства, так и для его отношений к внешнему миру и, следовательно, к культуре
30
и к созидающему культуру человеку. Ниже мы рассмотрим отношение фарисея-интеллигента к трем основным проблемам, связанным с творчеством культуры, к проблемам любви, смерти и хлеба. Теперь же интересно рассмотреть ту общую установку интеллигента-утописта, которая порождает у него чувство личной безгрешности. Здесь надо заметить, что эта основная черта радикально-революционной интеллигенции была со свойственной ему остротой подмечена В. В. Розановым.
То, что порою нигилистически отвергается под видом „искусственного” — наука, философия, конкретные исторические религии, органически выросшие национально-государственные образования и т. п. — все это живая естественная плоть самой жизни, конечно, полной греха и несовершенств. Характерно, что как только марксисты получили всю полноту власти, они тотчас же поторопились частью уничтожить, частью изуродовать до неузнаваемости ту самую науку, во имя которой будто бы действовали, В науке им был особенно ненавистен интуитивный творческий элемент, всегда, впрочем, враждебно принимавшийся рассудочно-аналитической разлагающей „философией”, самозванно выступавшей в качестве науки.
Здесь мы подходим к одной очень важной теме философии культуры — к материалистической позитивистской философии как тормозу подлинного научного прогресса, Розанов правильно замечает, что на пути этого прогресса стоял именно интеллигентский позитивизм и что основные понятия наук о духе, в силу предвзятости и террора этого позитивизма, не могли быть в достаточной мере развиты. Со свойственной ему остротой и ядом Розанов именует этих „философов” „инженерными”, словно предвидя, как идея строительства будет убивать
31
и умерщвлять рост подлинной науки и подлинной культуры.
При крайнем убожестве философского багажа знание и талант заменялись верноподданничеством идее механического материализма, объявленного в догматическом порядке единственно допустимой точкой зрения.
Нет никакого сомнения, что здесь типичнейшая функция „чистого духа”. Всю систему интеллигентской философии науки Розанов обрисовывает весьма точно, хотя и уничтожающе ядовито. „Инженерные” философы, воспринимающие развитие как механическое усложнение, естественно, пришли к отрицанию и души и религиозного духа.
Устранение жизни души является типичным следствием господства идеи или, если угодно, „чистого идеологизма”, Выстраивалась своеобразная и толстостенная научно-философская тюрьма, уготованная свободной жизни и свободному творчеству со стороны фарисеев „чистой идеологии”. Выход из этой тюрьмы был замурован.
Любопытно, что со всей мощью этот революционно-радикальный террор над жизнью, над мыслью, над творчеством развернулся в ту эпоху, когда официально правило царское правительство, державшееся (если оно вообще чего-либо держалось) иных точек зрения. Однако его борьба была до крайности неумела, жалка и беспомощна — отчасти от избытка гуманности и совестливости, чем уж явно не страдала противоположная сторона, Общество же — как панургово стадо, обреченное гибели, либо молчало, либо вступалось за экстремистов. Достоевский так охарактеризовал положение: „Одно правительство пытается сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим”.
32
Состояние, в котором пребывал интеллигент-радикал, выразительно названо нигилизмом (от лат. nihilis — ничто). Термин, в общем, удачный и верный, особенно если вспомнить, как мы это дальше увидим, что „чистый дух”, дух, лишенный души и жизни, и есть, собственно, по характеристике Достоевского „дух самоуничтожения и небытия”, т. е, ничто néant — откуда и нигилизм. Конечно, это явление шире того специфического феномена на русской почве, зародившегося в XIX веке и воцарившегося в начале XX — со всею одновременно призрачной и вещественной мощью. Однако наибольшей одиозности, а следовательно, и характерности оно достигло именно на русской почве и в формах уже указанных. В сущности говоря, изучение движущей идеи революции и ее марксистской энтелехии может быть определено как узрение сущности нигилизма, выражаясь философски, как его конкретная феноменология.
Так как нигилизм есть борьба с жизнью и душой, их всемерное и всестороннее отрицание, то он может быть еще определен и как сведение богатств бытия к минимуму, в пределе — к нулю. Так как открытое проведение этого принципа „минимализации бытия” невозможно ни психологически, ни онтологически (очень скоро все отшатнутся), — то выработалась целая система защитных приемов и окрасок, под покровом которых происходит тление и растление бытия, Когда мы говорим о защитных приемах и окрасках, то не всегда под этим надо разуметь сознательную хитрость, ну, скажем, военного типа. Здесь многое происходит бессознательно и даже автоматически, „Дух самоуничтожения и небытия” имеет свои инстинкты в борьбе за существование или, лучше сказать, за несуществование — он особенно любит, чтобы о нем ничего не знали и даже вовсе
33
отрицали его бытие. Темное начало, выступающее в „Пер-Гюнте” Ибсена (Доврский дед) жалуется на то, что его дети объявили своего родителя „лишь мифом старинным”, и прибавляет с истинным сокрушением: „И как мне горько вздором, бредом слыть”.
Однако ему не следует сокрушаться. „Вздор и бред” с большим успехом расправляется с мудростью и красотой жизни, И вот философ даже вынужден посвящать все напряжение своих духовных сил на анализ и изучение этого „вздора и бреда” — правда, лишь во имя тех ценностей, которые они растлевают и ведут на Голгофу.
34
Глава 2
ПРОФАНАЦИЯ ТРАГЕДИИ
Революционное фарисейство безгранично. Оно чувствует себя превосходно в мире зла и страдания. Драмы культуры для него не существует. Но только безумцы могут тешить себя мыслью, что в мире и в человеческой природе все обстоит благополучно, а в зле и страдании якобы виноваты какие-то театрально-теоретические злодеи, большей частью в виде социально-политических противников, так сказать, „вредителей”, против которых и затевается театрально-кровавый, лицемерный процесс, именуемый „революцией”.
Безумие этого космологического и антропологического оптимизма — несомненно. Но здесь не опьяняющая мечта „возвышающего обмана”, но убежденное упорство идеологического маньяка.
В революционном фарисействе мы имеем дело с внутренним утопическим ядром. Для него характерны прожектерство и своеобразное плоское мечтател ьство. Но есть у прожектерского мечтательства одно основное свойство. Свойство это — оптимизм и отрицание первородного греха. Вина за все преступления и за все зло переносится на какого-либо „козла отпущения” „вредителя”. Этот „козел” торжественно изгоняется сначала в мечтах, теоретически,
35
а потом, в случае осуществления мечты, и на деле, А на предмет техники этого изгнания учреждается организованное мучительство, воздвигаются бесчисленные эшафоты и полицейские застенки, формируются армии шпионов и доносчиков. Все они наполняют мир кровью и слезами — в случае удачи и перехода всей полноты власти в руки благородных мечтателей, задумавших преобразовать человечество искусственно-механически, „сразу и всемирно”. Происходит революция, одним словом,
Идеология эта может быть выражена весьма кратко: абсолютный оптимизм по отношению к субъекту утопического действия, то есть к самим себе, и абсолютный пессимизм по отношению ко всему прочему миру „не я”, который должен быть или до конца переделан согласно плану — мечте, или же стать „козлом отпущения”, т. е, быть изгнанным и закланным.
Первородный грех — одна из основных истин мироздания.
Корни тварного бытия отравлены горечью. „Все болит около древа жизни”. В творчестве культуры, которая есть вместе с тем и самосозидание человека, „пшеница” тесно переплелась с „плевелами”, и высшее потустороннее правосудие оставляет расти то и другое до таинственного, познанием неопределимого срока. (Матф, 13,24—32.) Отрицание этой истины приводит к абсурду. Во-первых, кара происходит в высшем плане, в области познания и красоты — кара приведением к абсурду и безобразию. И от этого страдают более всего лица, не принявшие участия в утопическом коллективном самоодурманивании, но стоящие в стороне, наподобие Платоновского Мудреца, » созерцающие это отвратительное зрелище. Но приходит и самая осязательная, небывалая, настоящая беда — страдания физические
36
и моральные. Эти страдания связаны с искусственным механическим обезображиванием, с деградацией и деформацией органического бытия. Бытие это по своему плану выкраивает идиотический унтер радикальной идеологии, радикальной „идеократии”.
Философия, даже на высших своих ступенях, как только она пытается превратиться в практику, в „прямое действие”, в „идеократию” — оказывается причиной мук и обеднения бытия, приобретая к тому же туповатый и глуповатый оттенок. Что же сказать про совершенно убогое и ничтожное миросозерцание, характеризуемое такими терминами, как „материализм” и „позитивизм”?
Как только какая-либо система идей становится господствующей и облекается во власть, она немедленно принимает тон официального оптимизма и уже не допускает ни оплакивания мира, ни творческого смеха над ним. Такая философия сама себя сковывает, надевая „официальный мундир”.
В таком мундире проходят мимо, например, „Божественной Комедии”, — проходят с „генеральской”, неумной важностью и глубоким презрением.
Характерно, что утописты, и во главе их сам Платон, стремятся создать государство, выкроенное по идеям, тоже „без смеха и слез”. Комики и трагики беспощадно изгоняются, радость и печаль строжайше запрещены. Печаль запрещена, ибо господствует официальный оптимизм. Но и радость тоже не может быть терпима в утопии, ибо она не соответствует важности официального мундира, который, впрочем, скорее напоминает ливрею лакея, как это очень хорошо подметил Розанов, усмотревший „лакейскую” сущность революции.
37
Нелепость создающегося положения объясняется тем, что мир „без смеха и слез” находится по ту сторону — это мир трансцендентный. И когда изгнание трагического и смешного происходит из мира этого, нашего, где все смешно и все трагично, такое философское запрещение смеяться и плакать приводит не к „нежной земле”, образ которой с такой силой дан в знаменитом финальном мифе Платонова „Федона”, но к царству беспредельной и бесконечной скуки, заглушаемой опиумом „строительства”, лишенного глубинного смысла. Скука и есть ад, ибо истинное имя того, кто „владеет державой смерти”, т. е, человека-убийцы и дьявола, есть скука. Дьявол, скука, палач — все это синонимы одного и того же.
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача.
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча.
(Ф. Сологуб)
Собственно говоря, в строительстве, предпринятом фарисеем-утопистом, воин перестает существовать и заменяется всецело палачом. И мир разделяется на управляемых-казнимых и управляющих-палачей. Какими бы недостатками ни страдало органическое государство, т. е. государство, выросшее исторически, оно никогда не превращается в принципиальное палачество. Такие лица как Ричард III или Иоанн Грозный — все же являются выродками, чудовищами, — но для утопического „строительства” это норма, и притом норма, которая никак не может быть нарушена. Чем лучше и честнее фарисей-утопист, тем более жестоким и кровавым палачом является он. Положение становится столь ужасным,
38
что на фоне перманентного идеологического и физического государственного палачества и нескончаемой скуки — уголовник „старого мира” даже как-то „разнообразит” кроваво-серый фон идеократии и утопии. Впрочем, и от бандита-уголовника не сладко приходится. Так что создавшееся положение можно характеризовать как режим, в котором коммунизм смягчен уголовщиной, а уголовщина сдержана коммунизмом. И это тоже одновременно и смешно и страшно. Разве можно при таком положении разрешить слезы и смех? Ведь и то и другое смертный приговор для режима смерти и скуки.
Шопенгауэр вспоминает где-то трюизм, над которым он в юности посмеялся, а в старости задумался: „Кто много смеется, тот счастлив, а кто много плачет, несчастлив”, Афоризм этот звучал бы совсем не умно, если бы смех и слезы так часто не переходили друг в друга. В нашем мире диалектических противосостояний и сопряжений, мире смеха и слез, комедий и трагедий — разрешать много смеяться, это, пожалуй, значит разрешать проливать обильные слезы. Поэтому „благодетель рода человеческого”, фарисей-утопист — никак не может дозволить ни смеха, ни слез.
Слез он не может разрешить, потому что решил облагодетельствовать род человеческий и еще до Второго пришествия исполнить апокалипсическое пророчество отереть „всякую слезу с очей”.
Революционный „народ” всегда приходит в ярость или в восторг по приказу начальства.
Здесь несомненно попытка радикально преодолеть трагедию, ибо в финале каждого подлинного страдания, каждого до конца пройденного крестного пути начинает сиять потусторонний трансцедентный свет и нисходит та особая радость, про которую сказано, что ее никто не отнимет больше. Но эти же
39
свет и радость, это утешение уже чувствуются и в начале трагедии, в начале крестного пути, ибо подлинное утешение в мире падшем является лишь на путях трагедии. Однако нет ничего ошибочнее, как предполагать, что трагедия есть плод стремления к страданию. Как раз наоборот, трагическое именно раскрывается в том, что рвутся всеми силами души к радости, но на путях к этой царице бытия оказывается, что истинная радость в мире падшем постигается на пути крестном. Поэтому попытка революционного утопизма преодолеть трагедию без Креста и попрать самый Крест приводит лишь к несказанному опошлению, к профанации трагедии и к бесконечному усугублению страданий.
Радость неразрывно связана с любовью. Крест — как бы „тезка” смерти. Однако смерть и любовь тоже связаны глубинными и роковыми узами — через трагедию бытия. Поэтому „козлом отпущения” в революционном утопизме оказывается трагическая двоица любви и смерти. Эта двоица лежит в основе трагедии, и здесь слились страдание и утешение. Сопряжение радости-любви и креста-смерти есть высшая красота, увенчивающая вновь обретенную полноту бытия. Как учит христианство, смерть попирается смертью. Но полнота бытия уже не знает роковой трещины, отделяющей добро от красоты, этики от эстетики. Поэтому можно утверждать, что революционно-утопическая война фарисеев с утешительной трагической крестной красотой и есть борьба за бытие ущербное, обедненное ложным пафосом отъединенной этики коллектива. Если жизнь, по выражению Шопенгауэра, колеблется между скукой и страданием или же, пользуясь нашей терминологией, между этикой-скукой и этикой-страданием, то можно утверждать, что рвущийся к власти утопист выбрал второе, воздвигнув знамя против кра-
40
соты и страдания, т. е. против трагедии. Знамя революционных утопистов, пропитанное человеческой кровью, пролитой во имя „справедливости”, всегда остается поистине серым, и чем больше крови пролито, тем серее.
Какая страшная, поистине дьявольская ирония! Служить идее социального долга и коллективной справедливости, воодушевляясь безраздельно этическим пафосом, — и превратить все это в молоха, на низком и злом челе которого мы читаем самую мрачную из всех адских и апокалипсических надписаний: скука.
Любопытно, что революционные утописты, жрецы этики коллектива, иногда склонны были почитать, так сказать, нравственное учение Христа, но решительно всегда отказывались принять радостно-трагическую красоту этого учения, заключающегося в Распятии и в Воскресении, Этим христианство превращалось в царство мертвенной скуки. В общем, пользуясь образным выражением о. С. Булгакова, можно сказать, что всюду здесь проглядывает „вульгарный черт с копытом и насморком”, — даже тогда, когда на нем „феерический плащ” сверхчеловека. (Заметим между прочим, что глубоко символическая идея сверхчеловека Ницше — пала, опошлилась и развалилась именно на путях революции до предела.)
Из этого закономерно следует перманентная война с воплощенным Логосом, Сыном Человеческим, открытая борьба с Духом-Утешителем, источником вечной красоты и вечной жизни, война с любовью и радостью. В этом — одно из страшных попраний христианства как вечной и надмирной религии, ибо цель Креста — пришествие Духа-Утешителя. Никакие жертвы не страшны во имя любви, красоты и вечной жизни, т. е. во имя Духа Утешителя — и самая ма-
41
ленькая жертва становится несносной и ненавистной, если она приносится „во имя долга” и к тому же еще социального, а в наше время — и коллективного. Если возможно представить ад во всей его полноте, так это в виде вечных разговоров о долге и социально-политических убеждениях.
Первая обязанность подлинного философа — это изгнание всяческих убеждений и преодоление „трусости мысли”. Мы обязаны „мыслить до конца”, хотя бы это и приводило нас к великой скорби. „Кто умножает познание, тот умножает скорбь”, — говорит автор Екклесиаста. И так оно должно быть. Если мир трагичен, то и мысль о мире тоже трагична и скорбна. Философия не шутка и тяжким бременем ложится на плечи того, кто занимается ею.
...Открытие смысла эроса, как пути ввысь к подлинному, истинному и вечному бытию — является одной из величайших заслуг Платона и значительнейшим плодом его философского гения.
„Пир” Платона и в еще большей степени ослепительно прекрасный „Федр” замечательны не столько раскрытием сущности эротической любви, сколько откровением о ее генезисе, о ее рождении и происхождении. Известно, что согласно учению Платона любовь родилась из сочетания Бедности — „Пении” и Богатства — „Пороса”. Вследствие этого в ней сочетались черты обоих божеств. Однако никогда не следует забывать, что эрос может вести не только от Пении-Бедности к Поросу-Богатству, но и обратно, от Богатства — к Бедности и даже к совершенной нищете, опустошению и погибели. И если энтузиасты эротической любви указуют на образы творческой красоты, возникшие под солнцем Эроса, то „Великий Инквизитор” утопического фарисейства может указать на бесчисленные жертвы этого страшного бога, погубленные и умерщвленные без надежды
42
воскресения. Для утопистов-„строителей” они вышли в тираж погашения, не принеся плода в „общем деле”, в строительстве коллективного механизма. Любовь превращается в такую же машинную функцию, как работа паровой машины или двигателя внутреннего сгорания. Вся романтика, весь пыл вожделеющих устремлений направлены на организационную идею коллектива, идею, которая до конца призвана — согласно марксизму — заменить старый эрос, объявленный банкротом.
Здесь уместно подчеркнуть особенность позиции Федорова.
Гениальный Н. Ф. Федоров, соединивший в себе организационно-техническую идею и православие, был натурой ярко антиэротической.
Для него эротика была лишь признаком буржуазного общества, да к тому же злым гением, провоцирующим войны, т. е. массовую смерть, — борьбу с которой Федоров ставил во главу своей теории. В системе идей Федорова вся эротическая энергия переключается на воскрешение отцов детьми („дети рождают отцов”, — как остроумно заметил по этому поводу Вл. Соловьев). Это эрос, так сказать, с обратным знаком, или лучше сказать — с обратным направлением. Надо заметить, что борьба со смертью через изменение направления эротической энергии и соединенный с этим культ предков кладет непроходимую грань между гениальной утопией Федорова и плоской отцеубийственной низостью всех прочих утопий и особенно марксизмом. При всем том эрос в его обычном смысле подвергается у Федорова суровому суду и осуждению.
Как понять это? Стоим ли мы действительно перед кризисом любви, подобно тому, как уже давно стоим перед кризисом брака? И быть может, даже возможна постановка вопроса об исчерпании всех
43
возможностей эротической любви, о закате ее солнца, ее „зона”?
Во всяком случае много правды в мнении Н. А. Бердяева, что слово „любовь” „испошлено до невозможности его произносить”. Европа своими печатными и непечатными романами словно стремится оправдать теорию Н. Федорова о буржуазности эротики. И марксизм сознательно профанирует этот кризис.
Другой источник трагедии, смерть — преодолевается в марксистской утопии и революционном фарисействе тоже путем профанации, „развоплощения” и оплевывания. Профанация эта идет двумя путями. Первый путь — массовый террор и истребление всего того, что суть не „революционеры”. При таком отношении к ней — смерть теряет, по крайней мере извне и на первый взгляд, присущий ей изнутри характер предельной мистериальности, последней тайны и превращается в фабрикацию трупов. Отношение к смерти выявляет предельный цинизм, присущий душе последовательного революционного фарисея-марксиста. Цинизм этот достаточно уже выявился в экономических теориях исторического материализма. Но из всех преступных революционных деяний — профанация смерти несомненно является самым преступным делом, непростительным ни в сем веке ни в будущем. Ибо если в попрании высшей красоты и эротики уже содержится начало хулы на Духа Святого, то попрание святыни смерти есть предельная и конечная хула на Утешителя, воскрешающего из мертвых.
Второй путь профанации смерти в утопическом коммунизме связан с отвержением личности в ее метафизической тайне. Происходит словно возврат к античности, но только без признаков античного гения. Впрочем, не о гениальности речь идет — здесь
44
нет и признака талантливости, — но дарит лишь одно серое уныние. И столь же, в конце концов, уныла судьба стертой и растленной личности. Ибо смерть есть преимущественно и главным образом личная трагедия и трагедия личности. Согласно христианской интуиции, каждый умирает „за себя”, будучи ограниченной и несовершенной личностью, и лишь Христос — Абсолютная Личность — умер за всех. На Голгофе произошло явление тайны сопряжения любви и смерти. Нечувствие, отрицание, отвержение личности, нелюбовь к ней — одновременно профанируют и бесчестят тайну смерти и обратно. С христианской точки зрения идея смерти соединена с идеей последнего и праведного суда. Цинизм марксистской души вполне последовательно отвергает идею правды и справедливости, идею суда и сострадания, ибо истинный суд связан с состраданием.
Революционные убийства при этой установке совершаются, так сказать, раз навсегда — как об этом говорится у пророка Иеремии: „Враги мои говорят обо мне злое: когда умрет он и погибнет имя его”. Здесь именно желание погубить на веки имя. Здесь идея вечного забвения в противоположность христианской идее „Вечной Памяти”. Убитых не только зарывают, как скотов, но еще и не прочь утилизировать их трупы для технических надобностей. У оставшихся же и чающих Христова утешения последнее принципиально отнимается, ибо оно есть „суеверный предрассудок”.
Революционный фарисей отнимает и право на слезы. Вообще он никого и ничего не щадит, никого и ничего не милует, не прощает. Где же более искать доказательства существования злого духа?
Оскомину набило нелепое, лживое и пошлое изречение „религия есть опиум для народа”, С полным основанием можно утверждать, что революционный
45
утопизм является не только опиумом, но и настоящей анестезией для превращенных в опытный материал человеческих существ, от которых отнято поистине Богочеловеческое право с достоинством и в полноте живого бытия и свободы изживать трагедию любви и смерти.
Трагедию вообще нельзя ни признавать, ни отрицать — она есть факт падшего бытия. Правда, в этом падшем бытии существует еще другая трагедия — трагедия добываемого в поте лица хлеба.
Революционный фарисей-марксист самым бесчеловечным и циничным образом использовал убивающую и обезличивающую силу голода. Он взял, так сказать, режиссуру голода в свои руки и претендует быть на сцене голодной драмы „червем-победителем”. Ибо голод действительно, как ничто другое, убивает любовь во всех ее проявлениях, одновременно искажая, затемняя и профанируя идею смерти. Жуткий и жалкий образ голодного людоеда! особенно страшен тем, что для него, так же как для коммуниста, нет тайны смерти, нет зова любви. Убита, искоренена любовь в образе голодной матери, пожравшей собственного ребенка.
Таким образом, в доведенном до предела революционном фарисействе происходит в сущности не столько даже профанирующее преодоление трагической двоицы любви-смерти, сколько замена ее бесконечно более страшной и безотрадно погибельной, искусственно усугубляемой трагедией хлеба и утопическим материализмом,
К этому присоединяется и отрицаемое в теории, но реальное на практике обожествление государства, властвующий этатизм. Ибо владеет огромным болынйнством душ и тел людских тот, кто держит хлебы в своих руках, Власть и ее искушающая тройственная мистерия: чудо — тайна — авторитет — при-
46
званы поругать и профанировать смерть-любовь. Мы это видим в образе раскормленного чекиста, распределяющего пайки, усмиряющего и бичующего голодные тени, обладающего голодными женщинами и диктующего голодным ученым.
Великий Инквизитор, покуда он не у власти, но сидит в революционном подполье, — очень жалостлив и даже слезливо сентиментален. Слушая его чувствительные элегии по поводу „бедствий”, переживаемых народом при старых режимах, сразу и не догадаешься, что это тот самый принципиальный убийца, палач и истязатель, который, когда придет к власти, приговорит к каторжным работам миллионы людей, будет сметать с лица земли те самые деревни, о судьбе которых он так печаловался, и казнить, казнить без конца... Лишь немногие догадывались, что еще тогда, когда старые режимы были у власти, Великий Инквизитор, фарисей революционного утопизма — был жестоким гонителем, мучителем и гасителем — и в потенции и реально. Поддавались на удочку его слезливых ламентаций, ибо толпа всегда склонна внимать безвкусному сентименту.
Хаотичный взрыв первичных социальных стихий влил в сентиментальный ручеек революционера-инквизитора целые потоки грязи и мути.
Едва ли не один Достоевский до конца понял, в каком смысле Великий Инквизитор „пожалел” человечество, „мучимое” свободой, и как пришел освободить его. Свобода — основа трагедии. И изживается свобода в образе любви и смерти. Великий Инквизитор революционного фарисейства „освободил” человечество от ужасов любви и смерти, насильственно насадив поистине адскую муку „хлеба”. Вот его метод „освобождения”: „Связав ему руки и ноги, ввергнете его в тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубов”.
47
Вот истинный лозунг революционного инквизитора, и таков подлинный лик его жалости к страждущему человечеству. Таков тот, кто возвел русскую культуру на Голгофу, заушая ее и издеваясь над ней.
48
Глава 3
СКРЫТОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
Есть философы, которые весьма легко включают Бога в диалектику и любят, когда с ними борются. Такая смелость мысли заслуживала бы одобрение, если бы эти храбрецы не отступали перед революцией в благоговейном и молчаливом ужасе, Трусость эта, к счастью, не поголовна. Тяжелый и неблагодарный труд философского „обличения” революции и ее фарисейства брали на себя такие мыслители как Достоевский, Розанов, Константин Леонтьев, Данилевский и др.
Казалось бы, что после них трудно сказать что-либо новое по предмету, удручающему часто своей элементарной незамысловатостью, Трудности начинаются вследствие дурного искусственного усложнения этой темы, — своего рода дымовой завесы, опускаемой вольными и невольными апологетами революции. Все же тайна революции, раскрывшаяся в предельном ее самообнаружении, должна быть разоблачена не только во имя справедливости, но и во имя интереса чистого познания, задачи которого, кстати сказать, в корне совпадают с задачами этики. Создавшееся положение до некоторой степени облегчает трактовку темы. Дело в том, что кажущиеся антиподы революционного фарисейства, так наз.
49
„правые” в наше время сплошь и рядом обнаруживают свое внутреннее сродство со своими противниками, обнаруживают настолько, что до некоторой степени легко могут быть объединены в общую группу деформирующих противокультурных начал.
Легко доказать фактически, что старое русское правительство должно было защищать культуру, воюя на оба фронта — против реакции и революции разом. Внешнее несходство и вражда не должны затемнять истину в наших глазах. Позитивизм и нигилизм явно свойственны обоим противникам. Языческий национализм и красный интернационал, левое и правое поклонение власти — суть тезис и антитезис единого диалектического процесса. Оба вместе возникают и оба вместе падают. Кстати сказать, чувство самобытной сущности национальных культур, — напр., России, чувство онтологии культуры — глубоко чуждо и тем и другим.
Помимо этого, в деле революционного разрушения культуры оба антипода выполнили роль „дополнительных” по отношению друг к другу функций. Если выродившаяся и разложившаяся власть, превратившаяся к тому же из надпартийно консервативной и правовой в партийно правую — обнаружила типичную революционно-либеральную слабость в противостоянии революции, то пришедшая ей на смену через трамплин Временного правительства современная социалистическая олигархия обнаружила предельную властность на нелепом и ничтожном социально-культурном базисе, Для России сложилась худшая из всех возможностей: усовершенствованный до последних пределов технический аппарат власти, придерживающийся злостно отсталой и кровожадной доктрины. В результате же — создавшееся положение можно охарактеризовать парадоксальной
50
формулой: организация слабости и дезорганизация силы.
Этим парадоксальным, противоречивым путем вообще шла российская революция как титулованная и „правая”, так и подпольно-конспиративная. Все же миф о революционности Петра Великого должен быть принимаем с большими оговорками, а при некоторых попытках его использования и вовсе отвергаем (как миф о революционности Пушкина). Что же касается радикального подполья, то там всегда были только враги России и русской культуры. Могильный склеп, в котором томится теперь Россия, — типичное красное подполье старо-революционного типа. В первую очередь мы останавливаем наше внимание на нем. Тем более, что теперь до конца обнаружилась его подлинная сущность.
Пока действовали органические, творческие и охранительные силы русского исторического гения, различные партийные группировки могли воображать, что они направляют судьбы русской державы и русской культуры.
Это замечание особенно касается официального консерватизма, чья апатия мысли нередко стремилась заглушить творчество (напр., Чаадаева или К. Леонтьева), возникавшее в его собственной среде. Трагедия в том, что творчество на этой почве не имело поддержки в лице подлинно-прогрессивного охранения. Могла создаваться и, к сожалению, создавалась иллюзия приобщения этого „консерватизма” к базису нормального социально-исторического процесса. Это во многом обусловило драму русской истории и культуры и, стало быть, ее философию, поскольку философия есть созерцающая соучастница драмы.
51
Анализ явления русской революционной идеологии и ее осуществления на деле приводит нас к интереснейшей и важнейшей проблеме философии зла, ибо от зла в области культуры мы, через философское углубление темы, приходим с необходимостью к злу в области религиозно-метафизической,
Здесь надо заметить следующее. Всякое зло и революция как конкретное олицетворение зла — представляются в плане строго имманентного анализа, как нечто совершенно ненужное, напрасное и в целевом смысле бессмысленное. Для того, чтобы преодолеть эту верную, но опасную, ведущую с соблазнительной легкостью к пессимизму точку зрения, необходим сущностный (онтологический) анализ некоего первоначала революции — наряду с точным изучением „токсического” действия ее идеологии. И здесь задеты интересы не только чистого познания. Отчет в происходящем мы обязаны дать себе. Вопросы ставятся грозно. И в ответе на них — судьба наша. За ответом следует выбор, действие и — ответственность. Это значит, что мы подошли к философии революции.
Философия многообразна. И облик ее подпадает не менее искусства влиянию субъективно-психологических соблазнов,
Однако в разбираемом вопросе от этих соблазнов надо ограждаться не менее, чем от так наз. индивидуальных ошибок в точной науке, В настоящее время философская мысль о революции бьется между обывательщиной и „школой”, между отсутствием мысли и „убеждением”. „Молот” и „наковальня” здесь, кстати сказать, часто меняются и местами и именами.
Обывательская философия несложна. Ее основные принципы целиком определяются старыми, но вряд ли добрыми поговорками: „Где хорошо, там
52
и отечество”, „сначала жить, а потом философствовать”. С помощью такой „философии” легко прийти не только к практическому мошенничеству и бесчестию, но и к своеобразному принципиальному отрицанию всякого высшего смысла в жизни, в своих и чужих поступках. Еще легче превратиться обывателю в „торжествующего скота” с далеко, впрочем, не триумфальным финалом. Здесь обывательщина и революционный нигилизм удивительно совпадают, мы убеждаемся в этом на примере Писарева и Чернышевского.
Что же касается школьной философии, то и здесь перспектива не многим лучше. Простоватый и бездарный позитивизм, вера в бесконечный линейный прогресс (особенно в его марксистском обличье) — есть основная причина новейших, обезображивающих культуру, лжефилософских явлений. Утопия — в различных вариациях и личинах — во все времена была важнейшей силой, разлагавшей и деформировавшей мысль и культуру. И буржуазно-мещанская обывательская идеология должна быть относима также к числу утопий и притом самых злостных.
Утопично и наблюдающееся в настоящее время стремление сочетать хозяйство, руководимое финансовым капиталом, — с хозяйством коммунистическим. Конечно, здесь есть много от „левой” идеологии финансового капитала, корни которого с их разветвлениями уходят в некоторую черную метафизику Мамоны. Для того, чтобы оправдать эти черные инстинкты властвующей Мамоны, кстати оказался и принцип моральной относительности, давно уже возникший в порядке лжемифа об эволюции, и всевозможные приспособленческие устремления всеядных публицистов. В наше время по причине всеобщего морального и умственного распада, разброда, разложения появился даже своеобраз-
53
ный культ низости. В наши дни школа, обывательщина, журналистика — сплелись так тесно, что необходимо потратить много усилий, чтобы понять, где кончается одно и начинается другое. В современном позитивизме нет и признаков искания объективной истины, но царит поразительный духовный разврат.
Нужна зоркая и чуткая, истиной освобожденная мысль, та самая независимая мысль, о которой так много пустословили радикалы, в то же время боясь и преследуя ее всеми доступными средствами.
Лишь полным сокрушением буржуазно-революционного фетиша может быть обусловлено освобождение. Такое освобождение от буржуазно-революционной установки является основным условием подлинной философии революции, как одного из своеобразных методов философии культуры. Переходим на русскую почву.
Прежде всего необходимо поставить вопрос о смысле и составе самого термина: философия русской революции.
В содержании понятия „философия русской революции” ясно выделяются два момента: описательный (морфологический) и оценочный (аксиологический).
Первый момент включает в себя описание „идей-двигателей”, из которых исходили и продолжают исходить ее деятели, основывая на них свою идеологию и тактику. Сюда же относится и описание самого явления революции. Все вместе есть анализ ее, так сказать, духовного скелета, его статики и динамики.
Второй момент состоит в оценке или, вернее, в переоценке названных идей с независимой от них точки зрения. Здесь-то и возникает положительный образ того, на что направлены разрушительные и растлевающие энергии революции, Этим моментом
54
оценки определяется место и значение в системе историко-культурных идей.
Прежде всего бросается в глаза относительная формальная сложность этого явления. В него входят: марксистская коммунистическая доктрина как предельное выражение и завершение утопической идеологии; симбиоз ее представителей с аморальными и дегенеративными вырождающимися элементами общества; фактическое и идеологическое участие этих элементов в революции, т. е. вообще говоря, антропология и психология революции со включением сюда криминальной антропометрии и социально-биологического фактора. Далее, видоизменение западной идеологии на русской почве и столкновение ее с русской действительностью, выросшей органически в процессе исторического творчества, Наконец, религиозно-метафизическое истолкование этого процесса.
Для ученого и философа особенный интерес представляет, пожалуй, трансформация западного радикализма на русской почве. Если европейский радикализм имеет (хотя бы рудиментарно) подобие определенной структуры или системы, то среди русских его последователей и продолжателей чаще всего царит безобразный хаос, прикрываемый порой нелепым и поверхностным педантизмом.
Правда, в этом мусоре много иностранных слов и наукообразных попыток, но при этом нельзя поручиться за подлинность и добросовестность ни одного слова — всюду мистификация и возведенная в принцип ложь.
Это то, что Леонтьев метко охарактеризовал как „упростительное смешение”. Основное свойство утопизма — удручающее однообразие, скука психологическая и метафизическая. Эти однообразие и скука утопий уходят корнями в древность и через
55
Моора, Кампанеллу, Уистенли, Морелли и проч. — через утопизм начала XIX века — приводят к революционным фантазиям последнего времени.
Революционная утопия выпадает из органики бытия не потому, что она выше среднего уровня жизни и мышления, но вследствие того, что она во всех смыслах бесконечно ниже этого уровня.
Отсюда его бездарность и внеисторичность, выражающаяся, кстати сказать, в инстинктивно эмоциональной вражде к истории и быту... „Преступники истории не имеют”, — точно заметил имп, Николай I, А это значит, что они и подлинной философии не имеют. Последнее видно из произведений Ламеттри, Гольбаха* Дидро, Молешотта, Бюхнера, Фохта, Геккеля, Тимирязева и т. п., которые и доныне вдохновляют материалистов и радикалов,
„История есть разум нации”, — сказал Гегель. Но у российских революционеров есть все основания как историю, так и разум считать в числе своих смертельных врагов.
Коммунистический советский режим, конечно, необходимо рассматривать как кульминационный пункт, острие, вершину революционно утопических радикальных устремлений — своеобразную комбинацию марксизма и традиционных народничества и нигилизма. Этим объясняется, что даже и далекие по видимости большевизму течения радикализма — внутренне тяготеют к нему.
Несмотря на поверхностные, хотя и старые разногласия, несомненно существует общность устремлений всех „радикальных программ” и групп, Единство это может быть формулируемо в виде, если угодно, категорического императива: „Поступай (пиши, действуй, говори) так, чтобы все усилия и внутренний смысл твоих поступков фактическиукрепляли советский режим”.
56
Только в этом свете следует рассматривать призывы к „прагматизму”, „реалистическому подходу” и т. п., постоянно идущие из лагеря тех, кто стремится к коллаборации с революцией.
Сами большевики с их типично паразитарной биологией и психологией — сделать ничего не могут, но нуждаются в ценностях, накопленных „старым режимом”, в рабском труде и в подачках со стороны.
Налицо тот факт, что представители „утилитаризма” и „мыслящего реализма”, вообще говоря революционно-радикальной интеллигенции, такие как Писарев, Чернышевский, Лавров-Миртов, Скабичевский и проч. вместе с их прямыми наследниками — вплоть до Ленина, Луначарского, Бухарина, Сталина и др. — не только не сделали ничего полезного, никаких открытий подлинного хозяйственного творчества, но наоборот, — обнаружили поразительную бездарность и совершеннейшее бесплодие.
Поэтому кремлевская мафия имеет все основания считать себя наследницей позитивистско-социалистической идеологии, а свою судьбу приравнивать к судьбе социалистической революции. Со своей точки зрения они вполне правы, когда всякое покушение не только на свое существование, на персональное умаление своих прав или даже простое их определение, но и на самостоятельную, вне рабского им подчинения, жизнь — рассматривают как контрреволюцию.
Вместе с коммунистами пришел тот радикально-интеллигентский „настоящий день”, о котором так мечтал Добролюбов, — в этом нет никакого сомнения,
...Революция на путях своего самоутверждения уничтожала, искореняла и калечила все, что так или
57
иначе связано с бытием России, ее культурой и религией, особенно — с православием.
Тактически это сводилось к борьбе не только с непосредственными препятствиями на путях революции, но и со всем тем, что было уже пройденным, со всеми „маврами”, которые сделали свое дело и которым лишь остается уйти. Однако преследования культурных, и религиозных творческих начал и гонения на представителей „умеренно”-революционных течений — глубоко различны по своему смыслу и существу.
Первые преследовались в порядке абсолютном,в порядке выполнения основной задачи революции, выявления ее сущности, в то время как вторые, „умеренные” революционеры преследовались из соображений тактических в порядке усовершенствования революционной техники.
В целом же, процесс этот выразительно называется — „углублением революции”, начавшимся тотчас после отречения Государя, почему и путь от Февраля к Октябрю представляет собою удивительно единую и закономерно-эволюционировавшую непрерывность, — по-видимому, единственное блестящее подтверждение эволюционной теории.
58
Глава 4
ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ
Революция, как и всякое беззаконное и разрушительное деяние, нуждается для своего осуществления в двух факторах: в „штампе” активной злой воли и в „матрице” поддающегося, приемлющего „непротивления”. Первому соответствует революция, второму — либерализм и непротивление.
Получается странная пародия на творчество по Платону. Активной воле красного „Демиурга”, творящего революционный мир по „идеям”, противостоит пассивная материя, своеобразное небытие, „меон” непротивления и одобрения.
Мы будем различать в развитии революции три эпохи: древнюю, среднюю и новую. Непригодная и нелепо-условная в применении к настоящей истории, эта схема весьма подходит к лжеистории революционно-социалистического разрушения.
„Древней” мы назовем скрыто-подпольное (латентное) состояние, период выработки и концентрации идеологического яда (вплоть до попытки привить революционный токсин в 1905 году).
Средний „инкубационный” период — вызревание революции от Февраля — к Октябрю 1917-го. Реальным и трагически-смехотворным символом этого времени следует считать поистине временное „пра-
59
вительство”, фактической задачей которого было гарантировать наивозможно более успешный рост революционно-социалистического микроба и парализовать силы, ему противящиеся *.
Блестяще выполнив эту свою задачу, Временное правительство уступило место окрепшей коммунистической мафии, Господство этого комплота вместе с полным устранением культуры и самого имени России характеризует третий — „новый” — период революции.
Можно говорить, пожалуй, еще и о новейшем периоде, поскольку он касается реорганизации коммунистической идеологии и ее военно-полицейской самозащиты...
Так как расцвет русской культуры связан главным образом с XIX веком и началом XX, а этот период совпадает с начальным (скрыто-латентным) мировым революционным процессом, подрывавшим нашу культуру, мы займемся главным образом этим периодом, Но так как он выявил свою сущность в последующих двух, то мы вкратце остановимся и на них,
Углубление революции во что бы то ни стало — было лозунгом как раз „умеренных” революционеров. Они всячески содействовали победе коммунистов и не раз выражали удовлетворение по поводу этой победы. Например, в Киеве в 1918 г., когда город, после ожесточенного и беспощадного обстрела бежавшими с фронта дезертирами, составлявшими наряду с уголовными элементами базис той живой силы, на которую опирались большевики-коммунисты, — был ими взят и подпал под жесточай-
* Трудно представить что-либо более комичное и доктринерски бессмысленное, чем само это наименование правительства „Временным” и покорно-благоговейное ожидание упразднения „слева”.
60
их тиранию. Именно тогда как раз „умеренные социалисты” (с.-д. и с.-р.), составлявшие большинство городского самоуправления, выпустили воззвание, в котором предлагали измученному бомбардировкой и убийствами населению утешаться мыслью, что с победой большевиков „восстановлено единство революционного фронта”.
Это составляет сущность второго периода — коротенького революционного „средневековья”, революционно-переходного междуцарствия.
Третий период — „новый” — можно охарактеризовать как полную победу (не только внешнюю, но и отчасти внутреннюю) носителей революционно-социалистической идеологии, всестороннее овладение ими государственно-бюрократическим и военно-полицейским аппаратом.
Вместе с тем этот третий этап можно, пользуясь их жаргоном, назвать эпохой „мирного социалистического строительства”. Парализуя внутренние духовные силы и при активной морально-материальной поддержке Европы, подражая ее „деловым” приемам и при помощи заимствованных из ее революционной практики убийств, ставших бытом, своего рода нормой, и многими другими подобными способами революционеры искореняют и уничтожают все то, что физически и духовно представляет бытие России и ее культуры.
Главными средствами этого искоренения и уничтожения является, во-первых, упразднение и обезображивание права во всех его видах, И, во-вторых, обезглавливание России — путем уничтожения носителей высшей духовной культуры, людей духовного творчества и труда.
Их не надо смешивать с той лево-либеральной „интеллигенцией”, что соединяет в себе умственную лень и спячку, и в огромном большинстве случаев
61
бездарность с узким партийным фанатизмом и смешанной с сентиментом жестокостью.
Эти „интеллигенты” различаются лишь поверхностно, но сущность их приблизительно та же: Белинский, Чернышевский, Ленин, Горький, Дан, Милюков — все это типичные интеллигенты. Положение, установившееся в России после революции, можно охарактеризовать, как истребление радикальными интеллигентами людей культуры и духа — путем их уничтожения, высылки, морального разложения. Ирония термина „интеллигент” в том, что его носитель ничего не понимает, думая, что понимает все — в противоположность Сократу.
Многим кажется, что ныне в СССР происходит своеобразное укрепление государственности на новых началах. Все это иллюзии, ложная видимость, а иногда и прямая ложь „попутчиков”. Укрепляется не российская государственность, но огромное революционное легализированное подполье, врезавшееся в ее живое тело. Собственно говоря, нельзя даже говорить о государственности там, где есть, в сущности, принципиальное отрицание права, замененного широко разработанным партийным уставом, программа которого — стеснение и истребление всего, что не есть революция. Под предлогом защиты целостности российской территории, превратившейся в мертвый и формальный фетиш, на деле происходит всемерное отстаивание громадного революционно-социалистического подполья с его уставом.
Противогосударственная и противокультурная „работа” этого подполья проводится не только путем „лишения всех прав состояния” всего населения, но и посредством организованного мучительства. Последнее выполняется при помощи многочис-
62
ленных кадров палачей, состоящих частью из уголовников и дегенератов, частью из экзальтированных фанатиков и карьеристов.
После воцарения в России коммунистического крепостничества никто из революционеров за народ уже более не страдает и о „беззаветной любви” к нему не поет. Они стали добрыми и благонамеренными „консерваторами”, оставаясь в то же время правоверными исповедниками революционного рассудочного разложения, т. е, оставаясь подлинными и настоящими революционерами. В этом парадокс революции, впадающей — по воцарению — в летаргию.
Партийно-кружковый и лично-эгоистический интересы срослись столь тесно, что в определении сущности революции и революционера их необходимо принимать целокупно. В этом сущность революционного жизнеощущения, в этом причина его уродства, бездарности, бедности и преступности. С другой стороны, это же сочетание идейного и личного мотива объясняет ревнивое блюдение „чистоты” идеологии представителями властвующей группы и панический страх революционных групп, у власти покуда не стоящих, — перед падением советского коммунизма. Аналогичный страх испытывает и буржуазная Европа в лице ее финансового капитала и радикальных политиков.
Однако такое блюдение идеологической чистоты совершенно невозможно обычными путями дискурсивной диалектики, которыми отстаивается философски воспринимаемая истина. Равно как и абсолютно невозможно то свободное соревнование в истине, где „подобает быть еретиком, дабы открылись искуснейшие”, по свободолюбивому слову ап. Павла. Истинная и свободно высказываемая мысль не имеет места в царстве революционной идеологии. Место свободной истины занимает насильственно
63
утверждаемая ложь. Ложь есть основной стержень революции, неправда пронизывает насквозь все тоталитарное общество.
Ложь же в отношениях Европы к России заставляет вновь вспомнить слова А. С. Хомякова: „Сколько во всем этом вздора, сколько невежества, какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба. Ни разу слова любви или братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство” („Москвитянин” № 4, 1845).
В таком отношении Европы к России во многом повинна пропаганда эмигрантов-радикалов, непрестанно чернивших российскую государственность и культуру.
64
Глава 5
РЕВОЛЮЦИЯ, ЕВРОПА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Российская интеллигенция — типичная секта, то, что французы называют petit religion. Ее схоластическая рассудочность отрицает органическую культуру и органическое творчество. „Копернику выкалываются глаза, Цицерону отрезается язык, Шекспир побивается камнями. Всякий гений удушается в младенчестве”, — эти страшные слова Петра Верховенского из „Бесов” теперь уже не слова, это — реальность. Но так как это интеллигенция российского происхождения, то в первую очередь уничтожается русская культура. Выкалывают глаза русским Коперникам. Отрезается язык русскому Цицерону. Русский Шекспир побивается камнями. Русский гений удушается в младенчестве. Пока нельзя этого было делать прямо, это достигалось путем идеологического террора внутри и клеветнической лжи вовне.
„Любители невежества и адораторы тьмы” — какая верная, хотя и жестокая характеристика В. В. Розанова, данная радикальному подполью!
„И солнце не светит на черного человека”, — говорит тот же гениальный Розанов о русском нигилисте-интеллигенте, который проклял солнце правды и ушел в подполье лжи, объявив своим союзником
65
всех, кто клевещет на Россию и ненавидит ее культуру.
Беспросветное незнание России Европой — факт знаменательный. Оно означает не простую неосведомленность, возникшую на почве культурной отчужденности, трудности языка, недоступности страны и т. п. Россия — не Тибет, а Петербург и Москва — не Лхаса. Культура и цивилизация России аналогичны Западу это признает даже Уэллс в своей книге „Россия во мгле”.
Любопытно, что этот автор даже ставит техницизм в вину русскому капиталу конечно, не по культурно-философским соображениям типа Рескина, для этого он слишком современный англичанин, — а для того, чтобы оправдать разрушительную деятельность коммунистов с точки зрения доброго английского патриота.
Православная русская литургика, прямо идущая со времен апостольских, знакома европейцам едва ли не меньше, чем сложная мистика тибетского буддизма.
То, что такой человек как Ллойд-Джордж делается экспертом по русским делам в парламенте и пытается определять судьбы русской культуры, — свидетельствует, что Европа не только не может, но и не хочет знать о России правду.
Здесь налицо традиционное недоброжелательство Европы к иному типу духовной жизни и его истокам. Православная, культурно-национальная, экономически процветающая Россия — равно не устраивала как Европу, так и отечественный радикализм.
66
Глава 7
ЛОЖЬ, БЕЗДАРНОСТЬ, НАСИЛИЕ
Явления, подобного нашей радикально-революционной интеллигенции, не знает ни одна мировая культура.
Объяснить это можно лишь особыми, из ряда вон выходящими и не повторявшимися нигде обстоятельствами. Сюда надо отнести прежде всего крайне опасную, взрывчатую, темную стихийность русского народа, его своеобразный „дионисизм”, крайне двусмысленный и способный, так сказать, на все. Он способен и подчиняться и поддаваться любым наговорам и заклятиям. Это свойство России, вернее сказать, ее стихийной подпочвы великолепно выразил А. Блок в словах:
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу...
Этим чародеем оказалась секта рассудочного разложения. Не Аполлон овладел странным русским Дионисом, но Смердяков, поистине мелкий бес, — рассуждающая бездарность. Более отвратительного зрелища в мировой истории, кажется, еще не наблюдалось.
67
Как же это могло произойти и при каких обстоятельствах? Здесь, конечно, много темного и таинственного, коренящегося в бездне той тайны, которая именуется свободой выбора. Это падение — в самом изначальном библейском смысле слова. В России словно повторилась драма, явленная в третьей главе книги Бытия. „Матрона дома полюбила осла” — по выражению Розанова. Библейское грехопадение со змием. Российское — с ослом *.
В отечественной истории мы наблюдаем своеобразный дуализм. И этот дуализм, собственно, ставит со всей решительностью и со всем трагизмом ту задачу выбора, которая столь обострена именно в дуалистических конфликтах. Обстоятельства, до крайности его обострившие — это те условия, при которых произошла „европеизация” России, начавшаяся исподволь еще до Петра Великого, но символизированная его „ужасным ликом”.
Сам факт и сущность этой „европеизации” чрезвычайно сложны, и элементарная его трактовка привела к тому, что дуализм этот выразился в конце концов в виде классического противопоставления западников и славянофилов. Петр вбил клин, давший роковую трещину. Реформаторство Петра I создало особое умонастроение и привело к возникновению характерного типа людей, назначение которых заключалось в том, чтобы, выражаясь словами Достоевского, „представлять идею” и „стоять перед Отчизною воплощенной укоризною” Сначала „представлявшие идею” укоряли Отчизну одним фактом своего европейского вида. Но уже здесь мы видим
* Здесь порадела ужасающая русская биология, подлежащая преодолению нечистоты в плане культурно-историческом вообще, подобно тому, как подлежит преодолению русский фольклор в плане искусства в частности.
68
зачатки презрения к народу и к национальной культуре, как к чему-то низшему, требующему видоизменения. Постепенно выкристаллизовывается феномен, именуемый интеллигенцией. Парадокс же состоял в том, что русская национальная культура через Восточную Европу и другими путями глубинно взаимодействовала с подлинной же культурой Запада, а интеллигенция оказалась продуктом худших сторон национального характера, в результате появились „франкофилы”, „англоманы” и проч., ничего общего не имевшие ни с Россией, ни с Францией, ни с Англией. Они могли породить только революционный нигилизм *.
Между подлинными творцами культуры и интеллигенцией так же, как между последней и народом — взаимопроникновение устанавливалось с чрезвычайным трудом. Вредоносные обезображивающие явления, причиняемые этим раздельным сопребыванием чуждых друг другу начал, значительно перевешивали положительную, творческую, синтетическую его сторону.
Люди умственного и творческого труда — творцы подлинных культурных ценностей, интеллигенция и народно-национальный массив — являли нечто вроде эмульсии, а не раствора и прочного химического соединения, Поэтому при соответствующих и благоприятных обстоятельствах раздробленная интеллигенция сливалась в „массы”, несоединимые с народно-национальным целым.
Мало того, эти „колонии”, начавшие расти и размножаться с большой быстротой в середине XIX столетия, стали остро революционизироваться во второй половине того же века.
* Либеральный Степан Трофимович Верховенский породил „беса” Петра Степановича как это с гениальной прозорливостью показал Достоевский.
69
История русского интеллигентского радикализма последнего периода существования России была не чем иным, как историей явной и тайной войны с ней и ее культурой.
Средоточием революционного противостояния, хотя и была идея „западничества”, но это нисколько не мешало и „славянофилам” выделить несколько ложных „идей”, включая сюда главным образом недооценку правового строя. Любопытно, что сосредоточившаяся вокруг идей и стягов западничества радикально-революционная интеллигенция не замедлила вобрать в себя и все ядовитое, что вышло из среды славянофилов, — отвергнув в то же время их высокую культуру.
При всем том, революционно-радикальное противостояние России связано с понятием именно западнической интеллигенции. Ее еще окрестили „общественностью” — хотя на деле здесь вовсе было не общество, но узкая фанатическая секта,
Останавливаясь на этом явлении, необходимо с особой осторожностью избегать столь часто допускаемой ошибки: смешения генезиса (истории возникновения) с феноменологией (учением о сущности и смысле).
Вместе с тем трудно говорить о, собственно, какой бы то ни было истории российской радикальной интеллигенции. Речь может быть лишь о своеобразном „спектре” во времени. Такой „спектр” означает вовсе не творческую эволюцию, но лишь специфическое приспособление и варьирование „готовых идей” в связи с событиями подлинной истории русского народа, русской культуры и русского государства. Сквозь серую пелену западнического радикализма с трудом пробивались живые и яркие краски подлинной жизни.
70
Что же касается истории интеллигенции в том смысле, как, напр., ее попытался написать Д. Н, Овсяннико-Куликовский *, то это предприятие явно безуспешное даже для сил, превосходящих скромные возможности популярного профессора. Такая история, очевидно, вообще невозможна, — ибо нет ее субъекта: живого и развивающегося целого.
Недаром „История” Овсяннико-Куликовского не может вместить славянофильства или вынуждена игнорировать учено-философскую и религиозную мысль... Она превращается в некоторое подобие хронологического списка пропагандистов революции и обличителей старого режима. Все это, конечно, составлено в панегирическом духе со вкрапленными сюда исторически ничего не говорящими островками других направлений, которые к тому же в большинстве случаев за волосы притягиваются на службу обличительству. К этой же группе, что и Овсяннико-Куликовский, следует причислить и Соловьева-Андреевича, Трубицына, Смирнова-Кутачевского и др.
Более значительны по своей формальной эрудиции Венгеров, Пыпин, Ляцкий, Кранихфельд, Милюков, Сакулин и проч., но они целиком погружены в ту же обезображивающую стихию интеллигентского шаблона и в этом плане совершенно безнадежны.
Мы не случайно упомянули о психологии Д. Н. Овсяннико-Куликовского, Он, в качестве типичного интеллигента, сам будучи вместе со своей „Историей” только объектом, а не субъектом, обмолвился рядом показательных признаний. (Мы в дальнейшем будем пользоваться этого рода сочинениями как симптомом при диагнозе той страшной болезни,
* Д. Н. Овсяннико-Куликовский. История Русской Интеллигенции. Собр. соч., т. VII-IX, изд., С-Пб, 1911.
71
которой заболела Россия.) Как ни тяжела работа над подобным гноем, — она не должна останавливать исследователя, поскольку он желает быть добросовестным.
Основой интеллигентской психологии недовольства является отрицательная характеристика России — как страны „отсталой” и „запоздалой”. „Отсталым” и „запоздалым” безотносительно к чему-нибудь быть нельзя. Критерием тут служит для интеллигентов Европа.
Правда, „Европа” в их сознании — это нечто мифическое, некая „вообще” свобода.
Как только российский интеллигент начинает рассуждать о Европе, он, сам того не ведая, попадает в комичное положение.
Напрасно Овсяннико-Куликовский причисляет людей типа Чацкого к своим. Наоборот, радикальные интеллигенты — это прямые наследники Молчалиных и Фамусовых, правда, перекрашенных в красный цвет. Среди этих красных Молчалиных и Фамусовых подлинному уму приходится плохо. Это они, как только заметят подлинное творчество в области научно-философской или культурной, подымают вопль:
Разбой! Пожар!
И прослывешь у них мечтателем опасным...
(Грибоедов)
Радикальная интеллигенция не только не может и не хочет творить, но всячески мешала и мешает творцам: ранее при помощи идеологического террора, ныне — с помощью террора реального: смертных казней, арестов, тюрьмы и ссылок.
Стоит только сопоставить поэта Пушкина и интеллигента Писарева, философа Юркевича и интеллигента Чернышевского, поэта Фета и интеллигента
72
Добролюбова, мыслителей-славянофилов (Хомякова, Самарина, Киреевских, Аксаковых и т. п.) и интеллигента Михайловского, ученого-энциклопедиста Н. Н. Страхова и интеллигента Лаврова-Мартова, химика Менделеева и интеллигента Морозова (шлиссельбуржца), историков С. Соловьева, В, Ключевского, Платонова и интеллигента Щапова, — чтобы понять разницу между культурой и творчеством, с одной стороны, и радикальным идеологизмом — с другой. Дореволюционные интеллигенты всегда пребывали „в состоянии брожения” (отнюдь не творческого) и не хотели ни при каких обстоятельствах обосноваться на прочном базисе разнообразного плодотворного культурного труда — ибо такое „обоснование” они могли мыслить только на утопической почве. Конструктивную работу в культурно-национальной России они сочли бы за худший вид контрреволюции.
Сегодняшнее социалистическое строительство есть лишь катастрофическая деградация того, что К. Леонтьев называет „цветущим разнообразием жизни”, „Проклятые вопросы” сводились, в сущности, к следующему: „кто виноват” — что не дают возможности развить до предела, до коммуны разрушительную деятельность, и „что делать”, чтобы приобрести эту „свободу”.
Здесь основа уже упомянутого „практицизма”, узкого утилитаризма интеллигентов. Они „пребывали” оторванными от земли, но и на небо не вознесенными. Радикалы морально контролировали и терроризировали все лучшее, что могло производиться в России — от хозяйства и экономического уклада до искусства, науки и философски-богословского умозрения. Зато всячески распространялось и внедрялось все разрушительное и отрицательное и, что еще хуже, бездарное, немощное,
73
оскопляющее. Подобная фильтрующая и цензурирующая функция была возможна по той причине, что в силу исторических условий в руках у „западнической” интеллигенции в общем и целом оказались орудия „просвещения”: устное и печатное слово. Она словно получила привилегию на них. Моральное иго интеллигентской цензуры тяготело над Россией чуть не за сто лет до того, как интеллигенция получила в свои руки власть и аппарат полиции, террора и сыска в государственном масштабе. Поэтому широкое русское общество издавна систематически питалось превратными и обезображивающими представлениями во всех почти областях политики, искусства, философии, литературы. Работа радикальной интеллигенции и ее цензуры сводилась в сущности к тому, чтобы замалчивать и травить все мало-мальски ценное и значительное, а в случае невозможности удушения подносить и истолковывать его в отрицательном, разрушительном или превратном смысле, Так например, из Пушкина и Чаадаева сделали революционеров, из Достоевского — психопатолога, из Гоголя — обличителя-реалиста; впрочем, когда такая трансформация не удавалась, то не щадили и величайших гениев. Не кто иной, как тот же бескультурный Белинский объявил паралич пушкинского гения и смешал с грязью Гоголя и Баратынского. Писарев пришел уже на готовое.
Целая плеяда первоклассных поэтов и мыслителей была совершенно ошельмована и затерта: Баратынский, Фет, Полонский, Ап, Григорьев, Платон Кусков, Случевский, Константин Леонтьев, Катков, славянофилы, Н. Ф. Федоров и др.
В области хозяйственной жизни и внешней политики наблюдаем аналогичные явления: здесь народнический культ общины превратился в средство вторичного закрепощения крестьянина, а борьба с „бур-
74
жуазией” и с „кулаком” — в борьбу с обогащением народа (считалось, что богатый и цивилизованный народ нельзя будет провоцировать на революционный взрыв, нельзя будет внедрить в него интеллигентское миросозерцание),
В спектре радикальной „общественности” мы с особой яркостью наблюдаем имманентно ей присущую русофобию. Ненависть к России принимает подчас характер зоологический.
Она превратилась у радикалов в своего рода эмоциональный догмат. Российско-интеллигентская и общемировая ненависть к исторической России сопоставима в своей слепоте с антисемитизмом. Впрочем, это неудивительно, ибо оба народа — и еврейский и русский — народы мессианские и апокалипсические,
Впрочем, люди добросовестные и знающие легко могли убедиться в том, что в сфере духовной культуры у России мало соперников, да и сама цивилизация страны, давшей Ломоносова, Менделеева, Пирогова, Лобачевского, Павлова и т, п., — стояла на ступени развития, превосходившей ее „европеизированных” лукавых „учителей”-радикалов.
Западные учения, побывав в руках наших отечественных радикалов, превращались в бесформенную кучу терминов и псевдонаучных фраз, что особенно видно по тому, каких геркулесовых столпов достиг весь этот демагогический хлам в Советском Союзе.
Революционеры приписывают своим противникам свои же имманентные свойства: ложь и насилие. Можно сказать, что вся система оклеветания религии, семьи, государства, включая сюда духовную культуру и материальную цивилизацию, основывалась и основывается у революционеров на приписывании этим предметам ненависти — своих же свойств.
75
Укажем лишь на порицание смертной казни теми, кто массовое убийство ввели в систему и практикуют в размерах до этого небывалых.
Ложь есть вид насилия и, последовательно проводимая, всегда приводит к насилию скрытому или открытому. Но и обратно: насилие есть проявление лжи.
76
Глава 7
БОРЬБА НАЧАЛ
Рассудочное разложение и элементаризация, „анализ” бытия — можно считать основным догматом радикальной интеллигенции. В таком подходе уже содержатся и ложь и насилие. Ибо бытие целостно, и утверждать, что оно изначально раздроблено, значит схематизировать и злостно упрощать его божественную органику. В этом смысле можно поставить знак равенства между идеей первичного зла („падение денницы”) и появлением рассудочного разложения.
Всякое подлинное творчество изначально рассудочно необъяснимо, спонтанно и, если угодно, примитивно. Рассудочное разложение приводит бытие в состояние разорванных призраков, „элементов”. Отсюда элементаризм интеллигентского сознания или, лучше сказать, интеллигентской сознательности.
Борьба интеллигентского элементаризма с народным и творческим „примитивом” — вот к чему, в конечном счете, может быть сведен революционный процесс *.
* Простота есть свойство „примитива”. Схема, упрощение есть свойство элементаризма.
В известном плане и смысле противопоставление „примитива” элементу соответствует противопоставлению культуры и цивилизации (Шпенглер). Легко найти в основе культуры черты примитивов, а в цивилизации характерные признаки схем и элементов. Аналогия пойдет еще далее и глубже, если мы вспомним, что для автора „Заката Европы” культуре соответствует внутреннее средоточие, а цивилизации расширение (экспансия) вовне.
77
Утрата внутреннего смысла, т. е. отрыв от того, что обосновывает культуру, а в „последней инстанции” утрата религии и религиозности духа — приводят к угасанию, к вырождению, перерождению морали, права, эстетики. Уходит „вода жизни”, уходит и ее „вино”.
Живые души начинают терзаться, как в раскаленной пустыне без капли воды. Искажается, повреждается, если можно так выразиться, основная функция духа — основанная на религии и философском умозрении метафизика. Мораль превращается в морализм, а затем легко сдает позиции утилитарно-прикладным и политиканствующим спекуляциям — которые, кстати сказать, очень любят рядиться в формально-догматическую тогу. Воры и убийцы исполнены лицемерного почтения перед ими же установленной революционной „законностью”.
Морализм, законничество и доведенное до предела фарисейство — превращаются в систему обязательного общественного лицемерия, т. е. обмана и лжи. То же самое происходит с государством, вырождающимся в этатизм (государство-поклонничество), революционно-социалистическое и марксистское рабство. Для него типичен дух деспотического самовластия, попрания свободы и вещнородового (генорического), а не личного (нумерического) отношения к человеку.
Нам кажется, что причины рассудочного разложения, рационализма (т, е. убийства бытия тем, что ,,часть” ставится выше „целого”), нарушения иерархичности мира (т. е. революции) — следует искать у истоков религиозной трагедии.
...Говоря о латинстве, надо все время иметь в виду, что перед нами огромное явление великой культуры. Во всех отраслях человеческого творчества
78
сказался его могучий импульс — в философии, искусстве, общественности, в том, что можно было бы назвать стилем жизни в широчайшем смысле этого слова... Можно смело сказать, что без латинства не было бы европейской культуры.
И при всем том — есть в латинстве нечто с необходимостью ведущее к общему состоянию рассудочного разложения, утопии и экспансии. Можно сказать даже, что латинство осветило античный рационализм и римскую великодержавную утопию авторитетом христианства, В этом отношении латинство есть поистине двуликий янус. Один лик — вся правда и весь духовный гений церковного кафолического христианства. Другой лик — элементарное рассудочничество, законничество и религиозная мировая утопия. Конечно, нельзя отрицать своеобразной культурной миссии и за вторым ликом этого мирового чуда. Как остроумно выразился Тернавцев: „Рим избавил христианство от запаха стриженных овец”. Впрочем, идея универсализма в противоположность сектантству свойственна была обеим крылам Римской империи — не только Риму, но и Византии. Кстати, византийцы себя считали и называли „ромеями”.
В порядке драмы отбора и выбора произошло нечто в высшей степени зловещее и мрачное, Секуляризованный Запад, а за ним и радикализм — отбросили мистерию и онтологию христианства, но оставили все наследие рассудочности, законничества и утопии, умудрившись одновременно сообщить этому характер узкого сектантства и насильнической претензии на мировое господство. В результате — революционное подполье с сидящим в нем „черным человеком”, на которого не светит солнце, подполье
79
с пауком-нигилистом, раскинувшим свою паутину по миру.
В наше время можно считать доказанной ту истину, что весь европейский рационализм с идеей закономерности вышел из латинства, в частности из его основного представителя Фомы Аквинского. Рим к этому присоединил идею законничества настолько, что официальное латинское богословие надо считать как бы отделом канонического права.
Но доведенное до конца законничество диалектически превращается в предельные беззаконие и несправедливость. Правды-истины и правды-справедливости (особенно последней) не приходится искать ни у латинства, ни у секуляризованной Европы, ни у российского радикализма тем более. Все рассматривается не с точки зрения истинности, но только исходя из „пользы для дела”, И уже трудно понять, где кончается условная правда и начинается безусловная неправда — настолько они срослись. Вкус к бескорыстному исканию истины оказался почти совершенно утраченным, а в российском радикализме просто предан анафеме — во имя всепожирающего молоха марксистского доктринерства и лжи. „Право и справедливость” представляются не иначе, как в виде принципов готтентотской морали: добро, когда я взял, а зло, когда у меня взяли. Достоевский гениально показал внутреннее сродство двух утопий — социалистической и латинской.
80
Глава 8
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ „СВЯТЦЫ”
Революция самоцельна, „автотелична” (автотелизм — самоцель). Уже одно этой свойство неминуемо приводит к обскурантизму. Последний, в конечном результате, един с нигилизмом, и есть признание бесцельными и подлежащими искоренению всех культурно-творческих устремлений, „Революционная культура” — нонсенс, либо того типа маскарад, про который еще Кант сказал, что „один доит козла, а другой подставляет решето”. В действительности, либо культура уничтожает революцию, либо революция уничтожает культуру. Там, где воцаряется революция как цель — все прочее может быть признано либо излишним, либо вредным. И действительно — революционной интеллигенцией издавна одобрялись и предназначались к сохранению и развитию лишь два резко отрицательных момента народной жизни: бунтарский, элементарно-анархический инстинкт и община.
Первый, оседланный марксистской идеологией, естественно превратился в режим стабилизированного рабского бесправия.
Второй — связан с принципиальным отрицанием хозяйственного творчества, ибо творчество несовместимо с коллективизмом,
81
Все прочее — религия, быт, фольклор, вообще национально-культурное творчество — отвергается. Всюду в настроениях революционной интеллигенции (за редчайшими исключениями) царит худо прикрытое дешевым сентиментализмом и горячечной романтикой презрение к народу, а иногда и прямая ненависть. Но именно у народников и, тем более, большевиков мы видим отрицание народа в его существе, отрицание, соединенное с полным непониманием. (Например, грубое непонимание пресловутым Щаповым сущностного такого явления русской истории как старообрядчество — и сведение его исключительно к социально-экономическим причинам, под чем большевики распишутся обеими руками.)
Параллельно с презрением и худо скрытой ненавистью к народу мы видим необычайное самомнение, а отсюда — и самовозвеличивание, которым радикалы себя ставят в положение существ бесконечно возвышающихся над окружающейся средой. Отсюда та необычайная жестокость, которая отличает многих представителей революционной интеллигенции. Она и породила ЧК и ГПУ.
Самовозвеличение при бездарности — ярко проявилось, например, в образе Рахметова в „Что делать?”. Чернышевский награждает его всеми чертами святости, сам будучи при этом атеистом и рационалистом.
„Да, особенный был этот господин, экземпляр очень редкой породы. И не с тем описывается мною так подробно один экземпляр этой редкой породы, чтобы научить тебя, проницательный читатель, приличному (неизвестному тебе) обращению с людьми этой породы. Твои глаза, проницательный читатель, не так устроены, чтобы видеть таких людей. Их видят только смелые и честные глаза..,” Далее следуют атрибуты не только полубожественные, а прямо
82
божеские: „Ими расцветает жизнь всех: без них она заглохла бы, прокисла бы /.,./, Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало, но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль земли”.
Такое перенесение ценностей сопровождается и стремлением перенести на революционеров мистические атрибуты, для чего нередко пользуются образами, заимствованными из Священного Писания. Казуса ради хочу привести в пример статью в газете „Киевская Мысль” (орган с.-д. меньшевиков) весной 1917 года. Некий журналист Яблочков увидел над головами членов Совета солдатских депутатов огненные языки, которые до того были для него „не более, как легендой”.
Кстати сказать, самообожествление радикалов — неопровержимое доказательство истины, о которой мы уже говорили: атеизм и самообожествление находятся в прямой связи,
...Гоголь в „Переписке с друзьями” видел над Европой „исполинский образ скуки”. Но он, столь зоркий к пошлости, не предвосхитил ее пределов, Не Чичиков, не Собакевич были ее носителями, но люди, заявившие претензию на переустройство общества и на избавление его от „мертвых душ” — сами будучи не только мертвыми, но и духовно растленными душами.
Личина „исполинской пошлости” встает перед нами с неуклюжих и нелепо претенциозных страниц нигилистических мечтаний Чернышевского. Именно эти писания убеждают в том, что утопические фантазии, включая сюда социализм, коммунизм и проч., а также связанное с этим миросозерцание — есть пошлость в основе и по преимуществу, Да и сама „буржуазность” в своей основе есть не что
83
иное как скука стабилизированной революции и пошлость осуществленной утопии.
Ее носители переоценивают призрачные лжеобъекты и рассматривают их как подлинные ценности, делая выводы из несуществующих посылок. Утверждается не сущее.
Рядом с этим — действительно ценное либо намеренно игнорируется, либо обесценивается ложью и клеветой. Субъективное нежелание видеть принимается за действительное несуществование. Отрицается сущее.
На примерах „творчества” радикалов мы видим, что пошлость есть предельное искажение подлинной иерархии ценностей, замена ее ложной иерархией, Пошлость есть недооценка ценного и переоценка ничтожного, Она безнадежна, ибо самодовольна:
Да ты чем полон шут нарядный?
Ах, понимаю, — сам собой.
Ты полон дряни, милый мой.
Но в этом как раз и сущность греха. Пошлость есть конечный плод греха и в то же время его, так сказать, психический тон, его душевное качество.
„Новые” и „счастливые”, самодовольные люди Чернышевского обладают характерным свойством: они вполне отъединены, бессоборны и представляют собой одновременно бескачественные индивидуумы в одиночку и коллектив вместе. То, что как будто соединяет их между собой, есть полное отсутствие индивидуальности, одетая на пустоту личина.
Для подтверждения сказанного вновь предоставим слово самому Чернышевскому:
„Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от задушевного приятеля и не умел сказать о нем ничего такого, чего не надобно было
84
повторить и о Кирсанове /.../. Ну что же различного, скажете вы, в таких людях? (Речь идет о новых людях, нигилистах. — В. И.) Все резко выдающиеся черты их — черты не индивидуумов, а типа, типа, до того разнящегося от привычных тебе, проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные разницы в нем. Эти люди среди них — будто среди китайцев несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайцы”.
Здесь европеизм берется в качестве меры абсолютной ценности, а „китайцы” (т. е. русские быт и среда) являются как символ ничтожества.
„Но как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер, так и в этом, по-видимому, одном типе разнообразие личностей развивается на разности (каков стиль! — В. И.) более многочисленные и более отличающиеся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разнятся между собой”.
Нескладица мысли, ее немощь и невероятная уродливость изложения, образцы которой можно встретить разве у неспособных учеников средних учебных заведений, — идут здесь в полном соответствии с „моралью”,
„Тут есть всякие люди: и сибариты, и аскеты, и суровые, и всякие, всякие, Только как самый жестокий европеец кроток, самый трусливый очень храбр, самый сладострастный очень нравственен перед китайцем, так и они. Самые аскетичные из них считают нужным для человека более комфорта, чем воображают люди не их типа, самые чувственные строже в нравственных правилах, чем морализаторы не их типа. Но все это они представляют себе как-то по-своему: и нравственность, и комфорт, и чувственность, и добро понимают они на особый лад
85
и все на один лад, и не только все на один лад, но и все это как-то на один лад, так что нравственность и комфорт, добро и чувственность — все это выходит у них как будто одно и то же. Но все это опять-таки по отношению к понятиям китайцев”.
Вот как описывает автор зарождение, генезис (вернее, автогенезис, саморождение) единичного экземпляра восхваляемой им породы российских европейцев:
„Рахметов шестнадцати лет приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным, добрым и честным юношей и провел месяца три, четыре по-обыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие, и узнал с пяток имен таких людей — тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомства с кем-нибудь из них („избирательное сродство”. — Wahlverwandschaft. — В. И.).
Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение в особенного человека Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями — проклятия тому, что должно погибнуть, благословения тому, что должно жить”, (Голые эмоции и полное отсутствие мыслящего анализа у нарождающегося „необыкновенного человека”, — В. И.) — „С каких же книг мне начать?” Кирсанов указал.
Он на другой день уже в 8 часов утра ходил по Невскому, от Адмиралтейской до Полицейского моста, выжидая, какой немецкий или же французский книжный магазин первый откроется, взял что нужно, да и читал больше трех суток сряду, — с 11 час. утра четверга до 9 ч. воскресенья, 82 часа, первые две ночи не спал” и т. п.
86
Приведем знаменитый ответ прокурора революционного трибунала Коффинхаля (8 мая 1794 года), брошенный великому ученому Антуану Лорану де Лавуазье в ответ на просьбу отложить казнь на несколько дней для окончания химического опыта: „Республика в ученых не нуждается”.
Так началась революционная республика, и Рахметовы, Кирсановы, Лопуховы и т. д. должны это твердо помнить и не заикаться о „средневековом мраке и ужасе старых режимов”. Впрочем, судьбой науки их не особенно тронешь, ибо научные ценности, за исключением некоторых произвольно выхваченных из контекста и приспособленных к обслуживанию нигилизма, как раз находятся среди числа тех, которым „особенные люди” посылали и посылают проклятья. Один из „панэтических” аргументов радикализма с негодованием приводит знаменитый И, Мечников: „Занятия искусством и наукой есть подлость ввиду бедствий, переживаемых народом”.
Под „бедствиями”, переживаемыми народом, вполне определенно разумеются препятствия, которые чинились (правда, весьма нерешительно) старым правительством на путях грядущего радикалистского закрепощения народной массы.
Идеология общинно-коммунистического крепостничества несомненно вытекает из глубокого презрения к народу, бесконтрольно управлять которым призваны будто бы радикалы. Налицо идеология нового рабовладельчества,
„Несомненно и признано всеми, что невольничество есть самый лучший исход, которого может пожелать цветной человек, придя в соприкосновение с белой расой. Потому что он достается
87
в удел только наиболее развитым и сильным расам” *.
Эта апология рабства на страницах революционно-нигилистического журнала Писарева делается особенно многознаменательной, если мы вспомним:
1) Современное жесточайшее рабство русского народа у коммунистической группы радикально-социалистической интеллигенции;
2) Согласно роману „Что делать?” новые люди-нигилисты стоят в таком же отношении к прочим, как белые к цветным. Едва только освобождены были крестьяне русской исторической властью, как тут же образовался заговор против души и свободы народа — со стороны тех, кто в поистине циничном лицемерии называл себя сторонниками счастья и свободы народной,
Порядок, при котором вершителями судеб являются „новые люди”, — для Чернышевского с эпигонами есть „эсхатология”, „жизнь будущего века”, Все „сны Веры Павловны” в „Что делать?” есть в сущности радикально-утопический апокалипсис и интеллигентское пророчество о „жизни будущего века” в мере, доступной интеллигентскому пониманию.
Известный арх. С. Бухарев и вслед за ним Н, А. Бердяев считают „Что делать?” Чернышевского — истино христианской книгой. Такое мнение могло образоваться у этих несомненно добросовестных публицистов только благодаря либо поверхностному знакомству с „романом”, либо скорому его забвению — чего он, впрочем, вполне заслуживает.
Проследим то, как представляет себе Чернышевский „жизнь будущего века” — социалистический рай с господствующими в нем особенными людьми,
* „Библиографический листок” в „Русском Слове” за 1864 год.
88
„Они входят в зал. Опять такой же громаднейший великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр, ах, вот что... В куполе зала большая площадка из матового стекла, — из нее льется свет, конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, мягкий и яркий, — ну да это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. „И бывает, когда приезжают гости, — говорит светлая красавица, — бывает и больше”. Так что же это? Разве это бал? Это разве простой будничный вечер? Конечно. А по-нынешнему это был придворный бал, так роскошна одежда женщин. Да другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки. Да они дурачатся, шутят над своим костюмом. На других другие, самые разнообразные костюмы разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего, но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин, а на мужчинах тоже: широкое длинное платье без талии, что-то вроде мантий /.../, видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно, как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений. И какой оркестр, — более ста артистов и артисток, но особенно какой хор! „Да у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном зале найдешь целую сотню и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше и голос лучше”, — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и хоре
89
беспрестанно меняются, одни уходят, другие становятся на их место, они уходят танцевать, они приходят из танцующих,
У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют, Шумно и весело в громадном зале, а где же другая половина? Где другие? Говорит светлая царица: „Они везде, многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому. Иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеках, иные в аллеях сада, иные в своих комнатах или, чтобы отдохнуть наедине или со своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна...
Ты видела в зале, как горят щеки, как блестят глаза, ты видела они уходили, они приходили. Они уходили — это я увлекла их, здесь комната каждого /,„/, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна, они возвращаются, — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я”,
Псевдоним „светлая царица” ныне раскрыт: это не кто иной, как товарищ Коллонтай, На петербургских „танцульках” времен медового месяца революции и господства „красы и гордости” комнаты заменены были одной общей с занавесью, отделявшей железные кровати. „Вспомним и нижнее белье из белого холста, „которое раз в месяц моется мылом и щелоком” и играет роль недосягаемого идеала в утопическом „государстве Солнца” усердного католика Томмазо Кампанеллы, „Солнце этого государства” того же порядка, что и „электрическое солнце” на вечерах Веры Павловны. Какая все это смертельная и поистине адская скука!
Что же за музыка исполняется под таким солнцем? На этот вопрос мы тщетно будем искать ответа
90
у Чернышевского и ему подобных. Души их глубоко враждебны музыке и следовательно враждебны русской народно-национальной душе, прежде всего певучей и поющей. Ни Диониса, ни Аполлона нигилисты не пощадили...
Конечно, нужны долгие усилия специфической дрессировки и самоугашения духа, чтобы дойти до эсхатологического идеала в форме сочетания танцульки с домом терпимости. Нечего сказать, широки натуры, так понимающие христианство! Не мешает им сузиться — хотя бы по этому щекотливому пункту.
Роман „Что делать?” поучителен тем, что показывает внутреннее сродство утопизма с мещанством, абсолютизирующим ценности относительные (экономизм, цивилизация) и профанирующим абсолютные (религия и культура),
Чернышевский сознает заслуги „золотого тельца” по опошлению и обездушению мира и воздает деньгам (в лице сэра Бьюмонта и купца Полозова) должное поклонение. На страницах „романа” мы имеем настоящую американскую, крикливо бездарную рекламу для фирмы „Ходчсон и К°”, сочиненную автором „Что делать?”, который бойко уверяет читателя по-коммивояжерски, что фирма „очень солидная” и что не надо ждать „никакой катастрофы”, Далее из сцен сватовства, свадеб и гуляний оказывается, что от „сознательного нигилизма” до стиля Чарской, Вербицкой, Нагродской и Лаппо-Данилевской — один шаг.
Идеология, развиваемая автором „Что делать?”, могла явиться результатом только страшной духовной деградации или, как говорил Н, Н, Страхов, „остановки развития”.
Такая остановка прежде всего проявляет себя в виде дилетантской некомпетентности во всех сфе-
91
рах вообще и в сфере наук о духе в особенности. К воспитанию именно таких, духовно инфантильных людей и стремится советская педагогика, Но корнями своими она уходит в эпоху общего нигилизма, ее отцом надо считать Н. Огарева с его программой: „Ecole Polytechnique Populaire”.
План „Народной Политехнической Школы”, о которой идет речь, послан был Огаревым Грановскому и Коршу в 1847 году.
Курс разделен на 4 года, У Огарева так же, как у современных коммунистов, главная цель „науки” и „обучения” была чисто отрицательной: борьба с религией и национальной культурой. Любопытна деталь программы первого года. „1-ый год. 2 первые месяца грамота по методе Жакото: ученик учится считать по пальцам и по счетам и писать цифры. Читать он учится печатное по гражданским буквам.
Церковной печати он вовсе не учится”. (Курсив мой. — В. И.) *
... В указанной педагогической системе антицерковность и антинационализм лежат в основе как целей, так и средств. Придя к власти, большевики осуществили приведенную программу лишь во всероссийском масштабе и на принудительных началах. „Реализм” приведенной системы не должен нас соблазнять. Немного позже Писарев раскроет сущность этого реализма. Последний — даже не материализм, а скорее аномистический низменный утилитаризм, имеющий в виду отнюдь не сферу практической полезности (последняя является лишь орудием соблазна, которое тщательно оберегают от рук соблазняемого). Нападениям Писарева подвергаются, главным образом, гуманитарные знания и искус-
* См. у М. Гершензона „История Молодой России”. М. 1908, сс. 279-288.
92
ства, Писарев говорит: „Я не могу, не хочу, не должен” быть ни Рафаэлем, ни Гриммом, ни в малых, ни в больших дозах” *.
К этому выразительному и несомненно программно-политическому заявлению остается прибавить, что желание как самого Писарева, так и его наследников XX в., искореняющих гуманитарные знания и подлинное искусство, осуществились в размерах еще значительно больших.
В этом смысле сам Писарев, можно сказать, фигура символическая: филолог по образованию и без какого бы то ни было естественно-научного стажа он занимался „популяризацией” естественных наук, заменяя знания бойкостью пера, и положил начало целому поколению Рубакиных и Серафимовичей, столь же бесполезных для народа, сколь бессмысленных для науки.
В России, начиная с 60-х годов, появилась целая генерация студентов, враждебных науке и, к сожалению, составлявших, основную массу студенчества, Про нее Менделеев сказал грубо, горько, жестко, но совершенно верно, что эта студенческая масса — не что иное, как нечистоты **, плавающие на поверхности русской науки.
Бесполезность „особенных людей” в науке быстро переходит во враждебность и противопоставленность, особенно в сфере методологически-теоретической. Текучесть научного метода и прогрессивное расширение кругозора, совершенствование наблюдения и вычисления, наконец, открытие новых объектов, даже целых миров, о существовании которых раньше не подозревали (напр., внутри-
* „Русское Слово” за 1864 г., август.
** Менделеев употребил более краткое и решительное слово.
93
атомный мир, метапсихика, подсознание и т. д.), — всему этому противостоит застывший и косный лжедогматизм интеллигентской доктрины. Основа этой доктрины — произвольно и тенденциозно выхваченные и обезображенные фрагменты лишь одной излюбленной эпохи в истории наук — конец XVIII — начало XIX столетия. Эти фрагменты к тому же истолковываются в смысле коллективистической морали да еще при господстве неуклюжей пародирующей кантианскую мораль псевдокатегории „долженствования”.
Про искусство и философию и говорить не приходится, ибо в них по самому их существу гораздо легче вносить элемент субъективно-психологический — что вовсе не означает права на его господство. Искусство и философия в известном смысле, пожалуй, еще более объективны, чем так наз. точная наука. Однако чудовищный психологизм и целые горы лживого словесного мусора накоплены здесь революционной интеллигенцией.
Психологизм в миросозерцании революционной интеллигенции двухсторонен, С одной стороны, — и об этом мы уже отчасти говорили — он представляется в виде дегенеративного возвращения к дофилософской форме скептицизма. Скептицизм этот самодурно и некритически отвергает все психологически „нежелательное” — ради столь же некритического утверждения психологически „желательного”, которое, в свою очередь, объявляется обязательным (т, е. субъективно-психологические измышления в принудительном порядке постулируются как имеющие „объективную ценность”).
С другой стороны, мы видим своеобразную лжерелигиозную установку и даже целую попытку лжерелигиозного культа по отношению к этим божкам, идолам, во имя которых свергаются подлинные
94
небожители. Торжествует мещанство. Д. Писарев совершенно откровенно связывает нигилистический скептицизм с эвдемоническим благополучным мещанством, происходит зарождение скептического революционного буржуа.
„Хорошая доза скептицизма, — утверждал Писарев, — всего вернее пронесет вас между разными подводными камнями жизни и литературы, Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой добродушной натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжелым для других и приятным для самого себя. Жизненные переделки достанутся легко, разочарование будет невозможно потому, что не будет очарования. Падения будут легкие потому, что вы не будете забираться на недосягаемую высоту идеала. Жизнь будет не трудна, а наслаждением, занимательной книгой /„./”.
Это по части житейской „мудрости”. Ее носитель несомненно обладал хорошим пищеварением, но с головой дело обстояло значительно хуже, что видно из его отношения к философии.
„Философские вопросы, — говорит Писарев, — останутся непонятными для человека, одаренного простым здравым смыслом и непосвященного в мистерию философских школ: это обстоятельство, как мне кажется, служит самым разительным доказательством незаконности или, вернее, полнейшей бесполезности подобных умственных упражнений”.
Отвергнутый Д. Писаревым Пушкин несомненно очутится э более чем хорошем обществе: его собеседниками на этих своеобразных „духовных Соловках” будут Платон, Аристотель, Гегель и прочие мудрецы, оказавшиеся не по плечу компании умных гимназистов, задумавших перестроить мир. Все это находится в полном согласии с популярным некогда, например, проф. Троицким, посылавшим „в печь,
95
как дрова”, Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте и для которого древняя философия была лишь „доказательством человеческой глупости”,
Этот образ мыслей во многом поддерживает и ученик проф. Троицкого, небезызвестный историк и политик П, Н. Милюков.
Кстати, о философии истории. По этой части у интеллигенции тоже все обстоит чрезвычайно просто и не вызывает необходимости мобилизовать умственные силы, впрочем отсутствующие.
„Чем же был убит древний мир? — спрашивает Н. Чернышевский и тут же храбро отвечает. — Мы прямо говорим, исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура, Тут ни более ни менее как погибель страны от наводнения. Никакой внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была светла, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи такая же геологическая катастрофа, как и погибель Геркулана и Помпеи”,
Как ни вздорно и ни живописно для самого Н. Чернышевского такое заявление, можно, однако, сказать, что в одном только случае подобного рода рассуждения уместны: именно когда речь идет о гибели культуры от нашествия внутренних варваров, представителем которых является Чернышевский и его последователи. При таком культе упрощенной мысли или, вернее, полного бессмыслия, при отрицании художественного и философского творчества совершенно естественной оказывается по отношению к культуре в целом политика калифа Омара, Для начала орган революционно-нигилистической интеллигенции „Русское Слово” еще в 60-х годах предлагает наложить вето на мысль и на печатное слово, утверждая, что все, что нужно, — уже сказано и напечатано,
96
„В конце прошедшего и в начале нынешнего столетия было так сильно умственное движение, явилось столько новых идей и обновленных теорий, что для практического их применения, даже хоть наполовину, нужно, пожалуй, не один и не два века”.
Сказать что-нибудь новое по общественным вопросам теперь трудно: запас заготовленных идей велик, его хватит для популяризации на двести, триста, а то и больше лет. Имена деятелей, прокладывавших дорогу в деле мысли, известны все наперечет, — их не много, о чем же хлопоты, о каком новом еще говорят, когда из задуманного не сделано и десятой доли? Разрешать новые вопросы? Да какие?
Из сказанного видно, что выражение Достоевского „готовые идейки” — вовсе не выдумка автора „Бесов”: они всерьез применялись теми, кто послужил моделью для гениального русского писателя. И становится ясно, кто же на самом деле в действительности щедринский майор Прыщ, любивший говорить: „Так наз. вопросов не понимаю и не понимаю, зачем их нужно понимать”. Один из героев малоизвестной пьесы Гоголя „Театральный разъезд после представления новой комедии”, крупный чиновник говорит: „Я бы запретил писать. Просвещением пользуйся, читай, но писать не смей”.
Правда, подобное высказывание уместнее переадресовать сегодняшним правителям советской России, ибо если уж говорить о врагах прогресса и просвещения, так это они, а не мягкотелое старое правительство.
Продолжим чтение вышеупомянутой статьи Г. 3, в „Русском Слове”, столь хорошо и откровенно обнажающей суть любви к просвещению революционной интеллигенции.
„Не мешало бы, — пишет Г, 3,, — порастрясти нашу журналистику, разъяснить принципы устремле-
97
ния каждого издания, указать цель, которую преследует каждый журнал и газеты. Пусть только и живут на свете такие журналы, около которых как известных органов должны группироваться люди известного и определенного образа мысли”.
Немного выше Г, 3, с негодованием спрашивает о том, зачем в России издается до 200 журналов и газет? Действительно, несчастье для тех полицейских тисков по отношению к слову и мысли, о которых мечтала революционная интеллигенция. По этому поводу Н. Н. Страхов иронически спрашивает: „Но как же быть? какие средства можно употребить против этого зла? Хорошо было Омару: он был калиф и распорядился очень просто — приказал сжечь негодную библиотеку, А мы что сделали? Признаюсь, я с недоумением и страхом следил за мыслями разбираемой статьи и ждал рокового решения, И действительно, решение хотя никак не могло совпасть с Омаровским, сильно напоминает его”. Совпасть вполне с решением Омара решение интеллигента Г, 3. не могло по той простой причине, что на страже свободы печати стояло правительство, которое по совершенно верному выражению одного из авторов „Вех” — охраняло культурный слой. Однако когда власть перешла к людям породы сотрудников „Русского Слова” и „Современника”, было не только принято, но исполнено Омаровское решение — да еще с неожиданным избытком: вместе с библиотеками, неугодными красному корану, были уничтожены и сами авторы — чего, как известно, Омар все же не делал,
Чтоб не быть голословными, приведем фрагменты из „Революционного Катехизиса” Нечаева-Бакунина, который кстати сказать, использован в „Бесах” Достоевского: Петр Верховенский и Шигалев моделированы несомненно по этому Катехизису.
98
§ 1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. (Здесь и далее курсив мой. — В. И.) Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
§ 2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общественными условиями и нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если бы он продолжал жить в нем, то для того, чтобы вернее разрушить его.
§ 3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину.
§ 4. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность, Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все то, что помешает ему.
§ 6, Суровый для себя, он должен быть суровым и для других, Все нежные и изнеживающие чувства дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела,
§ 7. Революционная красть, став в нем обыденностью, ежеминутно должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции,
§ 10. У каждого товарища должно быть под ру-
99
кой несколько революционеров второго и третьего разряда, т. е. не совсем посвященных.
§ 15. Все это поганое общество (речь идет о всех сословиях, Церкви и правительстве, — В. И.) должно быть раздроблено на несколько категорий: 1-ая категория неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела так, чтобы предыдущие нумера убрались прежде последующих.
Этот текст — вершина революционного пафоса: идеология целиком вошла в тактику и силою исторических судеб осуществлена и проведена до конца.
... Все то, что не укладывается на прокрустово ложе мещанства и коллектива, третируется равно мещанами и коллективистами-интеллигентами как отсталое, нецивилизованное и подлежащее искоренению в порядке „просветительства” и „прогресса”.
Этот мещанско-интеллигентский симбиоз находит свое выражение в некоторых образах такого крупного таланта как Чехов. Парадокс Чехова в том, что непосредственная сила дарования и высокая культура слова поднимают его над интеллигентщиной и мещанством. Но зловещее брожение, которое мы наблюдаем на страницах его произведений в конце концов вызывается сочетанием двух начал: гоголевский „мертвый взгляд” на живую Россию и признание ее „Адамовой Головой” (caput mortuum) — и апофеоз интеллигентско-мещанского утопизма („когда через триста лет...” и т. п.). Все это особенно четко выступает в символике „Вишневого сада”, где удивительным образом соединяются художественная техника, высокая культура, объективное мастерство — с явной и ничем не прикрытой тенден-
100
цией, за которую с таким упоением хватались наши интеллигенты.
Героями знаменитой пьесы Чехова в конце концов оказывается выживший в происшедшем культурном катаклизме буржуа Лопахин и интеллигент Трофимов, „облезлый барин” и „вечный студент”, Налицо знаменательное и знакомое уже сочетание темной злой элементарной духовности с развоплощенной, слабосильной и нетворческой душевностью.
Чехов оказался не только художником-экспериментатором, но и в значительной степени фактором болезни того социального тела, которое он же изобразил с таким несравненным мастерством.
Когда, например, проф. Овсяннико-Куликовский пишет, что „от „Мертвых душ” до „Вишневого сада” не прекращались поэтические похороны старой барской России (курсив мой. — В. И.) и не смыкались, хотя и затуманивались порою, очи, устремленные вперед в будущее России, которое могло пониматься весьма различно, но, во всяком случае, представлялось чем-то по существу отличным от старой барской Руси, основанной на крепостном праве и его пережитках”, — то под благовидным предлогом „крепостного строя”, который будто бы составлял суть барской (т. е. в конце концов культурной) Руси — отрицается на самом деле сама субстанция наших культуры и бытия. Оказывается, что вся литература до „Вишневого сада” включительно — есть протест против пережитков крепостничества и „похороны старой России”.
Идеи „новой жизни” здесь, как и в „Что делать?”, обозначаются ясно: на месте „Вишневого сада” (России) „настроим мы дач”, и „наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь”. Конечно, в конце концов и „новой жизни” не сдобровать.
101
„Красота” и „поэзия” вещей, — утверждает Овсяннико-Куликовский, — уходят вместе с классом, для которого эти вещи были ценны”. Такая относительность, такой релятивизм сулит мало доброго и для лопахинско-трофимовских „дач”. Зло само себя поедает. А вечный студент Трофимов и его верный идеолог проф. Овсяннико-Куликовский только по видимости поддерживают друг друга. В действительности же они оба все глубже и глубже погружаются в ту серую бездну смерти второй и окончательной, в которую они хотят заманить снобов и простаков, описывая ее как „новую жизнь” и „красоту”.
102
Глава 9
ДВЕ БОЛЕЗНИ РУССКОЙ ДУШИ
В нараставшей революции — помимо претворения в жизнь марксистской утопии — выявились еще и иные силы: злая скопческая антитворческая духовность и хлыстовская истерическая эмоциональная душевность. Эти полюса революционного обскурантизма давно были выявлены корифеями русской литературы во главе с Достоевским. Здесь надо заметить, что источники этого обскурантизма вкоренены в темной падшей стороне народной души и вообще души человеческой.
Вспомним инока Ферапонта в „Братьях Карамазовых” Достоевского. В данном случае нас интересует хлыстовская „прелестная” лжемистика Ферапонта, которая становится настоящей разрушительной силой и играет несомненно радикальную роль по отношению к миру подлинных высших духовных ценностей, представленных старцем Зосимой. Любопытно при этом, что Ферапонт здесь как бы является „консерватором”, отстаивающим „исконные начала” против якобы „проклятого новшества” — старчества. В действительности же, Ферапонт типичный ретроград и мракобес того характерного типа, где от „черного” до „красного” один шаг, он — черный, национальный революционер.
103
Обратимся к бреду Ферапонта. Здесь в творении Достоевского важны каждый штрих, каждое слово, каждая интонация. Все здесь полно смысла и все указывает на такие стороны коллективно-хлыстовской бездны, которые вполне созвучны „агитатору”, „рассуждателю”, „идеологу” и „интеллигенту”.
„ — А чертей у тех видел? — спросил отец Ферапонт.
— У кого же у тех? — робко осведомился монашек.
— Я к игумену прошлого года во святую Пятидесятницу восходил, а с тех пор и не был. Видел, у которого на персях сидит под рясу прячется, токмо рожки выглядывают. У которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится. У которого во чреве поселился, в самом нечистом брюхе, а у некоего так на шее висит, уцепился, так и носит, а его не видит.
— Вы... видите? — осведомился монашек.
— Говорю вижу, насквозь вижу. Как стал от игумена выходить, смотрю — один за дверь от меня прячется, да матерой такой, аршина в полтора али больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади, а я не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвост-то ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знамением, да трижды, — закрестил. Тут и подох, как паук давленный. Теперь надоть быть погнил в углу-то, смердит, а они не видят, ни чухают. Год не хожу. Тебе лишь, как иностранцу, открываю *.
* Стоит заменить „чорта” „помещиком”, „буржуем”, „социальной неправдой”, а „игумена” „кровавым царизмом” и „черный Ферапонт” моментально превращается в красного радикала.
104
— Страшные словеса ваши... А что, великий и блаженный отче, — осмеливался все больше и больше монашек, — правда ли, про вас великая слава идет, даже до отдаленных земель, будто со Святым Духом беспрерывное общение имеете?
— Слетает, Бывает.
— Как же слетает? В каком виде?
— Птицею.
— Святый Дух в виде голубине?
— То Святый Дух, а то Святодух. Святодух иное, тот может и другою птицею снизойти: ино ласточкой, ино щеглом, а ино и синицею.
— Как же вы узнаете его от синицы-то?
— Говорит.
— Как же говорит, каким языком?
— Человечьим.
— А что же он вам говорит?
— Вот сегодня возвестил, что дурак посетит и спрашивать будет негожее. Много, инок, знать хочеши.
— Ужасны словеса ваши, блаженнейший и святейший отче, качал головой монашек. В пугливых глазках его завиделась, впрочем, и недоверчивость.
— А видишь ли древо сие? — спросил, помолчав, отец Ферапонт.
— Вижу, блаженнейший отче.
— По-твоему, вяз, а по-моему, иная картина.
— Какая же? — помолчал в тщетном ожидании монашек.
— Бывает в нощи. Видишь сии два сука? В нощи же и се Христос руце ко мне простирает и руками теми ищет меня, ясно вижу и трепещу. Страшно, о, страшно!
— Что же страшного, коли сам бы Христос?
— А захватит и понесет.
— Живого-то?
105
— А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли? Обымет и унесет /.../”.
Хотя большинство персонажей Достоевского — суть эманации его могучего и сложного духа, в приведенном отрывке нельзя не признать почти „стенографический отчет” действительно подслушанной беседы. Все, кто встречались с лицами, подобными Ферапонту, немедленно должны признать подлинность, аутентичность этой беседы. Любопытно, что подобные Ферапонты всюду и всегда — на один манер и так же, как социальные утопии, отличаются „удручающим однообразием”. Ложная самозванная мистика — а Ферапонт типичный самозванец мистики — так же, как и рассуждальчество кустарного, позитивистского рационализма, обладают несколькими весьма немногочисленными и бедными трафаретами, которым эти несвободные рабьи души должны следовать — как на поводу у какой-то издевающейся над ними злой силы. То, что объединяет ложных мистиков и рассуждателей всякого рода с революционерами, есть именно типичная и, можно сказать, универсальная для зла лжекатегория самозванства. Ферапонт — типичный самозванец, И он вынужден признать свою словесность откровением не „Духа в виде голубине”, но „Святодуха”, появляющегося в виде „щегла”, „синицы” и т, д., — словом, в виде оборотня. К этому надо прибавить, что „Святодух” оборачивается не только щеглом и синицей, но и самим Ферапонтом,
Оборотничество Ферапонта ставит даже под сомнение его личность, т. е, существование у него подлинно духовного бытия, духовной жизни. У Ферапонта „плотское мудрование” восстало против подлинного богословия.
Люди, подобные Ферапонту, — с точки зрения христианской философии, — одержимы бесом. Фера-
106
понт вполне себя показал в момент смерти старца Зосимы, когда в „Святодухе” до конца раскрылась сущность безлюбовной самозванной лжемистики: страшная всепоглощающая зависть (фарисейско-саддукейская зависть).
„ — Над ним заутра „Помощника и Покровителя” станут петь, — канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь „Кая житейская сладость” — стихирчик малый, — проговорил он слезно и сожалительно. — Возгордились и вознеслись, пусто место сие! — завопил он вдруг, как безумный, и махнув рукой быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз”.
Ферапонт завидует решительно всему: он завидует учености монастырской администрации, завидует славе старца Зосимы, завидует его священному сану иеромонаха, завидует тому, что над ним будет отправлен чин погребения иерейского. Весь способ его действий, все его поведение в монастыре после кончины старца Зосимы, все его поистине бесовское злорадство по поводу „тлетворного духа” не оставляет сомнения в том, что представляет его душа и к какой категории бесплотных существ должна она быть отнесена. „— Нечистого изгоняешь, а может быть, сам ему же и служишь”, — этими словами о. Паисия сказано все и определена сущность лжемистических оборотней, подобных „Святодуху” Ферапонту *.
Что еще особенно знаменательно, так это какая-то исчерпываемость личности Ферапонта. Человеческая же личность — бездонна; человеческой душе „нет пределов”, как выразился Гераклит.
* Слова о. Паисия приобретают особый вес, когда в бреде Ивана Карамазова черт сознается в том, что он автор „тлетворного духа”.
107
И только у „бесов”, таких как Петр Верховенский, Шигалев, Ракитин и „Святодух” Ферапонт все до ужаса ясно и пределы вполне очерчены. Злые духи и те, кто им служат, вполне конечны и имманентны. Все это давно было подмечено представителями профетизма русской литературы, среди которых, кроме Достоевского, надо еще назвать Лескова, К. Леонтьева и, к сожалению, малоизвестного и затравленного „общественностью с направлением”, но очень талантливого Случевского, не говоря уж о Фете. Давно уже были явлены и обличены и „умный гимназист”, решивший перестроить „землю”, и святодух, заявивший претензию на „небо”, поставивший свой мистический, вернее мистификаторский бред против истин вечного бытия. Мы уже говорили, что корни этой разрушительной пары позитивизма и ложной мистики коренятся в болезненных глубинах духа и там явлены как сопряженная пара — скопчество и хлыстовство, хотя и диаметрально противоположные по устремлениям, но несомненно единые по корню. Скопчеству соответствует „умный гимназист”, он же Ракитин, он же Петенька Верховенский, он же и Смердяков, Хлыстовству соответствует „Святодух”, Он же Ферапонт, он же герой „Суходола” и лукавый „Божий мужичок” Бунина, он же столяр в бесподобном „Серебряном голубе” Андрея Белого.
Революция соединила эту пару таким образом, что под „Святодухом” пошли все утробные разрушительные и хаотические темные народные страсти, а „умный гимназист”-интеллигент сосредоточил в себе рассудочное разложение и умничающее фарисейство, т. е. „дух самоуничтожения и небытия”,
В „Серебряном голубе” Андрея Белого показано это сочетание ложной мистики и рассудочного нигилизма, подчас приводящее к полному атеизму. Мед-
108
ник Сухоруков, принадлежащий к общине хлыстов и оказавшийся палачом Дарьяльского, — совершенный атеист и вдобавок ко всему убежденный сторонник „обезьяньей гипотезы” происхождения человека, Человек для него лишь ком живой материи и поэтому убить его ничего не стоит, если этого требуют интересы организации, в данном случае хлыстовского „корабля”,
Здесь для сравнения не мешает упомянуть о древней магометанской секте ассасинов, в которой извращенная лжемистика уродливо перелилась в полнейший материализм — атеизм и культ партийно-подпольного убийства и притом в такой степени, что само имя ассасинов стало нарицательным и употребляется для обозначения убийц вообще (assassin— убийца).
„Все это быстро теперь пронеслось перед Петром, когда он издали разглядывал медника. Вон значит, кого он все ждал: вон он кто, этот четвертый. Только какие же у него могли с этим медником произойти приключения? Да и к тому же вовсе он не похож на четвертого: весь-то он из себя никакой — нулевой.
С диким смехом Петр поднял чайник:
— Выпьем, Евсеич!
— За Ваше здоровье... /.../
— Видит Бог, што ефтат твой с купцом паступак церкве нашей дело угодно.
— А ты зубы-то не заговаривай: кака там церква...
Прилетела желтая муха и села на нос к столяру.
— Да ведь тах-та ано, без церквы, оно грех, то оно и по всякому выходит, что грех...
Столяр согнал муху: она описала круг и мертвенно уселась на скатерть, обтирая ножками поганое, желтое брюшко.
109
— Ну, вот: нашел с чем равнять, са смертаубййством»
— А то разве не убийство? Да ты не дыхай: грехато ведь нет.
— Как нет?
—Да так: ведь-то все адна бабья рассказня, а муху-то ты придави, ана трупная,
— Да што же есть, кали и греха нет?
Трупная муха снялась и улетела.
— Да ничаво нет...
— А он, праведно судящий на небеси?
— Чево-сь?
Муха села на палец Дарьяльскому.
— Ты уж меня не учи: я ведь умней сибя не встречал, уж ты мне поверь: ежели грех есть, то касательно Луки Силыча травления ты, почитай, супостат явный. Уж я это тебе аткрываю по дружбе: и церквой ты не пакрывайся, только — греха нет: ничаво нет — ни церкви, ни судящего на небеси.
— Да постой...
— А чаво мне стаять: как я ему всыпал, так вот и понял, што и нет ничаво, хоть шаром покати, адна пустота. Што курятина, што человеческое естество — плоть единая, непрекославная /.../”.
Глубина приведенного отрывка особенно в том, что здесь показано, как могут быть соединены необычайная гордыня („я умней себя человека не встречал”), циничный рационализм, житейская ловкость и пронырливость — с тупой бездарностью и ничтожеством. Медник Сухоруков, с одной стороны, органически связан с компанией „святодухов”, с другой, — он убийца, новый Смердяков, радикалразночинец”.
Сухоруков — плод отрицательной народной стихии, окраска его — нейтральная, даже „нулевая” —
110
со способностью принимать любые окраски. Чекистом ему стать, пожалуй, легче всего.
Стихия дионисийства противостала Логосу и освещающему, приводящему в состояние совершенства Духу Святому — истинному и подлинному. Это противостояние приводит не только к извращению культуры и к появлению ложных ценностей и миражей, порой обольстительно соблазнительных, — но и порождает искажение и деградацию человеческого лика и даже человеческого типа.
Ибо надо помнить, что хотя платоновская идея человека есть образ вечный и неизменный, но эмпирический человек есть категория текучая и подвижная: от зверя к образу Божию и от образа Божия к зверю.
... С нарушением законов объективного познания необходимо водворяется лжеиерархия, возникают многочисленные и разнообразные смещения и извращения в мире этическом. Священное Писание и святоотеческая литература свидетельствуют о том, что христианство есть откровение абсолютного знания в связи с совершенной любовью и что христианская мораль есть вывод или следствие этого знания, вернее один из ее аспектов. Отсюда яростные атаки радикалов как на объективное независимое знание, так и на религиозную, главным образом, православно-христианскую догматику.
Но ведь догматике, выражающей в откровенных символах онтологическую неисчерпаемость трансцендентного бытия, — в объективной науке соответствует бесконечность свободно исследующей мысли. Аналогичные рассуждения можно приложить и к художественному творчеству. Христианство не боится свободы, свободы мысли и творчества: „Должно быть и разномыслиям (ересям) между
111
вами, дабы открылись искуснейшие”, — говорит ап. Павел, выражая одну из сокровенных идей христианства. Рационалистической тупости радикала и истеричности „Святодуха” противостоит эта христианская идея творческой духовной свободы.
Дионисийское и опьяняющее стремление народа к земле в основе своей носит не экономический, но природно-религиозный характер (первые земледельцы, в сущности, были жрецами, питавшимися от жертв, приносимых Матери-Сырой Земле).
Христианство — через освящение „начатков” плодов и овощей, но более всего через евхаристическое пресуществление хлеба и „плода лозного” — культ земли одухотворило. Но „Святодух” восстал против этого и пошел наперерез пути, ведущему ввысь от земли к небу, имитируя и профанируя подлинное таинство Евхаристии на хлыстовских пирах и радениях (вплоть до карикатуры на Вечерю Любви и таинство Евхаристии — ср. нигилистическое собрание „У наших” в „Бесах” Достоевского).
Радикализм же стихийно-религиозную тягу к земле превратил в демагогический и самочинный лозунг „Земли и Воли”, присоединив к этому „в борьбе обретешь ты право свое”. И под этим флагом был поднят тот поход на культуру, который именуется революцией.
Перед нами статья Чернышевского „Экономический вопрос (по Миллю) ”. В этой статье Чернышевский бросает упрек ученым (до Лейбница включительно) за то, что они не занимаются „усовершенствованием земледелия”. Любопытен вывод:
„Что у кого болит, тот о том и говорит, кто чем не беспокоится, тот о том и не думает. Те классы,
112
интересы которых до сих пор выражала наука, не нуждаются в хлебе”.
Столь типичная для радикальной мафии так наз. классовая точка зрения на науку и отрицание ее объективности ясно определились в этой тираде. Когда с приходом к власти последователей Чернышевского голод в России стал способом управления наряду с цензурой и террором, — мы видим подлинную „заботу” их о „земле и воле”.
Но, кажется, ни от кого не доставалось столько науке и искусству, сколько от Писарева („Русское Слово”, 1864 г., август) :
„Ученые работы Гриммов громадны, но приносят ли они какую-нибудь действительную пользу хотя одному живому человеку в мире? Мне кажется, что на этот вопрос можно смело и решительно отвечать: нет, Гримм то же самое, что Рафаэль, за которого Базаров гроша медного не хочет дать: Базаров выражается резко, но мысль его вполне справедлива. Я желал бы быть лучше русским сапожником или булочником, чем русским Рафаэлем или Гриммом. Каждый Рафаэль обожает свое искусство и каждый Гримм свою науку, но ни тот ни другой не знает и не задает себе убийственного вопроса зачем? Я имею несчастье задавать себе этот вопрос, и когда прикладываю его к деятельности Рафаэлей и Гриммов, то не нахожу на него ответа. Поэтому я не могу, не хочу и не должен быть ни Рафаэлем ни Гриммом — ни в малых ни в больших дозах”.
К этому выразительному и несомненно программно-политическому заявлению остается прибавить, что Писарев зря отказывался: стать Рафаэлем или Гриммом ему никак не „грозило” — „ни в малых ни в больших дозах”. И из последовавших за ним „умных гимназистов” не вышло не только Рафаэлей и Гриммов, но и сапожников с булочниками. В об-
113
ласти ремесла они оказались столь же ничтожны, как и в области творчества.
Скептицизм в том виде, как его практиковали нигилисты, не есть результат философского разочарования в познавательных силах человеческого духа, но наоборот — стремление зачеркнуть все ценное, стремление оскопить творящий дух и поставить на его место аккуратно скучный рационализм Милюкова и К°.
Меткую характеристику скептицизму дает Г. Г. Шпет:
... Самые розыски (нигилистами. — В. И.) в чужой творческой душе лишены остроты наблюдений и ведутся под скучным флагом „полезности” и благонадежного служения „страждущему народу”. Вопль об обмане „народа” наукой — томительный. Но, пожалуй, в этой томительности высшая и единственная форма скептического идеала „безмятежности”.
Безмятежность, о которой говорит Шпет, свойственна Писареву и всей линии радикальных поколений от него пошедших вплоть до большевиков. Все они чрезвычайно довольны собой и каждый из них готов повторить вместе с медником Сухоруковым: „Я умнее себя человека не встречал”. Даже на реальное знание в самом узком значении этого слова радикальная интеллигенция смотрела с точки зрения его значения для обоснования того специфически убогого миросозерцательного кругозора, который она признавала для себя желательным и для других обязательным. При таких обстоятельствах настоящие ученые и особенно настоящие философы могли быть только помехой. Этого не скрывали и сами революционеры, причисляя ученых к своим врагам. „Народ простой надувают, соки последние выжимают”, — говорит один такой тип у Чехова,
114
„тупо глядя в тарелку”. Научной иностранной терминологией левая интеллигенция прикрывала свое полное дилетантство.
Характерны перипетии войны нигилизма с наукой еще задолго до революции. Они лишний раз показывают, что террористическое иго красного обскурантизма и его цензуры тяготело над духовной работой русского народа даже тогда, когда революционная мафия была далека от власти. В качестве примера можно привести борьбу талантливого проф. П. Д. Юркевича с материализмом идиотического и бездарного Чернышевского. Помимо статьи „Из науки о человеческом духе”, направленной против статьи Чернышевского „Антропологический принцип философии” (рабское подражание Фейербаху), проф. Юркевич прочел еще десять публичных лекций в Москве в 1863 г., посвященных опровержению материализма. Несмотря на строго теоретический и выдержанно научный характер этих лекций, на него посыпались инсинуации газет так наз. прогрессивного направления. После пятой лекции он получил анонимное письмо, заключавшееся следующими словами:
„Имею честь предупредить Вас, м. г., что если в следующих лекциях Вы не оставите цинизма, не будете с достоинством относиться к материализму, то услышите не шиканье, а свистки. Но еще лучше сделаете, если сознаете свое бессилие и прекратите лекции, чем избавите публику от большого заблуждения, а себя от обидных подозрений” *.
* Цит. у проф. М. М. Ершова „Пути развития философии в России”, Владивосток, 1922 г., с. 25. Впоследствии оказалось, что автором письма был некий А. Рогов, никому неизвестное ничтожество, но несомненно „умный гимназист” или „прогрессивный студент”. Проф. П. Д. Юркевич должен
115
Отнюдь не революционной интеллигенции, гнавшей и ныне истребляющей свободную мысль во имя материалистического вздора и бреда, осуждать императорское правительство. Уж подлинно можно сказать словами Грибоедова: „А судьи кто?”
Дешевая революционно-социалистическая макулатура и публицистика — вовсе не просто „популяризирующее чтиво”. В сознании радикально мыслящих „передовых” интеллигентов это самодовлеющая, основополагающая лжеценность, некая эманация безгрешного и владеющего полнотой истины интеллигента.
Из всей массы фактов он выбирает то, что подходит под его азы. А если что-нибудь не подходит — „тем хуже для фактов”.
Для интеллигентского утопизма психической основой является чувство обладания всей полнотой истины через факт приобщения к данной доктрине и через исповедание ее. Но тогда не нужным оказывается всякое истинное и глубокое образование, ибо последнее есть всегда восхождение от менее совершенного к более совершенному. Революционная интеллигенция совершает обратное: она безнадежно деградирует. Таковы результаты идолопоклонства, ибо нигилист-радикал — типичный идолопоклонник, ложный жрец ложной религии.
Отпадение от христианства привело к идолопоклонству. „Где нет богов — там реют привидения”.
был выдержать борьбу против целой шайки этих типов во главе с Чернышевским.
До сих пор замечательный автор „Философии сердца” очень мало известен, и лишь о. П. Флоренский и Б. П. Вышеславцев обратили на него должное внимание (см. А. Ходзицкий „Проф. философии П. Д. Юркевич”, „Вера и Разум”, 1914 г., №22).
116
Глава 10
ПЕРЕД ВЛАСТИЮ ПРЕЗРЕННЫЕ РАБЫ
Власть является наиболее характерным признаком падшего мира и может быть смело названа антитезой Божественной любви, от которой мир, собственно, и отпал. Зло вообще может быть легко и естественно символизировано властью. Полно глубочайшей правды положение Б. П. Вышеславцева, согласно которому маловероятна властность абсолютного добра, но зато с абсолютной достоверностью можно сказать, что предельное зло надлежит обязательно представлять себе в виде властвующей организации. Отсюда можно сделать обратный вывод, Всякая идеология абсолютной властности, властности самодовлеющей и не служебной — есть непосредственное выявление злого и злобного лженачала. Систематизация и организация власти с некоторой абсолютной необходимостью приобретает формы законничества и закономерности, причем закономерность характерна для мира природного, а законничество характеризует человеческие социальные отношения в сфере власти. То и другое сказалось в апофеозе зла — в распятии Иисуса Христа, Фарисеи, саддукеи, Пилат вознесли Сына Божия на Голгофу, повинуясь законническому принципу: „Мы имеем закон и по закому этому Он дол-
117
жен умереть, потому что назвал себя Сыном Божиим”.
Однако возведение на Голгофу, пригвождение ко кресту на основании „статьи закона” — есть лишь первая половина трагедии, другая — заключается в законах природы. Эту проблему ставит Достоевский устами Кириллова в „Бесах”, который исполнен праведного негодования при мысли, что законы природы не пощадили Величайшего Человека и, стало быть, мир есть „ложь и дьяволов водевиль”.
Это было бы так, если бы мир от начала был задуман „по законам”, а Творец его был бы действительно законодателем, как об этом с наивной откровенностью думают некоторые христиане и „свободомыслящие деисты”. Если Творец мира есть действительно законодатель, а не Творец Любви, если природа от начала скована законами (так же, как в человеческом обществе правит принцип Спинозы, согласно которому „большие государства” с такой же закономерностью поглощают малые, с какой большие рыбы съедают малых) — то тогда, конечно, в основе мира лежит злое начало, а сам мир есть „ложь и дьяволов водевиль”. Тогда и впрямь верна безнравственная концепция томизма, согласно которому погашение Божественного света — от Бога, и сам ад — входит в планы Творца.
Да, зло по-своему сентиментально. В свете этой сентиментальности умилительна благоустроенность мира, где „все на своем месте”: большие рыбы съедают малых, сильные убивают слабых, по закону отправляют величайшего Праведника на Голгофу, по закону его палачи идут в ад и по законному распоряжению законного владыки ставится на мировых подмостках „превосходно задуманная комедия Воскресения”.
118
Система принуждения, как основной способ привлечения в „спасающее лоно”, теория предопределения, мечта об искусственно-безлюбовном производстве потомства, пошлый и мелкий взгляд на соединение полов, рационалистический и аллегорический психологизм в истолковании величайших тайн христианской онтологии — все это, на наш взгляд, отклонение от истинных духовных христианских путей. „Великий Инквизитор” парадоксально возник на христианской почве вследствие ложного истолкования Логоса в смысле законодателя законов природы и законов социальных» При таких условиях законы весьма легко могут заменить ставшего ненужным законодателя, и Великому Инквизитору ничего не стоит арестовать и сжечь самого законодателя, относительно которого он более или менее догадывается, что „Законодатель” пришел „мешать”. Во всяком случае, сжечь Воскресителя гораздо легче, чем воскрешать самому; и здесь вскрывается конфликт между тем, как падшее человечество представляет себе Абсолют, и тем, каков он на самом деле. Представление об Абсолюте (Великий Инквизитор), становящемся злой реальностью, ополчается против истинно сущего Абсолюта. Поэтому и можно назвать Великого Инквизитора представителем безлюбовно властвующей авторитарности, подлинным революционером по отношению к творящей и созидающей любви. Так как уничтожить мир легче, чем сотворить былинку, то Великий Инквизитор, исходя из беконовского принципа насильничающего знания, предпринимает уничтожение мира под предлогом его переустройства, Возникает идея универсализированного закономерного и оправданного преступления.
119
К числу избранных „спасителей” человечества следует отнести и мудрецов и ученых в аристократической коммуне Платона, своеобразно рецептированной в аристократическом позитивизме Ренана. Немногие знают духовные тайны и тайны управления, даже тайны техники — для того, чтобы управлять многими, демократическим стадом. Но первичный замысел христианства — есть призыв ко всем, сильным и ко всем желающим стать сильными в духе — и через это дерзновение становящимся „царями” и „священниками”, т. е. сильными и мудрецами. Против этого своеобразного исключительного аристократизма духа, где „много званых, но мало избранных”, восстает Великий Инквизитор, который сначала стремился попасть в число избранных, стремился дополнить „малое стадо”, но потом, как таинственно свидетельствует Достоевский, в нем произошел „переворот”. Он „не захотел служить безумию”. Что ж это за безумие? „Безумие” — это высшая степень духовного совершенства, блеск, сила, гениальность, чудесно в глубинах сопрягающаяся со святостью, С точки зрения толпы, стада, конечно, и гениальность и святость это безумие, И Великий Инквизитор решил служить этой идеологии, Для этого он и приемлет „третье искушение” — искушение властью, исходящее от „духа самоуничтожения и небытия”. Когда же приходит Истинный Человек, который есть в то же время и Богочеловек — он Его велит вторично казнить.
Здесь последний акт роковой исторической диалектики, Так как святость во Христе-Логосе есть вместе с тем любовная сострадательная обращенность и к „меньшей братии”, то отказ Великого Инквизитора от духовных вершин — есть в то же время и угнетение, мучительство, сатанинская холодная жестокость беспощадного властителя по от-
120
ношению к этим же малым сим... У Достоевского в „Бесах” это сформулировано так: „Как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку”.
Один из главных „бесов” — Шигалев, имя которого стало нарицательным, предлагает такой метод истинно революционного разрешения проблемы „властвования”. Разделение человечества на две неравные части. Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, как бы первородного рая, хотя, впрочем, они и будут работать. Можно подумать, что Достоевский видел перед собой всю ныне ставшую реальностью структуру СССР, метод партийного властвования и расправы над населением.
Апогей революционной властности есть уничтожение всего, что не есть властитель. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает „судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга. /.../ до известной черты”, т. е. и здесь с разрешения начальства...
121
Глава 11
РЕВОЛЮЦИЯ И КОЗЬМА ПРУТКОВ
„Тьма это — все, в чем нет Бога, — говорит Иннокентий Анненский и прибавляет: — Все свято и все прекрасно, где есть Бог, отсутствием же его обращается в презренность и ничтожество все самое, по-видимому, законное и нормальное” („Книга Отражений”).
В мире, отпадшем от Бога, царит скука, мерзят ходячие прописи, утомляет педантизм. Общее место, пропись, некое безликое „оно” тесно связано с удушающим мертвящим коллективом. Можно сказать, что „общее место” есть то оружие коллектива, тот его ядовитый газ, которым удушается всякая культура, антиколлективистическая по самому принципу своему. Свет украшен „царями, героями и поэтами”, — среди них нет места „темной черни”.
Поклонение государству и революционная идололатрия приканчивают культуру, отравляя ее удушьем идеологии и „общих мест”. Нараставшая еще с середины XIX века революционная волна не только не очистила погибавшую культуру от засилия банальщины, но, наоборот, довела ее до последних степеней и — „резонер из пробирной палатки, где он снискал высокий чин”, быстро превратился в красного „генерала” от публицистики и смердяковщины.
122
Козьма Прутков... Когда появилось это удивительное и единственное в своем роде произведение „коллективного творчества” поэтов, объединенное именем камердинера, т. е. лакея, — никому в голову не приходило, что три его забавника-автора, баре и балагуры, создали нечто пророческое. Один из них, Алексей Толстой, неоднократно выступавший против сеятелей „разумного, доброго, вечного”, даже прямо дерзнул бросить панургову стаду вызов:
Российская коммуна,
Прими мой первый опыт.
Алексей Толстой, обладавший цепким умом и ядовитым языком, — лишь под прицелом фанатичных „прогрессистов” и тупых шестидесятников мог прослыть в нашем обреченном обществе ретроградом. Еще прежде Достоевского и Леонтьева пророчески показал он современный поход шестидесятнического отродья против культуры — в ряде острых памфлетов, сплаве четкой шутки и глубокой серьезности. Вместе с братьями Жемчужниковыми Толстой создал странное и загадочное произведение „Козьма Прутков”,
На ядовитую удочку, заброшенную из помещичьей мирной усадьбы, попались не только обыватели — чиновные и нечиновные, Предательскую приманку проглотили и публицисты, полагая, что веселый Козьма Прутков только пародия на банальные и ходячие прописи, на досужие мудрствования непризнанных плоскодумов, В опровержение такой слишком легкой трактовки „веселого Козьмы” не мешало бы вспомнить Леона Блуа с его „Выводами из общих мест” — явление тоже единственное в своем роде и могущее быть приведенным в качестве отда-
123
ленной аналогии Козьмы Пруткова на западной почве, Аналогия, повторяем, довольно приблизительная, ибо „бунтующий христианин” занят сокрушением лишь „общих мест” французской буржуазии.
По существу своему Козьма Прутков — явление типично русское, это обнажение каких-то характерно русских безобразий,
Только на русской почве могли появиться „претензии” и „убеждения”, для которых понадобилась такая кара, как Козьма Прутков, весьма жестокая и безжалостная, несмотря на полную безобидность по внешности. Эта-то внешняя безобидность и необычайная удача формы делают „Козьму Пруткова” неуязвимым и бьющим наверняка, без промаха.
Хотя главным содержанием „Козьмы Пруткова” является табель о рангах и своеобразное благонадежное „вольтерьянство”, одно лишь воцарение коммунистической государственности, неуклонно проводящей в жизнь давно уже заготовленный Козьмой Прутковым проект „о введении в России единомыслия”, — явилось логическим завершением прутковских нелепостей и несообразностей, всего вздорного, косолапого, ненужного, безвкусного, одним словом, того, что превратило русскую историю в отрицательный урок мировой. Можно сказать, что Козьма Прутков — странная гротескная иллюстрация важнейших историософских положений,,, Чаадаева,
Достоевский, Чаадаев, Константин Леонтьев и„. Козьма Прутков — вот вестники и пророки конца, Любопытно, однако, что сентенции типа „большевизм напоминает худшие времена царизма” — сами неизменно проваливаются в козьмопрутковщину.
Стиль Козьмы Пруткова — это серьезная сознательность мыслящего бюрократа. В этом смысле
124
Козьма — просто чудо стиля, и это одно доказывает, что здесь перед нами образчик большого творчества.
„Только в государственной службе познаешь истину”, Государственная служба — предел, и все, что сверх этого — относится к категории „необъятного”; и те, кто дерзают обнять это „необъятное”, те уж несомненно „мерзавцы”. По этому случаю приводится и знаменитый анекдот о Декарте, будто бы отпустившем „мерзавца” по адресу необузданного мечтателя и несомненно зловредно-неблагонадежного мистика, возжелавшего „обнять необъятное”, В подкрепление государственному и служебно-бюрократическому позитивизму Козьмы привлекаются и великие люди. Ничто из великого не должно быть чуждо величавому автору „Фантазии”: „гиспанцы”, „греки” и сам лорд Кучерстон, который „острый перед тем разум имев”, /.../ мозгу своего, от повторных ударов, конечно, лишился” — от долговременного „опыта” с предательской двуколкой, весьма напоминающей не то „огосударствление”, не то „социализацию”. Ввиду жгучести темы не мешает привести и сам анекдот:
Недогадливый упрямец
Всем ведомый аглицкий вельможа Кучерстон, заказал опытному каретнику небольшую двуколку для весенних прогулок с. некоторыми аглицкими девушками, по обычаю той страны, лэдями называемыми. Сей каретник не преминул оную к нему во двор представить. Вельможа, удобность сработанной двуколки наперед изведать положив, легкомысленно в оную вскочил, отчего она, ничем в оглоблях придержана не будучи, в тот же миг и от тяжести совсем назад опрокинулась, изрядно лорда Кучерстона затылком о землю ударив. Однако сим крат-
125
ким опытом отнюдь не довольный, предпринял он таковой сызнова проделать — и для сего трикратно снова затылком о землю ударился. А как и после того, при каждом гостей посещении, пытаясь объяснить им оное свое злоключение, он по-прежнему в ту двуколку вскакивал и с нею о землю хлопался, то напоследок, острый пред тем разум имев, мозгу своего, от повторенных ударов, конечно, лишился.
Человечество не любит подлинно нового, и раз утвердившись в какой-нибудь любимой идейке, вроде двуколки Кучерстона например, идейке интересного социального опыта — не съедет уже с нее и будет продолжать „интересный опыт”, покуда не найдет темный, бесславный и смешной конец. Да, собственно говоря, и конца никакого нет, а просто лорд Кучерстон, все время колотясь безмозглой башкой о землю, так и въедет в дурную бесконечность на веки вечные. Перед нами, несомненно, завершенная картина триумфальной колесницы вечного прогресса.Козьма, несомненно, большой патриот и будет всячески отстаивать родину, в которой царят его анекдоты. Начав с петровской стрижки национальных бород и с сокращения отечественного благочестия, чтоб иностранцы не смеялись, а также в силу положения „если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану”, — Козьма, пожав обильную жатву отечественных курьезов, превратился в славянофила и стал отстаивать национальный эрос, Для этого было два повода: любовь к анекдотической родине, а также и другая, более реальная:
При звезде, большого чина, —
Я отнюдь еще не стар...
126
Катерина, Катерина —
— Вот, несу вам самовар.
— Настоящая картина...
— На стене что ль? это где?
— Ты картина, Катерина,
— Да, в препорцию везде.
Красные бюрократы, наследники анекдотических сторон петровского утилитаризма разбазаривают эрмитажных Рембрандтов и Рафаэлей (на предмет полезной валюты), — но от „картины-Катерины” уж не откажутся ни в каком случае. Близость к Козьме особенно почувствуется, если вспомним, что грудь многих социалистических сановников уже украшена орденом красной звезды и что многие из них „отнюдь еще не стары”. Коммунистическая „картинаКатерина” должна заслонить собою все,
...Самое замечательное в Козьме Пруткове — это уже отмеченное нами сочетание петровского западно-бюрократического чинопочитания с каким-то „точным проявлением непосредственности”, с национально-славянофильским душком.
В сущности говоря, все произведения Козьмы — это организованный и тщательно продуманный „Бобок” (кто не помнит этой гениальной фантасмагории Достоевского?): бормотанье разлагающегося трупа при всех регалиях, чинах и орденах. Удивительным авторам этой сверхпародии удалось, не моргнув глазом, заглянуть в такие закоулки человеческого духа, куда никто не заглядывал. Вместе с тем — Прутков социален,
Но ужас в том, что именно на путях так называемого государственного национального строительства — иерархия „табели о рангах” безобразно и нелепо расходится с подлинной иерархией ценностей. Пока государственно-социальный строй сравнитель-
127
но нормален, органика жизни побеждает надетый на нее нелепый колпак иерархии. Но вот наступает минута, когда искушение власти, „третий соблазн” добирается и до органики, твердо и окончательно решив, что все должно быть искусственным. Вот эта искусственная жизнь, механизация всех ее проявлений доводит прутковский элемент до своего завершения и то, что в „старом строе” было лишь намеком и формой — в революционной государственности становится сущностью, И выясняется, что унитарное и всепоглощающее государство-коллектив, являющееся целью революции, есть, в сущности говоря, резонерствующий лакей, из пустых и лишенных всякой мысли глаз которого словно глядит сама тщета „великих потрясений”.
Крылов заканчивает свою грозно-символическую басню „Кукушка и Орел” жалобой-доносом кукушки на птиц, не желающих признать ее производства в соловьи и издевающихся на ее пением. Орел отвечает:
Мой друг, — Орел в ответ, — я — царь, но я не Бог,
/.../
Кукушку Соловьем честить я мог заставить;
Но сделать Соловьем Кукушки я не мог.
Хорошо еще, что Орел верит в Бога и сознается в своем бессилии. Ценой смирения он сохраняет свое царское орлиное величие и, издеваясь над собственной слабостью, дает почувствовать, что его чинопроизводство кукушки в соловьи есть грех власти. Ну, а если орел не верит не только в Бога, но как Васька Буслаев „ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай”?
Тогда что? Тогда ему остается негласно или гласно объявить себя Богом и всякого, кто не признает
128
кукушку соловьем, карать смертной казнью. Тогда перед нами во всем своем социалистическом великолепии встает красный Козьма Прутков!
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг.
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг.
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,
Знай: это я.
Нагота вообще играет символическую роль в духовном облике Козьмы Пруткова, Своеобразный и сформировавший его переворот — произошел в нем после того, как ему приснился голый бригадный генерал в эполетах,
Козьма Прутков, дошедший в своей красной редакции до полного воплощения, отнюдь не Бог, но божок для дурачков, болванчик для лишенной вкуса бездари, мелкий бес, которому поклоняются лишенные нормального религиозного чувства люди. Это просто „небольшое подобие человека” — невероятная мелочь, как бы ни были велики его амбиции и преступления. Таких людишек судьба сталкивает в дыру небытия пинком ноги...
Посмеятельна бывает гибель нечестивца.
129
Глава 12
РЕВОЛЮЦИЯ — НЕБЫТИЕ
Нет ничего превратнее того домысла, что за революцией и в порядке революции может начаться дальнейшее развитие прерванного ею творческого исторического процесса или же, что уже совсем ни с чем не сообразно, считать ее фактором культуры. Жорес определил революцию как „варварскую форму прогресса”. Не особенно лестное для революции определение, да и притом противоречивое, ибо варварство, в том смысле, в каком берет его автор определения, есть, собственно говоря, движение назад, т. е. регресс. Если же к этому присоединить порочность и даже нелепость самой идеи прогресса, выросшей на почве духовного оскудения, философской ограниченности и извращенности оценок, то для диалектики революции положение создается безнадежное.
Революция есть срыв и обрыв диалектики. Другою она быть и не может — вследствие механичности своего характера. Механическое не может быть диалектическим. В полном согласии со сказанным стоит и „общественный” характер революции. Общественность так же соотносится с обществом — как материализм с материей.
130
Общественность и есть социализм. Поэтому революция как явление общественное необходимо социалистична.
Где воцаряется общественность (социализм), там исчезает общество.Задача революции и цель ее — уничтожение общества и замена его общественностью так же, как и замена материи материализмом — есть замена идеи идеологией, замена религии убеждением и вообще замена полновесной воплощенной реальности развоплощенными пустыми формулами — „праздными словами”.
Общество есть основа культуры. Платоновой идеей общества является Собор (Церковь), а уничтожение общества общественностью (социализмом) есть уничтожение культуры. И к этому революция с необходимостью стремится.
Общество созерцает идеи и воплощает их в красоте. Общественность живет и воюет „готовыми идейками”, „убеждениями” и их уродливыми лжевоплощениями.
Общество живет духом, общественность питается психологией. Общество построено на истинной онтологической иерархии, общественность — на условно-обманной лжеиерархии. Иерархия общества построена на таком расположении творческих ценностей, при котором интенсивность творчества и сила личности постепенно переходят в творческий доличный и сверхличный хаос, среду, матерь-материю, рождающую своего творца. Лжеиерархия общественности построена на таком расположении готовых „идеек”, „убеждений” и секретов властвования, при которых личность постепенно раздавливается, аннулируется и превращается в безликий конгломерат, стадо, изничтожаемое своими властителями. Общественность, подавляя личность-общество, уничтожает и память
131
о Высшем, память, являющуюся творческим условием культуры.
( Культура одновременно означает и действенное почитание высших сил и возделывание земли. Поэтому есть высшая и мистическая связь между культурой и земледелием — возделыванием и почитанием матери-сырой земли, любовью к ней. Недаром революция прежде всего стремится убить религию и земледелие.
В самом же высшем смысле — культура есть стояние перед вечностью и ответ вечности, из которой человек вызван. Культура — словно Гигантское растение, укорененное в матери-сырой земле и обращенное к вечному солнцу. Культура „теллурична” (обращена к земле) и в то же время ей свойствен неудержимый „гелиотропизм” — обращенность к солнцу. Отсюда расцвет культуры в странах умеренного пояса, где возможна творческая гармония „теллуризма” и „гелиотропизма”. Особенно сказанное касается средиземноморского пояса, климата и пейзажа, где мощное и в то же время животворящее солнце является живой иконой вечного солнца правды. „И просияло лицо Его как солнце”. Это произошло в Палестине, типичной стране средиземноморского климата, поистине царице всех стран.
Культура есть самосозидание человека и созидание им той среды, в которой он самосозидается, В культуре человек творит прежде всего самого себя и этим преодолевает свою тварность, повинуясь призыву Творца: „Будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный”. Поэтому высшее назначение культуры есть преодоление человеком своей тварности — чего и желает Бог.
Революция желает твари дрожащей и насилующего деспота.
132
Так как подлинная культура стремится к христианству и увенчивается им, то задача революции может быть определена как снятие крещения, раскрещение и новое крещение огнем адским.
Шлоссер — типичный прогрессист по миросозерцанию, ревностный поклонник революции, прямо говорит о крещении всего общества от корня до верхушки огнем революции. Этот огонь есть кощунственная пародия на огонь Святого Духа, который пришел низвести Сын Человеческий,
Революция есть профанация творческого слова и осквернение материнского лона. Для революции вообще характерно отцеубийство и поругание матери. В этом смысле и характерно большевистское разжигание розни между детьми и отцами на почве идеологии.
Революция не только ничего общего не имеет с Федоровым, как полагают наивные простецы, но прямо ему противоположна. Вообще привлечение Н, Ф. Федорова к оправданию революции приводит лишь к тому, что в миллионный раз разыгрывается в лицах баллада „О камергере Деларю” графа А. К. Толстого...
В революции нет ничего.В этом ее ужасная тайна, Неумные публицисты и социал-философы ничего не заметили. Для них диалектика революции, так же как для большевиков, заканчивается, в конце концов, абсолютной правдой революции против абсолютной неправды „старого режима”, который „единственно и является причиной революции”.
Удивительно, как это апологетам революции и ненавистникам „старого режима” и органического строя не пришла в голову та простая мысль, что „старый режим” может обойтись без революции и
133
даже очень, а революции без старого режима совсем не существует, ибо она всегда есть революция против чего-то. Стало быть, сначала должно существовать нечто, а потом уже появиться революция. Нет, положение революционных идололатров безнадежно, и эта безнадежность может пройти лишь при одном условии: не мыслить или же мыслить не до конца. Но давно уже известно, что —
Мудрец отличен от глупца
Тем, что он мыслит до конца.
Глупость революционных идололатров объясняется именно предосудительностью моральной позиции „оправдания революции”, Некоторые революционные идололатры совершают самое гнусное: они принимают массовое преступление, да еще именем Христа, Они назвали уничтожение классов „истинно христианским делом революции” — и этим одновременно проявили глупость и бессовестность, ибо
— классы не уничтожились и думать, что уничтожились, глупо;
— уничтожились и уничтожаются не классы, но живые люди и приветствовать это — бессовестно.
Революция выявляет все безобразие и всю нелепость небытия. Она есть хула на все ценное и прекрасное и прежде всего на Св. Духа, Духа вечной жизни и вечной красоты. Поэтому так пошло и кощунственно звучат призывы революционных идололатров „жертвенно принять революцию”.
Возможна только жертвенная борьба против революции, борьба за жизнь, за счастье, за красоту,
Тютчев, с присущей ему глубиной и проницательностью, понял, что Россия и революция — это две противоположные и исключающие друг друга силы. Но революция исключает не только Россию, Она
134
исключает жизнь и бытие — ибо полнота жизни и бытия выражается в творчестве и в культуре, а революция обрывает и то и другое. Поэтому то, что происходит в России, есть диалектика мира и бытия — страшная трагическая диалектика после падения. Для Тютчева революция „страшная энергия” и „крестовый поход безбожия”. Он верно наименовал ее „державой” — противопоставив Российской державе, в которой совершается ныне эта мировая мистерия.
![]() Революция — держава. Но кто же ее „держит”, кто ею обладает?.. „Имеющий державу смерти”, т. е, дьявол! Однако этой последней тайны революции, ее смертоносной тишины, ее злого покоя Тютчев не уловил, быть может, потому, что не встретился с нею лицом к лицу.,.
Революция — держава. Но кто же ее „держит”, кто ею обладает?.. „Имеющий державу смерти”, т. е, дьявол! Однако этой последней тайны революции, ее смертоносной тишины, ее злого покоя Тютчев не уловил, быть может, потому, что не встретился с нею лицом к лицу.,.
Это интуитивно понял Достоевский и символизировал в страшном образе нейтрального и спокойного Николая Ставрогина. Впоследствии высказанная мысль о том, что „революция — это тишина, притворившаяся бурей”, — целиком вышла из круга идей Достоевского, Эта мысль, можно сказать, списанная с Николая Ставрогина, Впрочем, легко примирить и синтезировать систему идей Тютчева и Достоевского о революции. Ибо вокруг нейтрального к добру и злу „тихони” Николая Ставрогина развивает свою дикую энергию революционный шабаш Петра Верховенского, в котором „гражданин кантона Ури” играет роль неподвижного и уходящего в бездну центра — дыры.
Революция — это „смерть вторая”, И надо ослепнуть до последней степени, чтобы отожествить систему идей Н. Федорова, идей воскрешения и жизни — с идеей революции, которая есть смерть.
Поклонение революции есть предельная и острая форма смертообожения: смертная скука револю-
135
ционной фразеологии и ее деяний есть „вкус смерти”, то горчайшее питье, которое смерть подносит жизни согласно старинной легенде о „Прении живота со Смертью”. Жизнь же есть вечное творчество, обновление... И ни о чем нельзя так усердно молиться в наше черное время революционной идололатрии, как о совершении нового и небывалого, того, о чем говорят оба апостола любви — Павел и Иоанн:
Древнее убо мимо идоша се быша нова (Павел).
Не у явися что будем (Иоанн).
Христианство и есть вечно новое и абсолютно новое — обетование святыни Духа. Его путем явился Христос.
Но смертобожническое искажение христианства, взрастившее смертоносную революцию, отвергло эту вечно Новую Жизнь и опять вернулось — и притом не к Ветхому и почтенному — но уже к вовсе презренному старому храму, к изодранной и смрадной хламиде.
„Пес возвратился на свою блевотину, и вымытая свинья пошла опять валяться в грязи” (ап. Петр).
Надо быть совершенно ослепленным, чтобы усмотреть в старом, злом и смертельно скучном хламе революции что-то новое.
Нет, только с Богом будет новое и только те, кто жаждут подлинно нового, — те с Богом.
„Се аз творю вся нова”.
136
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
