13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Степун Фёдор Августович
Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции
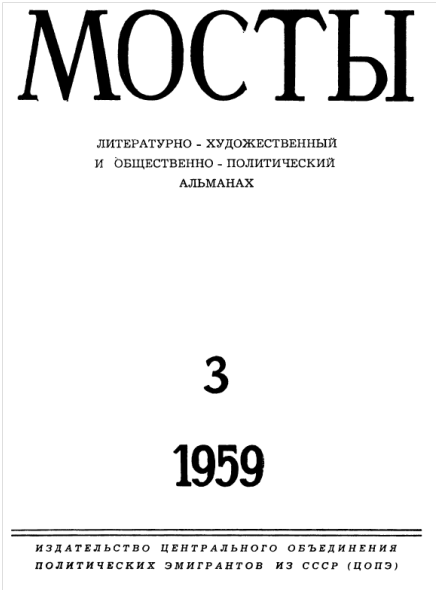
Germany. München
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Файл в формате PDF взят с сайта http://www.emigrantika.ru/
Ф. СТЕПУН
Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции
Свою борьбу против демократическо-социалистического правительства Керенского большевики выиграли под красным знаменем научного марксизма, с молитвенником Коммунистического Манифеста в руках. Отсюда получилась необходимость строго марксистского объяснения их победы. Большевики неплохо справились с этой задачей. Им удалось убедить не только образованных читателей Западной Европы, но и многих известных западноевропейских ученых в том, что Октябрьскую революцию следует считать восстанием бесправных пролетарских масс против властолюбивой буржуазии.
Правильность подобного толкования требует проверки. Прежде всего необходимо помнить, что генеральная репетиция Октябрьской революции произошла еще в 1905 году, что уже тогда были организованы Советы рабочих депутатов. Этот факт неоспоримо доказывает, что большевики уже Россию 1905 года рассматривали, как раздираемый классовой борьбой буржуазно-капиталистический строй.
На первый взгляд может показаться, что такого мнения придерживались оба основателя большевистской партии и влиятельнейшие теоретики марксизма — Георгий Плеханов (1857-1918) и Владимир Ленин (1870-1924). При ближайшем рассмотрении становится однако очевидным, что ни Плеханов, ни Ленин не считали дореволюционную Россию страной, созревшей для пролетарской революции. Если в их сочинениях это не сразу бросается в глаза, то лишь потому, что они даже свои научные труды всегда писали, как партийные идеологи и революционные вожди, что до некоторой степени оправдывается требованием Маркса, чтобы познание мира было бы его изменением: «Die Welt erkennen heisst sie verändern».
Придерживавшийся первоначально народнического взгляда, Плеханов утверждал, что России не нужно повторять политического развития Запада, так как крестьянская община содержит в себе
171
все элементы, необходимые для немедленного превращения монархии в социалистическое государство. В 1884 году он отошел от своих прежних единомышленников и быстро превратился в передового идеолога русской социал-демократии. При определении экономического и социального положения России, решающим было для него то, что капитализм в России находится в младенческом возрасте. Но он нисколько не сомневался, что дитя быстро вырастет и что его рост неизбежно подорвет старую Россию, что поступив в школу капитализма, она быстро доведет свое образование до конца. Как самая молодая капиталистическая держава, она тотчас же создаст у себя классовый антагонизм и не замедлит всей мощью своего авторитета занять ведущее место в западноевропейской революции.
Во всех своих надеждах Плеханов потерпел полное разочарование. Русская революция не захотела ждать, пока в России созреет капитализм, который оправдал бы ее присоединение к социалистической революции Запада. Напротив, она сама сделала первый шаг, надеясь, что Европа за нею последует. При таких обстоятельствах Плеханову, как последовательному научному марксисту, не оставалось ничего иного, как оспаривать порожденную компромиссом между народничеством и марксизмом революционную тактику Ленина, как необоснованную политическую импровизацию без прочного экономического фундамента. Плеханов считал, что Россия созрела еще только для гражданской революции. Это «еретическое мнение», которое он защищал на страницах своей газеты «Единство», принесло главе научного марксизма не только издевательство большевистской партии, но и год ареста, что ему впоследствии, правда, постарались возместить торжественными государственными похоронами.
Из всего сказанного следует, что Плеханова никак нельзя считать сторонником взгляда, будто бы Октябрьская революция была восстанием пролетарских масс против буржуазии. Так же обстоит дело и с экономически-социологическими взглядами Ленина. В его знаменитом труде «Развитие капитализма в России» (1899) имеется схожее Плеханову утверждение, что Россия в конце XIX века находилась все еще в первой стадии капиталистического развития. Да как оно могло быть иначе, если в ней, согласно Ленину, в 1897 году, т. е. лишь за восемь лет до «пролетарской» революции 1905 года, 80 процентов русского населения состояло из крестьян. Если предположить, что остальные сословия, — дворянство, духовенство, свободные профессии, купечество, — составляли половину остающихся 20 процентов, то на долю пролетариата остается максимум 10 процентов. В своей книге Ленин, странным образом, вычислил иначе, повысив число пролетариата до 61 процента. Этот статистический расчет удался ему лишь потому, что он для своих целей теоретически расслоил крестьянство, причислив богатых к буржуазии, а бед-
172
ных к пролетариату. Подобный статистически-социологический прием политика Ленина едва ли можно оправдать научно, так как разница — богатый и бедный — имеется в каждом сословии. Бедноты было много не только среди недавно раскрепощенных крестьян, но и среди помещиков, лишенных реформой Александра II дарового крестьянского труда. Случалось, что неработоспособные помещики разорялись дотла, но пролетариями от этого они не становились. Не становились ими и обнищавшие крестьяне, так как и в нищете они оставались людьми, воспитанными церковью, древними обычаями и постоянным хозяйственным общением с природой и животными.
Марксисты это очень хорошо понимали, отсюда и их исконное презрение к крестьянству, обогатившему творчество Достоевского, Толстого, Лескова и многих других русских писателей самыми значительными образами. Плеханов отрицал крестьянство, как «тупой, консервативный, приверженный царизму класс». В воспоминаниях марксиста Суханова мы встречаемся с мнением, что для революции было бы лучше, если бы крестьяне не участвовали в ней, а разорив помещичьи имения, спокойно и удовлетворенно вернулись бы к «идиотизму своего крестьянского жития». В сочинениях Горького, многолетнего партийного товарища Ленина, явственно звучит пренебрежение к крестьянству.
Трудно себе представить, чтобы Ленин не отдавал себе отчета в сомнительности своей статистики и трудности переделки крестьян в пролетариев. То, что он этими трудностями пренебрег, объясняется его уверенностью в том, что время для западноевропейской революции созрело и что Россия в ближайшее время должна будет придти ей на помощь. Я думаю, что логика ленинской революционной тактики в значительной степени определялась тем, что он считал себя вождем прежде всего западноевропейского пролетариата.
В русской литературе уже нередко указывалось на то, что антимарксистское решение Ленина начать пролетарскую революцию в крестьянской России, получило свое благословение непосредственно от Маркса и Энгельса. Это благословение приверженцы Ленина усматривали в ответе, данном обоими основателями научного марксизма на вопрос русской террористки Веры Засулич. Вера Засулич хотела знать, правильно ли готовить в России социалистическую революцию на основах общинной собственности, или же следует ждать дальнейшего развития капиталистической формы хозяйства. В своем ответе, напечатанном в предисловии к переводу «Коммунистического Манифеста», Маркс писал: «Бели русская революция послужит сигналом для рабочего движения на Западе, так что оба движения объединятся, то крестьянско-земельная община может послужить исходной точкой для коммунистического развития России». Этими осторожными и слегка скептическими словами оправдыва-
173
лась, в лучшем случае, попытка Ленина поджечь в Петербурге проложенный через всю Европу запальный шнур, но никак не разжигание коммунистической революции в России. «Сигналом» для Запада октябрьское восстание не стало, после чего, согласно Марксу-Ленину, должно было бы последовать отступление на позиции буржуазной революции. На столь радикальное отступление Ленин не решился, но в качестве временной полумеры все же декретировал новую экономическую политику. Возможно, что, если бы он остался жив, это временное отступление послужило бы началом приближения к плехановским позициям. При Сталине это стало совершенно невозможным. Железной рукой загнал он крестьян в колхозы, где они, перестав быть крестьянами, превратились не в пролетариев, а в крепостных автократически управляемого государственного хозяйства.
Все, что до сих пор было сказано о революционно-социологических воззрениях Плеханова и Ленина, достаточно убеждает в том, что даже этим главным теоретикам марксизма Октябрьская революция никак не представлялась пролетарским восстанием против буржуазии. Да и как бы это было возможно, если в России, в социологически точном смысле этих терминов, никогда не существовало ни буржуазии, ни пролетариата. Мах Weber, Werner Sombart, Götz Briefs, Grotheusen, как и ряд других ученых, давно уже выяснили, что буржуазия является поздним и весьма сложным результатом западноевропейского исторического развития. Образованию ее содействовали античное естественное право, jus gentium римских юристов, индивидуализм Возрождения, учение кальвинизма о предопределении и, наконец, вера в свободу и величие человека, зародившаяся в Англии накануне Великой французской революции, и многое другое. Все эти предпосылки совершенно отсутствуют в русской истории. Россия мало что унаследовала от Рима, она не пережила ни Возрождения, ни реформации, ни просветительной французской революции, создавшей современное понятие общества и вложившей государственную власть в руки среднего сословия.
Понятие «среднего сословия» наталкивает нас на дальнейшую, крайне существенную проблему русской социологии. Понятие «среднего сословия» или среднего класса русскому уху непривычно, потому что до освобождения крестьян и иных либеральных реформ Александра II Россия была страной социальных крайностей, не знающей социальной середины. Процесс образования этой середины начинается лишь в пореформенной России, когда стало возможным мечтать о политической демократии. Начавшееся зарождение третье-сословной буржуазии встретило мало сочувствия и много трудностей, что прежде всего объясняется тем, что ему надлежало объединить в себе не только весьма разные, но и совершенно разнородные слои дореформенной России. В чуждом им поначалу мире
174
торговли и промышленности искали спасения, с одной стороны, дети и внуки разоренных крестьянской реформой дворян, с другой — потомки бывших крепостных, которые, получив землю, были лишены возможности ее доходной обработки. Многое в русской революции объясняется тем, что среднесословный буржуа появился в России, как чужеродный элемент, который под враждебными взглядами разоряющегося дворянства и экономически неустроенного мужика должен был создавать свой собственный мир.
В воспоминаниях графа Витте, одного из значительнейших русских политиков XX столетия, имеется интересное доказательство того, что в России еще не существовало классово-сознательной буржуазии. Назначенный, несмотря на протест дворян-помещиков, считавших его односторонним защитником финансового капитала, в 1892 году на пост министра финансов, граф Витте принялся создавать класс буржуазии, недостающий ему для проведения в жизнь намеченных планов. В 1903 году он писал русскому биржевому комитету: «Постарайтесь чаще встречаться. Создайте собственный орган печати. Попытайтесь оказать влияние на общественное мнение. Заведите постоянную канцелярию или иное учреждение, которым вы будете спаяны между собой. Если вы сумеете достаточно убедительно представить ваши доводы правительству, вы быстро добьетесь удовлетворения ваших желаний».
Эта министерская инструкция, пытающаяся объединить в классово-сознательное сословие владельцев торговых фирм и собственников-промышленников, может служить явным доказательством того, что за два года до революции 1905 года, когда пролетариат «впервые осмелился восстать против буржуазии», таковой, в подлинном значении этого слова, в России еще не существовало. С правильностью подобного утверждения соглашается даже Гитерман в своей «Истории России», явно склонный к оправданию коммунистической революции. В ряде факторов, задержавших развитие капитализма в России, Гитерман упоминает и «отсутствие классово-сознательной буржуазии».
Дальнейшую весьма существенную причину медленной консолидации предпринимателей в классово-сознательную буржуазию следует искать в том, что резкая марксистская критика капиталистического мира стала известна в России задолго до того, как капитализм получил возможность проникнуть в нее. Опубликованный Марксом в 1848 году «Коммунистический Манифест» был уже в 1860 году, т. е. за год до освобождения крестьян, переведен Бакуниным на русский язык и издан лондонской типографией Герцена. В 1872 году первый том «Капитала» появился в Петербурге. Благодаря этому интересу к Карлу Марксу, которого передовые русские революционеры в Лондоне знали и лично, идеи либерализма и свободной торговли попали в Россию уже критически разложенными
175
и опороченными, что, конечно, не могло не повредить их развитию.
Аналогично обстоит дело и с пролетариатом. Уже попытка Ленина создать нужный для революции пролетариат, по рецепту Петра Верховенского, из крестьянской среды, говорит за то, что классово-сознательного пролетариата в России не было. Быстрый рост индустриализации России и связанное с этим увеличение на фабриках числа сезонных рабочих из крестьян, несомненно, сближало последних с рабочими и горожанами. Но настоящими пролетариями эти, только что брошенные в закипающий котел капитализма, крестьяне все же не становились. Этому препятствовала, как уже было сказано, их особая крестьянская стать.
Что русские рабочие не были пролетариями, совсем не значит, что они не были революционерами. Сквозь всю историю России, нередко соприкасаясь с темой разбойничества, красной нитью проходит тема крестьянских восстаний. Всегда и все преувеличивавший Бакунин утверждал, что единственно подлинный революционер в России, это разбойник. Что это не так, доказывать не будем; в революционной борьбе было и небольшое число самых настоящих, выкованных марксизмом, воспитанных подпольной работой в социал-демократической партии стойких революционеров. Вопрос только в том, как социологически рассматривать эту рабочую элиту: как авангард русского пролетариата, или как резерв русской революционной интеллигенции, как защитников рабочих интересов, или как провозвестников социальных идей.
В качестве главного свидетеля правильности того мнения, что в России незадолго до наших дней никакой буржуазии не существовало, можно сослаться на русскую литературу, которая больше всех остальных занималась социальными вопросами. Она полна описаний быстро разоряющихся дворянских поместий, запущенных садов и парков, поросших тиной прудов, печали и раздумья (Тургенев), веры и неверия русского духовенства (Лесков), крестьянской нужды (от Радищева до Чехова), но описаний буржуазии и пролетариата в ней нет. Островский изображал в своих пьесах русское купечество с его жаждой наживы, безудержностью, фарисейской моралью, с его борьбой за старую Россию или за ее европеизацию, но анализа классовой борьбы у него не найти. Белинский называл мир Островского «темным царством», но «мраком Средневековья» европейская буржуазия никогда не страдала. Все ее ошибки были результатом ее веры в просвещение и прогресс.
Как буржуазия, так и пролетариат не нашел себе ни толкователя, ни певца. Часто высказываемое мнение, что Горький был таковым, ошибочно. Его босяки и бродяги едва ли имеют что-либо общее с западноевропейским пролетариатом, уже потому, что пролетарии целый день работают на заводах, в то время, как бродяги Горького целыми ночами философствуют у разложенных костров.
176
Что касается их мировоззрения, то они, подобно своему творцу, скорее анархисты-индивидуалисты, чем социалисты. В афористике их речей слышится скорей поэтическое слово Ницше, чем научное — Карла Маркса. Если ближе присмотреться, то почти все они родом из гнезда атеистических богоискателей Достоевского. Представить их себе действенными членами социалистического интернационала — совершенно невозможно.
Но если не пролетариат, то кто же осуществил русскую революцию? Правилен только один ответ: революционная интеллигенция, рожденная духом петровских преобразований. До победы над Наполеоном она представляла собою весьма тонкий слой образованных людей. И лишь после реформ Александра II она начинает вырастать в политически активную силу. Александр Герцен как-то сказал, что отношение славянофилов к западникам напоминает голову Януса: профили обращены в противоположные стороны, но сердце бьется единою мечтою об освобождении крестьян. Этого освобождения славянофилы ждали от царя, — западники от революции. Александр II опередил революционеров, но его реформа не удовлетворила радикальные круги: они решили, что она была осуществлена скорее в интересах помещиков, чем крестьян, и ответили на нее убийством Александра II. Это убийство послужило началом той западнически-интеллигентской революции, последним словом которой оказался большевизм.
Что же, однако, представляет собой интеллигенция в социологически точном понимании этого слова? Интеллигентный человек и интеллигент для русского уха отнюдь не одно и то же. Не каждого, даже весьма образованного ученого и великого художника, отнесем мы к интеллигенции. Мережковский очень правильно указал на то, что Достоевский, так беспощадно описавший интеллигенцию в «Бесах», все же интеллигент, а Толстой — нет. Причина в том, что в жизни и творчестве Достоевского чувствуется страстная заинтересованность в вопросах социальной жизни; не случайно же примкнул он в молодости к кружку Петрашевского и был приговорен к смертной казни. Несомненно, и Толстой всю жизнь мучился вопросами социальной правды. Но его муки не носили характера общественного интереса, а были скорей личной этически-религиозной проблемой. Наркомпрос Луначарский по поводу столетия со дня рождения Толстого правильно указал на то, что Толстого следует чествовать, как критика и предателя своего класса, но не как подготовителя, и тем более не как попутчика революции.
По мнению Г. П. Федотова, нельзя причислять к интеллигенции и консервативного богослова Хомякова, хотя он в своем известном стихотворении и говорил о черной неправде русских судов и о клейме рабства на челе России. Нельзя считать интеллигентами как
177
мистика Гоголя, так и антидемократа-византийца Леонтьева. Все эти, исключительно интеллигентные и значительные люди, не принадлежат к интеллигенции в русском значении этого слова. Но к ней относится, несмотря на свои христианские воззрения, Владимир Соловьев. Его публичная лекция, закончившаяся требованием помилования убийц Александра II, его критика социальной пассивности русского православия, его блестящая полемика против клерикального национализма второго поколения славянофилов, дают ему на это бесспорное право. Несмотря на свой агрессивный католицизм, к интеллигенции относится и историософ Чаадаев, благодаря своим резким нападкам на русскую историю за ее враждебное отношение к Европе.
Из приведенных примеров ясно, что интеллигентом является, таким образом, каждый, кто жертвенно борется за превращение монархии в правовое государство, независимо от степени своего образования. В различных интеллигентских организациях можно было встретить оппозиционных профессоров, радикальных адвокатов, офицеров, земских врачей, журналистов и большое количество студентов, освистывавших консервативного профессора при его появлении в аудитории, а также наборщиков либеральных газет, которых и за десять рублей месячной прибавки нельзя было сманить на работу в реакционных издательствах.
Своеобразный облик революционной интеллигенции социологически трудно определим. Было бы явно неправильно понимать ее, как сословие или класс, так как типичным для нее свойством всегда было объединение в себе людей всех сословий и классов. Самое точное, по-моему, определение слова «интеллигенция» предложил, почти сто лет тому назад, известный историк русской литературы Анненков. «Интеллигенция представляет собою как бы воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял по какому-то соглашению, никем в сущности не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими» *).
Характерною чертою этого воинственного ордена было участие в нем очень большого процента дворян, и не только в начале движения, но и до самого конца. Так называемых «кающихся дворян» можно по праву считать дрожжами революции. В своих воспоминаниях князь Петр Кропоткин рассказывает о том, как он и его современники страдали от того, что их отцы, почитатели Вольтера и Дидро, спокойно приказывали пороть на конюшнях крепостных. Из многих свидетельств видно, что дворянская молодежь шла в революцию от невозможности как в идейном, так и в бытовом отно-
*) Ф. Ч. Ветринский: «Герцен». С.-Петербург, 1908 г. Стр. 107.
178
шении жить одновременно в двух столетиях. Из этих, первоначально этических, мотивов возникло народничество, первым политическим объединением которого была «Земля и Воля». Основанная в 1868 году, она была реорганизована в 1877 году и два года спустя прекратила свое существование.
Свою политическую деятельность народники начали с «хождения в народ». Они шли в народ в надежде принести ему свободу. Свыше двух тысяч молодых мужчин и женщин, переодетых рабочими, двинулись одновременно на Поволжье, Уральские горы и в иные отдаленные края России, чтобы начать свою освободительную агитацию среди крестьян и ремесленников. Многим из них пришлось плохо. По неловкости, с которой спасители народа принимались за непривычную им сельскую работу, крестьяне без труда обнаруживали в них сыновей и дочерей своих господ и, полные подозрения, доносили на них полиции, что приводило к их арестам и ссылке. Но несмотря на это, народники не прекращали своей деятельности, надеясь, что в конце концов дело обернется в их пользу. Поистине потрясающая картина: дочери и сыновья богатых и образованных родителей отказывались от счастья и радостей жизни, уготованных им судьбой, и возлагали на себя крест тяжкого отречения и даже смерти. Становится понятным, почему первых народников называли «подвижниками революции».
Агитация народников смолкла в России, как глас вопиющего в пустыне. Все громче раздавались требования заменить бессильное слово — делом. Но единственное, казавшееся возможным, действие — был террор. Борьба за этот путь угрожала партии расколом. Для выяснения этих осложнений и для принятия окончательного решения, в 1879 году была созвана тайная партийная конференция. Оказалось, что большинство стояло за террор и организацию новой партии. После долгой борьбы новая партия была создана под именем «Народная воля».
Ярым представителем меньшинства был Георгий Плеханов. Как последовательный марксист, он держался того мнения, что история движется по определенным экономически-зависимым законам и что ее творят не отдельные личности, а классы. Эти доводы против террора привели к разрыву Плеханова с народниками, в 1886 году он основал в Швейцарии группу «Освобождение труда». Эта группа носила явно социал-демократический характер и со временем превратилась в русскую социал-демократическую партию.
Вновь созданная группа «Народной воли» немедленно приступила к работе. Первым ее решением было отказаться от всех покушений на высших чиновников и со всей энергией приступить к подготовке убийства Александра И. После семи неудавшихся покушений удалось восьмое — 1 (13) марта 1881 года. За две недели до убий-
179
ства министр Лорис-Меликов объявил о намерении царя дать подданным конституционные права.
В начале XX века террор революционных партий неоднократно пытался принудить монархию к капитуляции. Были убиты:
1901 год — министр Боголепов,
1902 год — министр Сипягин,
1903 год — министр Плеве,
1905 год — великий князь Сергей Александрович,
1911 год — премьер-министр Столыпин.
Как ни ужасен, как ни слеп был этот террор, но его, особенно в сравнении с большевистским, все же можно понять и, до некоторой степени, простить. В отличие от марксистов, народники верили в значение личности в истории, а потому и в то, что убийством повинных людей возможно добиться освобождения народа от непосильного бремени унижения и нужды. Защищали народники террор лишь как последнее средство, допустимое только в случаях, когда ничто иное не могло принести желаемого успеха.
Показательно, что члены террористической организации, убившие Александра II, страстно протестовали против почти одновременного убийства в демократической Америке президента Джемса Кэрфильда. Морально наиболее ответственные народники-террористы ясно сознавали, что каждый террористический акт является виной, оправдываемой лишь готовностью пожертвовать собственной жизнью.
Психология самопожертвования нередко стояла у террористов «Народной воли» и социалистов-революционеров на первом плане. В своем романе «В розовом блеске» Ремизов описывает молодую девушку, которая всегда думала о своей жертвенной смерти, но никогда не думала об убийстве другого человека. Еще показательнее рассказ известного социалиста-революционера об отказе партии одному из своих членов, решившему, по личным причинам, покончить жизнь самоубийством, захватить с собой осужденного на смерть чиновника; ему было отказано на том основании, что это не будет жертвой, а где нет жертвы, там нет и помощи. О таком же понимании террора говорят и слова рабочего, отказавшегося от возложенного на него выполнения террористического акта: «У меня нет на это права, так как до вступления в партию я вел плохую жизнь — пил и гулял. А на такое дело надо идти с чистыми руками».
Особенно ясное представление о моральном своеобразии добольшевистского террора дают «Воспоминания» Бориса Савинкова, в которых глава «Боевой организации» описывает убийство великого князя Сергея Александровича Иваном Каляевым. Каляев был человеком высокой нравственности, не чуждым тоски по религиозной вере. Он не был христианином, но любил облик Христа и часто но-
180
сил с собой Евангелие. Он знал, что убийство — грех, и все же чувствовал себя обязанным убить великого князя. Ожидая с бомбой в руке появления великокняжеской коляски, Каляев, увидев рядом с великим князем его жену и детей, не задумываясь ни минуты, опустил уже занесенную руку, решив отложить покушение.
В тюрьме его посетила великая княгиня и принесла ему Евангелие и икону Спасителя. Растроганный, он принял подарки, как знак ее благодарности за то, что он пощадил ее и детей. Конечно, не каждый террорист «Народной воли» или партии социалистов-революционеров был Каляевым, но нечто каляевское было свойственно всему террористическому движению народников.
Совсем иное дело террор большевизма. В многолетних дискуссиях между народниками и марксистами, социал-демократы всегда стояли на той точке зрения, что террор нецелесообразен. Это утверждение было, вероятно, одной из главных причин их победы над разочарованными в своей тактике народниками. После победы над временным правительством, большевики однако резко изменили свое мнение. Не отказываясь от своего убеждения, что применение террора по отношению к отдельным лицам нецелесообразно, они превратили его в весьма действенное средство в классовой борьбе. Громадная разница между народническим и большевистским террором заключается в том, что представители народнического социализма убивали министров в убеждении, что они виновники народного несчастья, большевики же, не признающие свободы воли, а потому и нравственной ответственности человека за свои поступки, изничтожали и изничтожают своих врагов не за содеянные ими преступления, а в порядке ликвидации непригодного для постройки нового мира социологического материала. Дальнейшая, весьма существенная разница между добольшевистским террором народников и правительственным террором большевиков состоит в том, что безвластные народники боролись против всесильного правительства и расплачивались за это жизнью, — большевики же казнили сотни тысяч беззащитных людей в сознании своей неограниченной власти и без всякого риска для самих себя.
Я знаю и помню, что большинство большевистских вождей некогда и сами жертвенно рисковали своей жизнью, что многие из них попали в Петербург прямо из тюрьмы и ссылки. Но это прошлое ни в коем случае не оправдывает их: как некогда преследуемые борцы за свободу, они, придя к власти, должны были бы помнить о ней. Причину их преступного беспамятства надо искать, конечно, в нигилистической метафизике большевистского марксизма.
Октябрьскую революцию неправильно считать, как это часто делают, естественным развитием «Февраля». Сформулированные Лени-
181
ным принципы большевистской партии были провозглашены уже в 70-х годах прошлого столетия, как будет еще показано ниже.
Изучая историю большевизма, нельзя не поставить вопроса: неужели у царского правительства не было никакой возможности вовлечь интеллигенцию в свою работу и, поручив ей выполнение определенных задач по устройству народной жизни, избавить ее от ее действительно «беспочвенных мечтаний». Ответить на этот вопрос нелегко, но не поставить его невозможно. Бессмысленным он может показаться только тем, для кого возможное и необходимое абсолютно совпадают, что заключает в себе отрицание активного участия человека в устройстве мира.
Не разделяя такого пессимизма, можно, думается, утверждать, что своевременное включение идеалистической и жертвенно настроенной интеллигенции в работу государственного аппарата могло бы изменить путь России. К несчастью, царское правительство не смогло переставить стрелку на революционном пути, чем и загнало интеллигенцию в подполье, из которого 20 лет спустя после освобождения крестьян была брошена смертоносная бомба в Александра II. Нездоровым духом подполья, духом утопии, партийно-политической полемики и непониманием реальной действительности объясняется то, что во «Всероссийском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», образованном в 1917 году, оказалось семь враждующих между собой социалистических партий.
Борьба монархии с западнической интеллигенцией и ее либеральным понятием свободы была, однако, обусловлена не только слепой и злой волей, но — в более глубоком плане — и тем, что исповедующая христианство монархия не могла мыслить свободу в отрыве от освобождающей истины, ибо сказано «и познайте истину и истина сделает вас свободными» (Иоанн, 8, 31-32). Исходя из такого сущностного понимания свободы, монархия и по совести и по разуму должна была считать ее оторванное от всякой истины интеллигентское понимание чистым произволом.
Мое объяснение того, почему синодальная церковь ни разу не возвысила своего голоса в защиту свободы, не есть ее оправдание. Не подлежит сомнению, что если бы она не взяла с самого начала все свободолюбивое движение под подозрение, как преступление против России, а попыталась бы указать правительству пути осуществления христианской свободы в государственной и социально-экономической жизни, то Россия не дошла бы до революции.
О возможности такого счастливого развития после 1905 года озабоченно думали многие философы, социологи и общественные деятели. Под председательством Мережковского в Петербурге было создано очень активное «Религиозно-философское общество», задавшееся целью организовать регулярные встречи между обеспокоенными политическим положением в России представителями
182
церкви и свободной от узко-партийного радикализма общественностью. Но было уже поздно: центробежные силы клерикальной реакции и партийной интеллигентской непримиримости одержали верх над примиренчеством центростремительных сил.
Провозгласив социальное и философское учение Карла Маркса абсолютной истиной, требующей к себе исповеднического отношения, и превратив тем самым большевистскую партию в лже-церковь, Ленин уже в 1902-1903 году предопределил окончательное лицо революции.
Как было уже сказано, большевизм вспыхнул над Россией не внезапно. У Ленина был ряд предшественников. Самым значительным из них надо считать родившегося в 1844 году Петра Ткачева. Свои общественно-критические и революционно-тактические взгляды Ткачев, называвший себя первым марксистом, защищал в «Набате», издаваемым им с 1875 по 1881 год в Женеве. Его своеобразный анализ социальной структуры России был бесспорно верен. Он первый высказал мысль, что в России нет ни фабричного пролетариата, ни буржуазии, что страдающий народ и деспотическое правительство стоят в ней лицом к лицу, лишенные примиряющего посредничества среднего сословия. Считая, при наличии таких условий, решительно бесполезным создание массовой революционной организации рабочих, он безоговорочно защищал идею сплоченной, централистически организованной партии, которая, не гнушаясь насилием, применяла бы его не только во время революции, но и после ее победного окончания. Совершенно в духе ленинской теории Ткачев предостерегал против разрушения государственного аппарата противника. Ему казалось более целесообразным, победив этот аппарат изнутри, использовать его для постройки нового мира. Эта идея внешне формальной непрерывности государственной власти была, полной противоположностью анархизму Бакунина.
Вторым лицом в галерее ленинских предков следует назвать Сергея Нечаева, бывшего скорей практиком революции, чем ее идеологом. Ярый поклонник Маккиавелли, идеи которого он, правда, сильно упрощал, Нечаев организовывал маленькие засекреченные кружки революционеров, по пяти человек в каждом, таинственно намекая, что вся Россия минирована подобными кружками. Человек невероятной энергии, но и лишенный всякой морали, он утверждал, что революционеру все позволено и ничего не запрещено. Убить ищущего собственных путей партийного товарища, обвинив его в шпионаже, не представляло для него никакого затруднения.
Как ни странно, этот холодный политик был одновременно весьма восторженным человеком, что связывало его с Бакуниным. В программе «Катехизис революционера», составленном Нечаевым при участии Бакунина, на первом месте стоят не экономические, а
183
духовные требования: борьба с Богом, освобождение женщины от ига брака и государственное воспитание детей. Но еще показательнее этой программы последовательно продуманная Нечаевым тактика революционной борьбы, с выраженным в ней недоверием к народу. Нечаев, как позже и Ленин, утверждал, что народ собственными силами никогда не совершит революции. Дорога к свободе может быть проложена лишь путем насилия над народной волей. По мнению Нечаева, просветительный реформизм и эволюционизм «лишь снотворное для ума и сердца» и потому ни к чему не приводят. Отсюда вывод — не дожидаясь революции снизу организовать ее сверху.
Носителем этой революции Нечаев представлял себе тайное общество профессиональных революционеров. Образ такого революционера описан в катехизисе с типично бакунинской страстностью. Революционер — это обреченный. Для него не должно существовать ни личных интересов, ни любовных переживаний, ни собственности, ни даже собственного имени. Все его существо должно быть одержимо одной целью, одной мыслью, одной страстью: Революцией.. . Он беспощадный враг всего цивилизованного мира, он живет в нем с единой целью — его разрушения. Он ненавидит и презирает общественную мораль своей эпохи... Все, что революция поощряет — нравственно, все, что ей препятствует — безнравственно.
Третьим, более значительным предшественником Ленина, надо считать анархиста Бакунина *). Бакунин, составивший вместе с Нечаевым «Катехизис революционера», от которого он впоследствии отказался, был по своему размеру совсем другим человеком, чем Ткачев и Нечаев. Изучая жизнь Бакунина, не знавшего иной родины, кроме баррикад (он принимал деятельное участие во всех революциях и был трижды приговорен к смерти — в Австрии, Германии и России), невольно приходишь к выводу, что политическая революция была для него лишь символом более глубокой борьбы человека с Богом. Правильность такого предположения подкрепляется его восхвалением сатаны («Бог и государство»), как первого революционера, восставшего против уготовленного человеку Господом Богом рабства. Как путь к этому освобождению, Бакунин восторженно приветствовал разрушение. Самые значительные из его речей пылают огнем, испепеляющим все практические планы социалистического строительства. Характерно, что Бакунин всегда и всю-
*) Известно, что непосредственно после захвата власти, большевистское правительство не только теоретически, но и с оружием в руках боролось с анархистами, засевшими в одном из московских домов. Этот факт не отвергает моего тезиса. Ведь большевики арестовывали и ссылали и социал-демократов, несмотря на то, что сами они, как доказано, были выходцами из гнезда социал-демократов. Борьба с отцами и дедами относится, по существу, к революционной психологии.
184
ду предъявлял одни и те же требования. Все к тому же призывал он и славянский конгресс в Праге, и саксонских коммунистов в Дрездене: «Вы должны отдаться революции полностью и безоговорочно. . . Вы должны стать огнем, чтобы творить чудеса. . . Будьте грозовой тучей всех нас освобождающей революции».
Хотя слово о перманентной революции и не принадлежит Бакунину, нельзя себе представить революционера, для которого оно было бы характернее, чем для Михаила Бакунина. Мысль о конце революции или хотя бы о ее длительной передышке, была для Бакунина непереносимой, что делало его в глазах даже самых близких соратников опасным для дела вождем. Этим объясняются известные слова французского революционера Косидьера: «Что за человек. В первый день революции он неоценим, но во второй его следовало бы, собственно, расстрелять».
Вдумываясь в сущность бакунинского разрушительства, нельзя не почувствовать, что за его революционной политикой скрывается вера в творческую силу хаоса, а за его атеизмом — мрачная вера в Разум: «Доверимся вечному Разуму, лишь потому всеразрушающему, что он непостижимым образом таит в себе источник жизни и созидания». Это скорей похоже на позднего Шеллинга, чем на Карла Маркса, вместе с которым Бакунин основал первый Интернационал, из которого впоследствии Бакунин был исключен.
Сущность верования русского революционного ордена можно охарактеризовать двумя словами: «Европа и Свобода». В политических идеях Ткачева, Нечаева и Бакунина впервые зарождается предательство этих идеалов, кульминирующее в ленинской концепции большевистской партии. Захват власти Лениным нанес русской интеллигенции смертельный удар. Многие ее представители ушли в эмиграцию. Наиболее значительные и непреклонные из оставшихся в советской России были сосланы или расстреляны. Остальные применились к новому миру, лишь немногие — по убеждению, большинство из-за тяжелой нужды. Высший идеал интеллигенции всех партий и направлений — Учредительное собрание, было хотя и созвано (1918 г.), но тотчас же и распущено, так как в нем большинство голосов получили не большевики, а социалисты-революционеры (из 707 депутатских мест коммунисты получили лишь 175). С роспуском Учредительного собрания начинается последовательное проведение в жизнь тех антидемократических ткачевских принципов, что были провозглашены Лениным еще в 1902-1903 году.
В отличие от социалистов-народников и социал-демократов европейского образца, Ленин не считал, что главная роль в революции должна принадлежать народу, в частности, пролетариату. Еще с юношеских лет он твердо верил в то, что лично ему открыта абсолютная истина. Этой истине и надлежит подчинить пролетариат, склонный ограничиваться чисто экономическими, профсоюзными
185
требованиями. Дело революции может быть выиграно лишь «профессиональными революционерами», крепко спаянными в иерархически построенную и централистически организованную партию.
Такая структура партии вела за собой необходимость строить новую Россию не на демократических, а на бюрократических началах. В качестве переходного строя Ленин выдвигал диктатуру пролетариата. Насколько странным все это показалось даже близким Ленину социалистам, видно из дискуссионного замечания Троцкого на съезде 1902-1903 года: «Ленин хочет, собственно, не диктатуры пролетариата, а диктатуру над пролетариатом». В ответ на ленинскую статью «Шаг вперед, два шага назад» (1904 г.) встречаются еще более резкие слова того же Троцкого: «Если бы Ленин пришел к власти, то он обвинил бы перед Трибуналом все движение пролетариата в умеренности, причем львиная голова Маркса первая скатилась бы под ударом гильотины».
Во главе нечаевской программы стоят, как было уже сказано выше, скорее богоборческие, чем экономические требования. Своим определением веры в Бога, как «труположества», Ленин далеко опередил нечаевский аморализм, чем и объясняются поистине преступные способы борьбы с верой и Церковью, в особенности в первые годы большевистской революции.
Насколько явно в мышлении и действиях Ленина выступают ткачевский фашизм и аморальность Нечаева, настолько трудно уловить в них связь ленинского и бакунинского разрушительства. Бакунинская всеразрушительная тактика была Ленину близка, но почти мистическую веру Бакунина в творческие силы хаоса Ленин, конечно, не знал. Для углубленного понимания бакунинской темы в большевистской революционной тактике не лишне дать себе отчет в том, что праотец разрушения, сатана, именуется Церковью подражателем Господа Бога — Imitator Dei. Этой разрушительной имитацией и пользовался Ленин. Для уничтожения Христовой Церкви быда создана красная. Для уничтожения старой, кадровой армии была организована «Красная гвардия», милиция, а затем Красная армия. Ради разрушения старой, для многих коммунистов родной направленческой литературы (Горький и его окружение), громогласным Маяковским был создан новый футуристический фронт. Причем характерно, что во всех новшествах оставались приспособленные к новому положению вещей элементы старых форм: ведь даже и коммунистическая партия имитировала церковные обряды.
Все сказанное неопровержимо доказывает, что русская интеллигенция трагически заблудилась на своем пути. Ее страстное желание свободы выродилось, как это уже предсказывал Достоевский, в свободо-ненавистническую деспотию. В первые после большевистской революции годы Москва скорее напоминала Москву XVII века,
186
чем Европу. Да и сейчас, несмотря на американские небоскребы, она далека от свободолюбивого Запада и по своему духу напоминает скорее раскрепощенную теократию Ивана IV, чем тот демократический строй, за который более ста лет боролась русская интеллигенция.
Утверждение этого, бросающегося в глаза, сходства ни в коем случае не является тем почти слепым отожествлением царизма с большевизмом, которым часто грешат западноевропейские публицисты. По их мнению, большевизм есть, в сущности, ничто иное, как вполне понятное и последовательное продолжение царского режима: уже при царе подчиненная государству Церковь осталась подчиненной ему и при большевизме; характерный для монархии империализм естественно удержался и в советском государстве; как царская Россия не признавала свободы совести, особенно в области политики (даже проповеднические сочинения Толстого должны были печататься за границей), так же наследственно не признает ее и большевистская. Словом, все осталось по-старому.
Явное заблуждение подобных полемических сопоставлений можно было бы легко доказать неоспоримыми фактами и точными цифрами. Но дело не в единичных фактах и не в логических доказательствах. Дело в непонимании глубокой разницы между недостатками и преступлениями монархии и недостатками и преступлениями Советского Союза. Разница эта заключается в том, что монархию, исповедавшую православие, и можно и должно упрекать в содеянных ею тяжелых грехах, так как грех — основная категория христианского сознания. Упрекать же большевизм за греховность его убеждений и действий — бессмысленно, так как последовательное материалистическое сознание не знает понятия греха. В этой неупрекаемости большевизма, который он сам считает своей безупречностью, состоит его тягчайшая вина перед Россией и человечеством. Монархия не давала России свободы по своему нравственному несовершенству, большевизм же держит ее в рабстве, уверенный в абсолютном совершенстве своего научного миросозерцания и своих политических убеждений.
Число интеллигенции в старом смысле в Советской России в настоящее время весьма незначительно. То, что за границей считается новой советской интеллигенцией, является полной противоположностью тому, чем были рыцари интеллигентского ордена. Старые интеллигенты были профессионалами идеологических построений и явными дилетантами в практической жизни. Представители советской интеллигенции большей частью только «спецы». Спрашивается: есть ли у похороненной Лениным русской интеллигенции старого стиля еще шанс на воскресение? Можно ли, варьируя известное изречение, воскликнуть: «Русская интеллигенция умерла, да здравствует интеллигенция!» Подробный ответ на этот судьбоносный во-
187
прос русского будущего завел бы слишком далеко. И потому лишь вкратце: да, старая интеллигенция должна воскреснуть, но воскреснуть в новом облике. Не только России, но и веем европейским странам нужна элита людей, бескорыстно пекущаяся о страданиях униженных и оскорбленных, которых еще очень много в мире, строящая свою жизнь на исповедании правды, готовая на лишения и жертвы. Вот черты старой интеллигенции, которые должны вернуться в русскую жизнь.
Дух же утопизма, дилетантского распорядительства в областях жизни, в которых ничего не понимаешь, и легкомысленной веры в то, что истины изобретаются философами, социологами и экономистами, а не даруются свыше, должен исчезнуть.
Образ Алеши Карамазова, посланца Церкви и монастыря на служение миру, еще не воплощен в русскую жизнь. Это воплощение — задача будущего. Для ее успешного разрешения надо отдавать себе отчет в том, что христианской политики никогда не было и никогда не будет. Но невозможность христианской политики, о которой могут мечтать лишь утописты, не отрицает трезвой политики христиан, задача которой не воссоздание святой Руси, а строительство истинно-гуманной, заботящейся о каждом человеке, ответственной в правовом и моральном отношении, далекой и от злой борьбы интересов и от слепой партийной ненависти демократии.
188
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
