13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Кипарисов В. Ф.
Кипарисов В. Ф. О церковной дисциплине
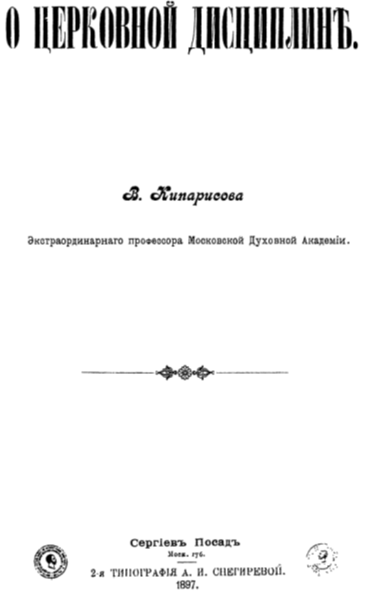
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
В. Кипарисов
О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Сергиев Посад
1897
СОДЕРЖАНИЕ.
Стр.
I. Учение веры и дисциплина в их взаимоотношениях 1— 93.
II. Существо дисциплины и ее свойства 94—133.
III. Вопрос об изменяемости дисциплины 134—222.
IV. Меры и средства церковной дисциплины 223—250.
V. Отлучение, его причины и истинный характер 251—299.
VI. Канонические последствия отлучения как церковно-дисциплинарного средства 300—346.
1
I. Учение веры и дисциплина в их взаимоотношениях.
В богословской науке раздельно рассматриваются две области: область веры и область дисциплины. „Учение веры“—с одной стороны, а с другой—предметы дисциплины, „установления дисциплинарные“: термины эти нередко почти противополагаются одни другим, и во всяком случае не отожествляются. И в самом деле — вера есть акт внутренний, во вне показуемый только чрез исповедание, подобно тому как состояние мысли и чувства показуемо лишь чрез слово и действие; „учение веры“, или учение о том, что воспринимается верою, точно также составляет предмет внутренней жизни и состояния человека (твердость убеждения в истинности учения веры, или наоборот колебание в вере, ревность к учению веры, или равнодушие к этому учению, правота или заблуждение в содержимой вере и т. д.). Дисциплина же имеет своим предметом область действований христианина, обусловливаются ли они требованиями христианского нравственного закона, или вытекают только из требований церковного благоустройства. Поэтому не только старинное школьное богословие запада (а вслед за ним и наше русское, в эпоху его зависимости от западных систем), но и западная официальная терминология обозначали эти две области—одну, как область того, quae credenda sunt, другую как область того, quaeagedna sunt. Но так как носительница содержания веры, иначе учения веры, есть мысль человеческая; то вследствие этого облает веры справедливо будет назвать и областью мысли: ибо учение веры, будучи усвояемо сердцем, даруется христианину в тоже время и как «учение для уразумения“, иначе—как учение для по-
2
знания 1). В самом священном Писании можно различать то, чему Писание научает христианина „касательно веры“, и чему „касательно благочиния церковного и правил жизни" (Филарет) 2). Эта раздельность учения веры и дисциплины равно сохраняется и при поступательном, конечно в известном относительном смысле, развитии того и другого начала в исторической жизни церкви, развитии, при котором ступени обоих порядков идут, так сказать, не совпадая одна с другою, но лишь параллельно сопровождая одна другую 3).—Возникает ближайший вопрос: это раз-
1) „Познание истинного Бога и правая вера в Него“ есть первое условие благоугождения Богу (Прав. Катех.). Соотношение между познанием, следовательно, мыслительной деятельностью как первым моментом, и верою, как моментом дальнейшим, улавливаемым познанием, и у древних богословов представляется в том же самом виде, как это можно донимать из указанной формулы Прав. Катехизиса. Вера — от слуха, по Апостолу. „Слыша божественные Писания, веруем учению Св. Духа", говорит св. Иоанн Дамаскин. «Не знающий истины не может истинно веровать, ибо знание по природе предшествует вере*. Блажен. Феодорит, говоря о словах апостола Рим. X, 14 — 15, замечает: „невозможно, чтобы уверовал тот, кто не восприял учения". Вера имеет нужду в познании, как и познание в вере, и ни первая без второго, ни обратно, не может существовать (он же). Отсюда: γνῶσις τῶν δογμάτων и вера во Христа поставляется в соотношение „с познанием евангелия» (Клим. Алек.) и „знание есть твердое и основательное показание того, что усвоено чрез веру“ (он же).
2) Слово о преданиях, Слова, изд. 1848, II, 55.
3) Митр. Макарий, Слова, 1891, 453 — 6, рассуждает: „в целости и неизменности соблюдает православная церковь божественное учение(веры), но, когда возникали искажения в вере, пастыри церкви определяли и излагали спорные догматы с большею точностью и раздельностью, нежели как они были предлагаемы до того времени. Равным образом, во всей целости и неизменности сохраняет православная церковь и богоучрежденные священнодействия. Но, во власти, от Бога данной, она никогда не сомневалась более и более раскрывать и устроят это богослужение... Неизменно сохраняет православная Церковь и данное ей от Бога устройство и управление. Но кому неизвестно, что предстоятели церкви составляли, на основании коренных правил, новые каноны для руководства верующих, что и доселе власть православной Церкви продолжает давать новые постановления, применяя древние законы к новым потребностям?“ Следовательно, Макарий различает в жизни церкви три начала: вера, богослужение и управление. По очевидно, что два вторые начала могут быть объединены в одно —по общему признаку, им свойственному, именно: им принадлежат, как их необходимое состав-
3
деление веры и дисциплины есть ли только произведение богословия, и при том богословия созданного под влиянием каких-либо вероисповедных особенностей, или же это факт самых основоположений христианской церковно-исторической жизни, независимый от результатов развития богословских умозрений и исследований?—для решения этого вопроса, имеющего, как увидим в последствии, далеко не один чисто умозрительный интерес, мы должны прежде всего обратиться к историко-догматическим памятникам древности. Это будет—путь, прохождение которого важно в целях настоящего исследования.
Нам нет надобности касаться вопроса о том, что есть вера как акт внутренний. Относительно же учения веры в памятниках древности мы прежде всего встречаемся с фактом запрещения „произносити или писати или слагати иную веру, кроме определенные от святых отец в Никее-граде, со Святым духом собравшихся“. (Вселен. Собор. IV, 7). Здесь под именем веры разумеется конечно символ веры, иначе сказать—всеобщеобязательная формула, «определение того как должно веровать“ (ὅρος τῆς πίστεως; μάθημα, πῶς δεὶ πιστεύειν)· Смысл же этого запрещения однако лишь тот, что в церкви отвергнута возможность вероизложения иного, т. е. противоположного, содержания, — вероизложения которое отрицает то, что здесь утверждается и наоборот,—но никак не отвергнута потребность и возможность вероизложения в дополнение к данному или принятому церковью. „Чтобы не только утвердить верующих в православии, но и предохранить от всякого совращения, Святая Церковь давала и дает им по временам, кроме постоянных кратких образцов веры, составленных соборами, и обстоятельнейшие изложения веры, направляя эти последние против ересей и расколов, и потому раскрывая некоторые истины с новых сторон, с каких они не были раскрываемы прежде“ 4)! Но и в вопросах веры должно различать сторону богооткровенную, в собственном смысле и единственно догматическую, и сторону церковно-богословскую, составляющую предмет и
ное начало, известные внешние действия; вера же может быть и сокровенной.
4) Макарий, ibid.
4
результат изысканий богословов в области предметов Божественного откровения. Митрополит Платон в этом отношении рассуждал таким образом: „всякий христианин должен веровать всему тому, что нам в Слове Божием открыто, и особливым некоторым образом—всему тому, что нам в Евангелии сообщено, потому что всего Священного Писания намерение и конец есть истинная вера в Бога и Спасителя Нашего И. Христа, — а такая вера открывается в Евангелии“. Руководством в познании и усвоении верующими истин богооткровенных служит Символ веры. Это, однако, по мысли Платона, не значит того, что все, что не содержится в Символе, то не составляет учения заслуживающего внимания христианина и могущего называться христианским: символ есть только формула необходимого для христианина учения, необходимого, конечно, для спасения. Но существуют еще предметы, учение о которых для спасения, как и ведение этого учения, не необходимо: совокупность этих предметов и образует собою предмет собственно богословия, которое есть произведение поощряемой, но не всегда авторизуемой церковью,— как это, наоборот, должно сказать о формуле учения, заключенного в символе,—деятельности богословствующих умов. Кроме того, в вопросах собственно веры, но мысли того же нашего богослова, не должно быть упускаемо из виду различие предметов по такому началу. Именно: „учение христианского не могут все догматы за равные почесться, но иные из догматов учения (суть) и самые высшие, и самые нужные, как рассуждение о Св. Троице, воплощение, оправдание, призвание язык и надежда о будущих, а иные суть и низшие и менее нужные, как например, где будет ад“? Высокие и самонаинужные догматы составляют, по мысли Платона, необходимо всякому нужный образец (формулу) учения, которое и заключено в символе, а совокупность необходимых ко спасению догматов и догматов не необходимых образует то самое „богословие, коему пространно и подробно учат в школах“ 5), но которое не составляет необходимую сторону.
5) Платона, Катех., соч. ч. VII. 40—41. Он же еще замечает: „не всем людям надобно (т. е. надобно для опасения), чтобы были богосло-
5
существования самой церкви, ибо церковь не есть учреждение для знания, а для веры и спасения, и в ней законно может существовать как и достигать надлежащих целей и тот, кто мало знает, не ясно исповедует, но право верует и право живет. Мысль о необходимости различения догматов с этой точки" зрения поддерживалось и другими нашими богословами прошлого столетия, равно и нынешнего. В известной книге „о должностях пресвитеров“ читаем: „вера состоит во многих членах, из которых одни суть главнейшие, и так нужны ко спасению, что без знания оных спастися невозможно. А другие не столь нужно знать, особливо людям простым, яко относящиеся к подробнейшему изъяснению первых“. Примеры тех и других почти тождественны с примерами, указанными у Платона 6). К нашему вопросу не относится также разыскание пределов, в которых допустимо это стремление „к подробнейшему изъяснению предметов веры“. Но во всяком случае пределы эти справедливо намечены так: „само Божественное Откровение об иных предметах нашей веры сообщает нам большее познание, о других меньшее — сообразно с потребностью сего познания для спасения человеческого. Так же и церковь и св. Отцы в изложении веры не о всех догматах говорят одинаково пространно, но пространнее о тех, которые того требуют. Таково же должно быть и отношение богослова к догматам веры“ ’). Стремление же все одинаково выразуметь есть излишество, существом веры для спасения не требуемое. Отсюда и в самом богословствовании можно создать „лишние вопросы“, по выражению древнего богослова (св. Григория). Это различие веры от
вами“. Митрополит Филарет, как будто бы имея в виду между прочим эту мысль Платона, говорил: „Церковь немногих удостоила имени богословов, однако ж никому в христианстве не позволено быть вовсе не ученым и оставаться невеждою“, разумеется в отношении предметов веры. Слов. I, 263. След. в известном смысле надобно, чтобы вое христиане были и богословами: лучшее доказательство необходимости просвещения, без которого, что бы ни говорили, не возможно богословствование.
6) Книги § 17.
7) Филарет, Собран. отзывов и мнений, V, I. 353.
6
богословия, сверх того, обусловливает возникновение так назыв. личных мнений, вследствие чего, при разрешении вопросов учения веры должно быть обращаемо внимание и на то, имеет ли известная мысль действительно догматическое значение, или по своему происхождению она есть лишь благочестивое умозрение частного лица. По этому, в свою очередь, по выражению митрополита Филарета, „каждая богословская мысль должна быть принимаема только в свойственной ей мере силы“, иначе сказать не должно быть принимаемо как нечто равнозначащее—строго вероисповедное положение и одно только домышлению богословствующего ума 8).—Но то не многое, что до сих пор было сказано, составляет собою однако же главные положения, которых ни в каком случае но должно упускать из виду при вопросе об учении веры в его отношениях к общецерковной жизни и к жизни индивидуальной, — и напомнив эти положения, обратимся к области исторических памятников, заключающих в себе данные к уяснению ближайшего нашего вопроса, то есть, вопроса о том, составляет ли раздельность веры и дисциплины только произведение богословских систем, или же эта раздельность существует но по человеческим домышлениям и надобностям 9).
8) О значении личного мнения митроп. Филарет между прочим замечает: „какая нужда воевать против мнении невраждебных никакому догмату?“ Письм. к Алексию, № 26. Но нашему мнению, эти несколько слов знаменитого богослова составляют собою наилучшим образом выраженное право на существование, кроме веры, еще и богословской науки, если она не враждует против догматов.
9) При дальнейшем ходе речи о различии учения веры и дисциплины мы не упускаем из виду, хотя нарочито сего и не касаемся, следующего обстоятельства: говоря, что область дисциплины составляется тем, quae agenda sunt, мы подразумеваем, что, строго говоря, и в самой этой последней области есть две стороны, существенно разнствующиеся: область церковной дисциплины в тесном смысле и область нравственной дисциплины, или дисциплины жизни христианской в обширном смысле. Разность же между обеими областями в том, что действия одного и того же порядка имеют не одинаковое значение для христианина. Именно, между тем как акты церковной дисциплины спасительны для христианина лишь как вспомогательное средство, содействующее нравственной жизни в собственном смысле, и потому они ценны только как сродство, и, в особых случаях, как свидетельство подчинения
7
Было бы трудно, конечно, исчерпать все памятники богословской литературы, а также письменности канонической (официальной), и указать здесь все разнообразные случаи, в которых ясно разграничиваются эти две области: веры и дисциплины. Поэтому мы попытаемся указать лишь наиболее характерные свидетельства того, как в древней церкви и в древнем богословствовании эти две области понимались именно в отношении к вопросу об их раздельности. Естественно, что здесь прежде всего приходится обратиться к родине самого термина „дисциплины“— к латинской церкви.
Равнейший из латинских памятников, где встречается употребление слова: disciplina и притом уже с эпитетом: церковная (ecclesiastica), есть памятник, известный под именем Мураториева фрагмента. Фрагмент этот, по своему происхождению, признается почти современным известному „пастырю“ Ермы, то есть, относится ко времени не позднее первой половины второго столетия. Но судить о том, какое должно будет дать определение понятию с этим словом в то время соединявшемуся, на основании отрывка будет трудно. Точно также, сколько ни желательно было
Церкви, причем значимость одного и того же акта может изменяться (например, манихейский пост по презрению творения Божия и пост как средство обуздания чувственности): действия нравственные в собственном смысле, при каких бы условиях они ни совершались (разумеется, согласно с требованиями действительно христианской этики) составляют собою всегда положительное средство оправдания пред Богом. Дарование насыщения алчущему, например, никогда не составит собою только условно хорошего действия. Посему совершенно естественно, что в самом учении христианском от догматов различается учение этическое. Уж из Оригена видно, что богословское умозрение разделяло собственно догматику от догматической этики. Он полемизирует против Цельса, „укорявшего нашу дисциплину нравственную“ (ἠθικὸς τρόπος, disciplina morum) и „называвшего наше учение (δόγμα, doctrina) безумным“ (Contr. Ceslsum, I, 4. 7). Златоуст рассуждал: „видите ли полноту и совершенство молитвы (литургийной за оглашенных), объемлющей и догматы веры, и правила для жизни человека? Ибо когда говорим о Евангелии, об одежде нетления, о бане пакибытия: сим воспоминаем о догматах. Когда же говорим о Божественном разуме, целомудренном помысле, и о прочем, о чем мы выше сказали, то сим указываем на жизнь“ и проч. (см. Толков. на 2 посл. к Коринф. р. перев., 1843, стр. 57), Ср. митр. Филарета: „два вида спасительного учения: догматы и заповеди".
8
бы знать точный смысл употребления этого термина в слове Божием, но от этого приходится отказаться, но упуская, конечно, из внимания и того обстоятельства, что то или другое употребление было бы все-таки свидетельством не оригинала Писания, а свидетельством понимания позднейшего переводчика: разумеем Иеронимову Вульгату. По замечанию одного библиолога, можно наблюдать, что Иеронимова Вульгата одно и тоже слово еврейское Ветхого Завета передает различно, то словом: disciplina, то словом: doctrina, тогда как последнее в языке собственно латинского богословия, как сейчас увидим, употребляется почти синонимично с верою (fides) в смысле учения веры. Так в кн. Притчей по Вульгате (гл. I. 2) disciplina отвечает греческому παιδία и русскому: наставление. Но в стихе седьмом той же главы выражение тождественное с выражением стиха второго передается уже через слово: doctrina (поэтому и русский перевод для передачи этого слова здесь употребляет тоже самое слово: „наставление“, которое употребляет и в стихе втором). В стихе 29 disciplina отвечает греческому в главе VIII, 10
встречается сочетание обоих выражений doctrina и disciplina в таком виде: accipite disciplinam meam; doctrinam magis, quam aurum eligete. (Русск. перевод: приимите учение мое; лучше знание, нежели золото) 10). Но это, очевидно, но указывает еще на то, что именно соединялось с выражением дисциплина, как с термином богословского языка. Первый латинский писатель, а он же есть и соз датель, по крайней мере латинского, богословского языка,— у которого слово дисциплина употребляется устойчиво и
10) О слове: доктрина, которое теперь и в богословии не употребляется уже иначе, как в применении к учению теоретическому, заметим, что в Новом Завете по Вульгате оно служит для передачи греческого διδαχή. Так Иоанн. VII, 16: „Мое учение“, греческое — ἡ ἐμὴ διδαχὴ, по Вульгате: „mea doctrina. Сравн. также Евр. XIII, 9 „учения чуждые“ греч, διδαχαί ξέναι, doctrinae peregrinae. Тоже и у многих греческих церковных писателей: doctrina отвечает выражению διδαχή, например в латинской версии Учения Двенадцати Апостолов, у Иустина мученика, Феофила и других. Примеры—у Свнцера, Thesaurus ecclesiasticus, υ. διδαχὴ,— хотя, нужно прибавить, собственно у греческих отцов для соответствия латинскому doctrina употребляется и не одно ото выражение, а также и διδασκαλία, δίδαγμα и др. См. там же.
9
систематически, как неподлежащий недоразумениям термин, и почти не заменяется в однородных случаях терминами другими — есть Тертуллиан. Относящиеся сюда суждения Тертуллиана и терминология его представляются в следующих примерах, обращая внимание на которые мы должны заметить, что термин дисциплины у Тертуллиана встречается так часто, как едва ли у кого из других латинских писателей, что конечно и понятно, если принять во внимание содержание его творений. Говоря о еретиках в знаменитом de praescriptionibus, Тертуллиан отмечает факт той близости, с какою еретики обращаются. с языческими магами, астрологами, философами, и делает такое приложение из этого факта: уже, говорит он, „по поведению еретиков можно судить о качестве их веры, так как дисциплина (вообще) бывает показателем доктрины“ (doctrina index disciplinae est), т.-е. учения теоретического. „Если еретики учат, что не должно бояться Бога: то для них все становится позволительным и все для них разрешено. Ибо когда люди перестают бояться Бога, как не тогда, когда у них является уверенность, что Он—не существует? Нет Бога—значит нет истины; а нет истины, конечно, не нужна становится и дисциплина“ (ubi veritas nulla est, merito et talis disciplina est) 11). Из приведенных слов видно, что
11) Доктрина, наоборот, у Тертуллиана всегда употребляется для обозначения веры (fides), в смысле учения веры. Так, например, ibid. cap. 20, он говорит, что апостолы „проповедывали народам одно и тоже учение (doctrinam) одной и той же веры (fidei)“. Здесь же употребляет выражение: „насаждение веры и семена учения (doctrinae)“. В следующей главе Тертуллиан говорит: „всякое учение (doctrina), которое согласно с учением апостольских церквей, как рассадников и первоисточников веры (matribus et originalibus fidei) должно быть принимаемо за истину, всякое же другое учение (doctrina) должно быть принимаемо за ложное и остается показать: наше учение, (doctrina), правило коего мы представили, согласно ли с преданием апостольским?'· и проч. Или в том асе сочинении Тертуллиан доказывает, что апостольскими церквами должны быть признаваемы не только церкви основанные апостолами, но даже и те, которые теперь основываются: и эти последние, если они пребывают в одной и той же вере (in eadem fide) не менее апостоличны по сродству доктрины с апостольскою (pro consanguinitate docrtinae, cap. 23.), Там же, наконец, термином doctrina он обозначает учение
10 —
под термином веры Тертуллиан разумеет учение веры, и, следовательно, в этом смысле приравнивает к термину веры термин доктрины, как выражающий теоретическое учение о предметах христианской веры. Понятие же дисциплины у него совпадает с понятием того, что называется поведением. Последнее с особенною ясностью раскрывается в его дальнейших словах, в которых он пытается показать, каково соотношение между доктриной и дисциплиной. По мысли Тертуллиана там, где не учат (как учили Маркиониты): „Бога не должно бояться“, иначе—где есть учение о страхе Божием: „там мы встречаем неуклонную исполнительность, бдительную, заботу (о жизни), просвещенный выбор (что, кажется, противополагается еретической тенденции безразличия), заслуженный почет (выше Тертуллиан характеризует беспорядок еретических обществ в отношении к иерархии—de administratione verbi), благоговейное подчинение, скромность, церковное единение“, вот к чему в отношении к дисциплине ведет доктрина истинная! И наоборот доктрина ложная ведет к ложной дисциплине, как и разрушение доктрины ведет к разрушению дисциплины. Так в трактате о воскресении плоти Тертуллиан говорит: „никто столько не живет по плоти, сколько те, которые отрицают воскресение плоти. Ибо отрицающие наказание (в будущей жизни, наказание же подразумевает как свое условие — воскресение плоти) отвергают и необходимость дисциплины жизни в плоти“ (negantes poenam despiciunt et disciplinam)12). То соотношение, в какое Тертуллиан ставит веру и дисциплину в особенности, явствует из второй главы его сочинения de monogamia. Установление единобрачия — рассуждает Тертуллиан, иначе запрещение второго брака — психики (известно, что таким именем он называет всех немонтанистов) считают ересью на том основании, что такая дисциплина есть будто бы новость, а новость—потому, что—есть нечто не указанное в Откровении. Тертуллиан же доказывает, что но-
ап. Павла и такой же термин прилагает даже к еретическим учениям (genera doctrinarum adulterinarum).
12) De praescript. Cap, 43, Migne, Patrol. lat. II, p. 58.
11
вость здесь сама по себе не служит еще признаком еретичества, ибо этот вопрос есть вопрос не веры, но дисциплины. для усовершения нравственной жизни и дисциплины необходимы новые откровения Параклета (монтанистическая теория), как они и действительно существуют. Но если существуют и нужны новые откровения для такой цели; то действовало Параклета в области дисциплины может сопровождаться и законными нововведениями, тогда как вера — соглашается и Тертуллиан — действительно не терпит новшеств, и в ее область действиями Параклета таковых не вносится 13). „Психики, говорит Тертуллиан 14), усиливаются отвергнуть Параклета (т.-е. необходимость откровений в монтанистическом смысле) более всего потому, что считают его установителем новой дисциплины (disciplinae novae institutor) 15), для них наиболее тяжелой. Но сначала посмотрим: установил ли этим Параклет что-либо такое, что могло бы сочесться или новым по сравнению с кафолическим преданием, или отяготительным — по сравнению с легким игом Господа“. И автор рассматривает дисциплину моногамии с обеих этих точек зрения (вопрос об отяготительности моногамии, впрочем, уже в следующей третьей главе), приходя в результате к тому выводу, что моногамия не есть нечто абсолютно неизвестное в церкви Божией, как и не есть нечто составляющее иго для истинных христиан. Но пусть будет, что моногамия есть действительная новость. „Психики упрекают (монтанистов) в новости (т.-е. в дисциплинарных нововведениях). Но ведь Господь.— говорит Тертуллиан,—словами Своими у Иоанна XVI, 12 достаточно ясно предуказует, что дух Утешитель будет установлять и то, что может быть сочтено и новым, как никогда ранее по узаконенное, и в какой-либо мере может быть сочтено и отяготительным“, а посему самому не обязательным. Тертуллиан предвидит, что на это могут сказать, что по такой аргументация, к какой он обращается, Параклету может быть приписано нечто но-
13) De resurretion. carnis, с. 2, ibid. 208.
14) Попов— Тертуллиан, Киев, 1881, стр. 108-10.
15) De monogam. С. 2, Migne, t. II, 931—2.
12 —
вое в смысле христианству несвойственного, а равно и нечто отяготительное, и приписано даже в том случае, если то будет исходить от духа противления, а не от Параклета! Никак, отвечает Тертуллиан. Дух противления обнаруживает себя непостоянством в учении, повреждая ранее всего правило веры (regula fidei), а чрез это повреждая и порядок дисциплины“ (ordo disciplinae), поелику, по мнению Тертуллиана, всегда за повреждением важнейшего следует и повреждение менее важного, как и здесь—повреждению дисциплины „предшествует повреждение веры, которая выше дисциплины (fides prior est disciplina)“. Поэтому-то, продолжает Тертуллиан, „и еретиком человек сначала становится в отношении к учению о Боге (т.-е. догмы в собственном смысле), а потом уже оказывается таковым же и относительно установлений (de instituto)“. „Параклет же, имеющий научить многому из того, что Господь возвестил ему, согласно с сказанным, во-первых, будет свидетельствовать о Самом Христе, а потом уже, имея доказательство своей истинности в этом главном признаке (т. е. в свидетельстве о Христе), откроет и многое из того, что касается дисциплины (quae sunt disciplinarum). Но однако это будет дисциплина не иного Христа, а Того, Который обещал послать Своего духа“ 16). Как увидим впоследствии, мнение о том, что вся церковная дисциплина создается и существует на основе непосредственного руководства свыше, не разделялось обще-церковным сознанием: было признано, что в области дисциплины церкви в известной мере предоставлена и естественная свободная деятельность, независимая от непосредственного озарения от духа, что, в свою очередь, имеет своим следствием отрицание абсолютной неизменности дисциплины, тогда как правило веры, по выражению самого же Тертуллиана, есть immobilis et irreformabilis. Должно, впрочем, прибавить, что и сам Тертуллиан в другом месте, хотя и нарушая требование последовательности, признавал в деле обра-
16) Kellner, Tertull. Schriften, Köln, 1882, переводит здесь слово дисциплина словом: учение—Lehre,—вследствие, кажется, особой пунктуации текста им принятого, по сравнению, например, с текстом Миня.
— 13 —
зования дисциплины участие натуральных человеческих сил, и допускал исправление ее, следовательно, допускал и существование дисциплины вне откровений Параклета. „Правило веры“—рассуждал Тертуллиан—„действительно одно, и только оно одно и есть immobilis et irreformabilis, то есть (scilicet)“—поясняет Тертуллиан—„правило веровать (credendi) в единого Бога всемогущего, Творца мира“ и прочее. „Это пребывает неизменным законом веры; но прочее, что касается дисциплины а поведения (disciplinae et conversationis) допускает новость исправления, при содействии конечно (scilicet) и руководствовании благодати Божией“ 17). В том же самом отношении, то есть в отношении к признанию особности начал бытия веры и дисциплины в церкви, очень ясно Тертуллиан высказался и по поводу учения маркионитов. Маркионитское учение о несогласии между законом и Евангелием (discordia evangelii cum lege) основывалось на том что будто бы иной есть Творец Завета Ветхого и иной Евангелия (alius Deus evangolii, alius Deus legis, Lib. I, 19), иначе — иной есть Бог иудейский и Бог христианский. Если бы апостол Павел,—утверждали маркиониты 18),—проповедывал не об ином Боге, а о том же Боге Завета Ветхого: то почему же он, Павел, проповедывал отменение закона данного в этом Завете? По мысли маркионитов этого не могло бы быть при тождестве Творца обоих заветов и в том случае, если бы Павел признавал это тождество. Но по мысли Тертуллиана заблуждение маркионитов от того и происходит, что они не различают веры Завета Ветхого от закона этого завета, и апостол Павел, проповедуя о том, что ветхая мимоидоша, разумел закон, а не веру,
17) В следующей главе Тертуллиан опрашивает своих противников: если моногамия не запрещена апостолами, то „почему тот же Дух, пребывающий (с Церковью) для того, чтобы приводить дисциплину ко всякой истине (ad deducendam disciplinam in omnem veritatem: последнее, очевидно, у Тертуллиана есть произвольное применение текста!) с течением времени не мог бы наложить большей узды и на похоть плоти“? То есть, почему, если и не узаконена моногамия в Писании, ее не могла бы установить и сама Церковь, которую руководит тот же Дух даже в ее деятельности дисциплинарной.
18) De virgin. veland. с. 1.
— 14 —
и при том не потому, что закон происходил от иного Бога, а потому, что он и по существу своему не предназначен был для абсолютного хранения, как имеющий значение лишь средства для веры. „Вера в Творца и в Христа Его всегда неизменно существовала (stabat), но образ поведения и дисциплины (conversatio et disciplina) были изменяемы“. Этого, по Тертуллиану, и не понимал Маркион, отрицая тождество веры Ветхого Завета и Нового на том только основании, что дисциплина древняя заменена дисциплиною новою, между тем как и в Ветхом Завете должно разделять дисциплину и веру 19). Эту ветхозаветную дисциплину Тертуллиан называет или disciplinalegis или disciplina legatis, а ту, так сказать, естественную идею, которая лежала в основе этой древней дисциплины, характеризует таким образом: „Бог (в Ветхом Завете), определяя самые отношения людей во внешней жизни и образ поведения в домах их и вне домов, снисшел даже до того, что дал заповедь касательно чистоты сосудов“, для чего? Это для того, чтобы „при существовании во всем такой узаконенной дисциплины (очевидно, — в смысле твердого порядка жизни, istis legatibus disciptinis occurrentibus ubique), человек ни на один момент не был вне надзора Божия“ 20). Вера, таким образом, и Ветхого и Нового Завета одна и та же; но дисциплина есть и „собственно христианская“, от ветхозаветной отличная: disciplina propria Christianorum, каковою собственно христианскою дисциплиною Тертуллиан называет, между прочим, и моногамию. Параллельно с таким пониманием значения ветхозаветной дисциплины, под дисциплиною церкви новозаветной Тертуллиан разумеет все то, что отличает существование христиан от нехристиан — в совокупности всего быта и поведения (conversatio), а не в одной только религиозной доктрине. По-видимому, во время Тертуллиана из отменения Ветхозавет-
19) По мнению Маркиона, только Апост. Павел правильно уразумел новую религию, а Маркион в своих воззрениях следует только Павлу. Но Павел, будто бы, отвергнул всякое значение Ветхого Завета в смысле приготовления к христианству.
20) Advers. Marcion. I, с. 21. Migne, lat. II, 270.
15 —
ной дисциплины иные выводили заключение, что свобода во Христе не согласна с ограничениями, вносимыми установлением дисциплины; иначе будто бы будет продолжать существование тот же Ветхозаветный закон, отвергнутый уже Заветом Новым. Тертуллиан на это соображение отвечал: закон и пророки, конечно, до Иоанна, по слову Господа (Мф. XI, 13). Так. Но если на этом основании мы отвергли бы преступность блуда, признанного таковым и в Законе Ветхом: то по истине разорили бы тот закон, который Христос пришел не разорить, но исполнить. „Ибо отвергнуты,—говорит Тертуллиан,— тягости закона до Иоанна, игодел закона, но не дисциплина (operum juga reiecta sunt, non disciplinarum) ; и свобода во Христе (па которую ссылались) не причинила ущерба целомудрию“. И потому „пребывает совершенно неизменным закон благочестия, святости, человечности (humanitatis), истины, чистоты, сострадания, благожелательности, стыдливости“. Все подобное—ничуть не отменено, и оно-то и составляет дисциплину, нужную для христианина столько же, сколько она была нужна и для человека подзаконного; оно-то и составляет то различие, которое, кроме веры, образуется между христианином и нехристианином. В 19 гл. de praescription. Тертуллиан рассуждает о принципах спора с еретиками. Спорить с еретиками, по его мысли, на основании писания невозможно, ибо оии то нс принимают всех писаний, то принимая, произвольно обращаются с ними. Здесь победа или невозможна, или сомнительна. Поэтому „порядок вещей требует, чтобы сначала было установлено то, кому принадлежит самая вера (ipsa fides)? Кому писания? Кем, чрез кого, когда и кому предана была та дисциплина, по которой существуют христиане (disciplina, qua fiunt Christiani)? Ибо, когда будет ясно, что истина свойственна дисциплине и вере (discipt. et fides) христиан; это ясно будет показывать и то, что нам (а не еретикам) принадлежит подлинное писание и правильное изъяснение его; здесь же будут и все подлинно христианские предания“ 21). В некоторых местах
21) Ibid. е. 19, Говоря также о Ветхозаветном Законе обрядовом (adv. Judeos, e. 2, Migne, II, 600) Тертуллиан называет его дисципли-
16 —
Тертуллиан явно дисциплину ставит не только параллельно вере; но делает к этому параллелизму некоторые аналогии. Так он говорит: „един Бог, едина вера, едина и дисциплина“ (una et disciptina)—в развитие той мысли, что как вере несвойственна противоречивость, так этого не должно быть и в дисциплине: дисциплина должна быть согласована в своих отдельных частях, только тогда она бывает едина! 22).
Можно сказать, таким образом, что у Тертуллиана вопросы всей вообще практической жизни в христианстве носят термин дисциплины, будут ли эти вопросы относиться к индивидуальной или общественной жизни, к жизни чисто нравственной, или к жизни соприкосновенной с областью церковно-правовой. Отсюда происходит разнообразие предметов и отношений, к которым Тертуллиан прилагает этот термин, так равно и разнообразие сочетаний, в которые термин входит. Он говорит об ordo disciplinae на вечерях любви и о том, что—omnem disciplinam victus (cibus) aut occidit, aux vulnerat. Существуют по Тертуллиану vanae soculi disciplinae, т. о. суетные приличия мира, в противоположность христианской дисциплине; существует divina disciplina: „порок отвлекает людей от божественной дисциплины“, т. е. от правил христианской морали. Встречается не только дисциплина как синоним conversationis, но и сочетание: disciplina et conversatio — для обозначения всевозможных общений внешней жизни 23). Есть у Тертуллиана не только „дисциплина мо-
ною: „что удивительного, если умножает дисциплину (т. е. количество узаконений) Тот, Кто установил ее?“.
22) Переводчики (Kellner, II, 18; ор. также Buchon, Paris, 1838, и русский переводчик СПБ. 1849) склонны передавать слово: disciplina (qua fiunt) чрез доктрина, учение, и следовательно склонны считать, что термин дисциплины Тертуллиан употребляет как синоним к доктриною, верою, учением веры. Но тогда будет неясно, какой же смысл имело выражение Тертуллиана: veritas et disciplinae, et fidei christinae, т. e. смысл сочетания обоих этих слов, и при том сочетания разделительного, не говоря уже о том, что дисциплине, очевидно, отвечает указание на „истину преданий".
23) Тертуллиан свои доказательства непозволительности второбрачия основывает на том, между прочим, соображении, что если второбрачие запрещено для священника, то это уже со ipso заключает в себе за-
— 17 —
ногамии“, „дисциплина покрывала“, но и „дисциплина молитвы“ (disciplina orandi) и дисциплина священства“ 24): вообще есть дисциплина, как в малом, так и в великом. Перечисляя рад чисто литургических актов и обычаев, как-то: молитва за усопших, непреклонение колен в день воскресный, празднование дней мучеников, Тертуллиан называет все это дисциплиной, и при этом замечает: „если на эти и иные подобного рода дисциплины (harum et aliarum ejusmodi disciplinarum), потребуешь закона, данного в Писании; то не найдешь там никакого на это закона“ 25). Но при этом разнообразии в употреблении термина у Тертуллиана всегда явственно следующее: если res fidei есть то, quae creditur, откуда и его понятия о regula fidei, т. е. о символе, как о такой норме, qua creditur (de prescript. 13): то свойством дисциплины является observatio, иначе—дисциплина есть то, quae conservantur, или как в иных местах Тертуллиан употребляет, quae conservanda sunt. Disciplina velaminis, например, по Тертуллиану, не составляет с какой-либо стороны вопроса веры, а составляет вопрос соблюдения или несоблюдения,— соблюдения, в котором и должпо быть исследуемо ratio observationis, а это последнее ratio в свою очередь может составлять предмет только предположения или несомненного знания,—как и наоборот здесь может быть и ratio отвержения. Поэтому, назвав „дисциплинами“ указанные предметы, несколько ниже те же самые предметы Тертуллиан называет „христианскими соблюдениями“ (christianae observationes).—Таким образом, Тертуллиан, можно сказать, почти создал термин дисциплины и употребление
прещение второбрачия и мирянину, на отсутствие лакового запрещения в Писании, по-видимому, указывали, не оспаривая существования запрещения для священника. Ибо, по Тертуллиану, не может быть двух разных дисциплин в отношении к одному и тому же предмету, так как в той или другой дисциплине выражается оценка предмета, которая, если претендует на правильность, всегда должна быть одинакова, или сама себе равна.
24) De jejuniis, с. 6. ad uxorem, I, 5. de testim. anim. 2.
25) Но Тертуллиану различается: jus sacerdotis и disciplina sacerdotis. „Если ты имеешь право священства, нужно, чтобы ты имел еще и дисциплину священства“. Нарушением дисциплины священства он и считает второбрачие в священстве.
18
этого термина в тертуллиановском смысле составило потом достояние богословской науки всех времен. Но этот смысл во всяком случае будет тот, что область дисциплины христианской и область доктрины—не совпадают одна с другою 26), и этим мы пока удовольствуемся.
С таким же понятием о дисциплине мы встречаемся и у другого древнего богослова, для которого термин дисциплины был также природным: разумеем св. Киприана. По за-
26) De coron, milit. с. 4, Migne, II, 80.
27) Что именем доктрины Тертуллиан никогда не обозначал область дисциплины, это несомненно. Но есть несколько случаев, где под именем дисциплины у него разумеется по-видимому и доктринальная сторона. Так в praescript. С. 6. Тертуллиан рассуждает: „нам не только не позволительно вводить что-либо по своему произволу, но непозволительно принимать и то, что произвольно вводится другими. И сами апостолы лишь верно возвещали народам принятое ими от Христа учение (disciplinam)“, и Тертуллиан ссылается на слова Апостола о запрещении принимать иное благовествование. Точно также выражение его, ibid. с. 35; nostra disciplina, очевидно, лучше может быть передано; наше учение, так как слова эти служат началом рассуждений о том, что именно должно служить признаком истинности учения церкви и ложности учения еретического. „Если,—говорит Тертуллиан,— еретики отрицают истинность нашего учения (nostrae disciplinae), они должны доказать это так же, как и мы доказали относительно их учения, и пусть они также покажут, где должно искать истины, так как у них ее нет“; по Тертуллиану же критерием истинности учения должно признавать преемственность его от апостолов (ibid. с. 36). Но относительно этих случаев, указующих как будто на некоторую сбивчивость в богословской терминологии этого писателя, заметим: а) весьма ясно, что если мы подставили слово: doctrina вместо disciplina, то смысл приведенных мест ничуть не изменяется; б). В аналогических местах, даже в начале той же главы de praeseript. 6, для обозначения понятия учения Тертуллиан употребляет термин доктрины. Он говорит, что апостол в послании к Титу учит: избегать развращенных учений (adulterinae doctrinae), называя эти учения ересью. „Ересь же,—говорит Тертуллиан,—значит выбор, к которому кто-либо прибегает при установлении (этих развращенных учений) или при следовании им“. А далее он сейчас и говорит то самое, что нами приведено о запрещении вводить что-либо по выбору или произволу, но только вместо термина: доктрина употребляет уже: дисциплина, хотя речь идет об одном и том же предмете: о том, как должно обращаться с учением. Аналогические места, где для обозначения понятия: учения апостольского употребляется термин доктрины, а не дисциплины, указаны нами выше: это do praescript. с. 20. 23.— Отсюда является предположение: эта подстановка вместо одного термина другого не есть ли простая ошибка кодексов?
19
мечанию комментаторов термин дисциплины в писаниях Киприана также чрезвычайно употребителен 28), как это мы должны были заметить о Тертуллиане. Но если у Тертуллиана выражение дисциплина часто сопровождается определением христианская; то у Киприана почти постоянно дисциплина именуется церковною, disciplina ecclesiastica, чрез что еще явственнее, чем у Тертуллиана, указывается характерное свойство вопросов дисциплины:—это то, что они относятся преимущественно к церкви как к обществу видимому, к устроению ее, ко внешней стороне ее жизни, вообще—к области видимости в религии, ибо церковь, конечно, есть прежде всего видимое общество верующих, и таким образом употребительное выражение повой богословской науки у Киприана имеет свой прототип не только по одной идее, как это у Тертуллиана, но и по буквальному сочетанию выражающих идею слов. Указания на образ воззрений Киприана по исследуемому вопросу встречаются прежде всего в его письме к Антониану о падших. Способ или образ своих действий в отношении к падшим Киприан называет дисциплиною и свидетельствует, что в своих действиях он не отступает от первоначальной дисциплины (discipl. prior). За тем—перемену образа жизни порочного, но раскаявшего сына (что он берет собственно как сравнение) он называет „обращением к дисциплине“; и следовательно понятию дисциплины Киприан противополагает состояние не дисциплинированности в смысле нравственной распущенности. Сейчас указанный пример употребления этого термина (в применении к раскаянию) указывает на однородность с воззрениями 'Тертуллиана (ср. Тертуллиана disciplina modestiae et verecundiae). Как нечто уже иное, чем дисциплина, у Киприана трактуется вера (fides, доктрина же, как в известном смысле, тождественный с верою термин, у Киприана сравнительно с Тертуллианом употребляется мало). По учению Киприана в отношении к дисциплине „каждый епископ может располагать своими действиями, имея дать отчет Богу в том, почему он так действует“. Совсем иначе в отношении к вере: здесь от епископа
28) Орр. edit. Pamelii, 1616, p, 233.
— 20
требуется сохранение неповрежденности веры (in fide integritas), а не распоряжение верою, как это по теории Киприана епископ, говоря, конечно, относительно, имел право в отношении к дисциплине. Отношение между дисциплиною и верою по Киприану: сообразность первой с последнею, что подразумевалось и Тертуллианом (сравн. выше его: una fides una et disciptina 29). Во многих случаях Киприан говорит о дисциплине не как об одном каком-нибудь роде постановлений, но как о всей совокупности уставов Церкви. Так Киприан, по его выражению, желает дать Квирину „некоторые главы, относящиеся к религиозной дисциплине нашего исповедания“ (ad retigiosam sectae nostrae disciptinam pertinentia) (сравн. Тертуллиана: discipl. religionis),—дабы ему можно жить но contra disciptinam, а сообразно с дисциплиною 30). Вмешательство так называемых исповедников в вопрос об отношении к падшим, Киприан считает нарушением дисциплины; и потому выражает желание, чтобы всякий исповедник соображал свои действия с требованиями дисциплины, обязующей к скромности sit in acto suo cum disciplina modestus) 31). Или еще пример: иудеи с течением времен утратили благоволение Божие: это именно тогда, когда стали пренебрегать божественными заповедями (divina praecepta), и в этом состоянии Киприан называет их — indisciplinati, слово трудно передаваемое без помощи того же слова дисциплина 32), но слово употреблявшееся уже и Тертуллианом и впоследствии блаж. Августином. И христианам „должно соблюдать дисциплину Божию (заключенную) в церковных постановлениях“ 33). Примеры тех предметов, кои подлежат и должны подлежать в церкви дисциплинированию (sint cumdisciplina) Киприан, как и Тертуллиан, дает нам как из области общественно-христианского и даже из области частного быта. Так о молитве: „у молящихся речь и мо-
29) Орр. edit. Migne, III. 764. 787. 789. 793.
30) Орр. edit. Pamelii p. 368. 385, где дается совет; „удаляться тех, кои живут против дисциплины“.
31) ibid. р. 259, рус. пер. ч. II. 187.
32) ibid. р. 289.
33) ibid. 385.
— 21
ление да будет“ — не как кому вздумается, но cum disciplina, соединена с „памятованием о скромности и дисциплине“, т. е. как справедливо здесь переводят: с благочинием 34). И так как во времена Киприана литургические формы, конечно, получили уже большую определенность и устойчивость, чем во времена Тертуллиана, то тертуллиановское выражение: disciplina orandi у Киприана явно уже заменяется выражение traditio orandi, в основе какового предания полагается образ моления Самого Господа, которое есть „закон молитвы“ (lex orandi) и следовательно, закон христианской молитвенной дисциплины. В область вопросов дисциплины Киприан вводит вопрос о том, можно ли „иначе молиться, чем сам Господь научил“, при чем в свою очередь естественно возникал вопрос и о том, в чем должно полагать уклонение от закона молитвы, так как, ведь, по замечанию Киприана, „Господь есть слушатель не звуков молитвы, но сердец“. С своей стороны Киприан утверждает, что „говорить иную молитву словами непозволенными“ есть признак церковного сепаратизма, разрушающего дисциплину, и потому осуждаемого им. Вопрос в последней его частности, как он понимается Киприаном, не может быть рассмотрен теперь, ибо вопрос этот иначе можно формулировать так: о пределах, которые христианин, в свободе молитвенного слововыражения, обязуется не нарушать,—а в этом и сущность всего весьма сложного вопроса молитвенной дисциплины. Тем не менее нельзя не заметить, что когда Киприан выражает желание — в образе моления Господа отыскать обязательный закон молитвы, иначе дисциплину молитвы, какую имеет установить или должна бы установить церковь для своих членов; то тем самым он даст указание на важный принцип церковной дисциплины, впоследствии имевший широкое применение 35). Как
34) ibid. 264; русск. перев. II, 194.
35) „Из закона молитвы да уразумеет всякий, какова должна быть молитва“, ibid. р. 269, р. пер. 206. И если посмотреть на то, какие законы, или как, применительно к современному богословскому языку, должно бы выразиться, дисциплинарные требования действительно отсюда выводить Киприан; то нельзя будет не согласиться, что все эти „законы“ были именно теми требованиями но отношению к молитве, какие впослед-
22
на пример применения и употребления Киприаном понятия дисциплины в области литургической можно указать на его выражение по поводу того, что „в некоторых местах вошло в обыкновение приносить в чаше Господней воду“ без вина. Это—говорит Киприан—„вопреки евангельской и апостольской дисциплины (contra disciplin. evangel. eix apostol) 36). В частном христианском быту Киприан считает требованиями дисциплины такие предметы: не брить бороду, вставать на ноги, когда идет пресвитер; та или другая одежда женщин—также есть вопрос дисциплины. Его рассуждения о последнем предмете замечательны в том отношении, что из них явствует, что вопрос о пределах дисциплинирующей деятельности церкви (limites disciplinae),— термин, впрочем пока без особенного значения, встречающийся уже у Тертуллиана,—во времена Киприана уже возникал по тому поводу, что церковь с своей стороны обнаруживала стремление вводить в область своего ведения большее количество сторон жизни, а иные из числа членов ее, наоборот, стремились возможно большее количеств сторон жизни считать безразличными и потому ведению церкви неподлежащими: иначе — явился вопрос о свободной и несвободной сфере во внешней жизни человека, сделавшегося христианином. Это именно и обнаружилось на вопросе об одежде женщин во времена Киприана, как на вопросе об одежде мужчин впоследствии— во времена собора Гангрского. Киприан в качестве выразителей мнений церкви, а не мнений его личных, доказывает, что истинно церковным принципом дисциплины на основании самого священного писания, должно
ствии канонически установлялись церковью. Например, чтобы „молитва не была совершаема врозь и частно (privatim et sigillatim),—наоборот, чтобы была совершаема в узаконенные времена (legitima tempora), была publica et communis, pro toto populo и пp. И чем далее, тем подробнее требования эти действительно развивались на соборах, как это увидим впоследствии.
36) Migne, t. IV. 373. Можно конечно здесь слово дисциплина перевести (как это и есть в русском издании Твор. II, 344) словом: учение. Но конечно ясно, что здесь учение будет значит совсем не то, что значит Тертуллиановская doctrina, а ближе всего то именно, что у самого же Киприана выражается понятием: установления, institutio,—как об этом впоследствии выражались даже и соборы.
— 23 —
быть признано: не стремление ограничивать область, подлежащую дисциплинированно со стороны церкви, а стремление распространить эту область. „Если в Священном Писании,—рассуждает Киприан,— часто и повсюду предписывается дисциплина, и если соблюдение установленного есть как бы основание религии и веры: то чего наиболее прилично нам желать, и чего держаться, как не того, что бы стоять твердо против искушений и смущений мира и достигнуть даров Божиих чрез соблюдение божественных заповедей“. В отношении к тому частному вопросу, о котором Киприан ведет здесь речь, т. е. к вопросу об одежде, он ссылается на апостола Павла, который установлял же порядки и в этой незначительной области, вследствие своей незначительности по-видимому подлежащей абсолютной свободе. Поэтому Киприан считает, что даже и здесь христиане должны быть руководимы „церковной дисциплиной в ее божественной строгости“ (ad ecclesiaticam disciplinam religiosa observatione moderandae) 37). Кроме того, понятия об отношении дисциплины и веры, о котором мы уже замечали, у Киприана встречается также мысль, что отношение первой ко второй есть во всяком случае служебное, каково бывает отношение средства сохранения—дисциплина—к предмету сохранения—вера 38).
Из других памятников латинской письменности времени Киприана, в качестве памятника, где встречается более или менее определенное понятие о дисциплине в ее отличии от веры, можно указать письмо римского клира к тому же Киприану и по поводу того же вопроса о падших. Киприан именуется здесь поборником „евангельской ди-
37) Migne, t. IV. 441. 444. Сp. рус. пер. II, 125. 130.
38) Disciplina—custos spei, retinaculum fidei, dux salutaris itineris.—Doctrinae alienae—учения чуждые, ibid. 258 — обозначает тоже, что у Тертуллиана disciplina extranea (ср. выше примеч. относительно случаев замены у Тертуллиана doctrina выражением: disciplina). —В письме к Цецилию, Migne, IV, 386, Киприян, обличая уклонение в совершении таинства евхаристии так наз. аквариями, говорит, что „если точно не соблюдается то, что предписано“ в отношении к образу совершения таинства; то в таком случае „совершенно ниспровергается всякая дисциплина (omnis disciplina, р. пер. стр. 348: весь устав) религии и истины“ (р. пер.: веры и истины, очевидно употребляет веру в смысле религии с ее внешней стороны).
24 —
сциплины“, но не веры, как должно было бы выразиться, если бы в умах писавших не было ясного сознания раздельности обеих областей. По мысля писавших, дисциплиною достигается „благополучие церкви“ (salus ecclesiastica)—термин впоследствии в канонической области имевший частое употребление и обыкновенно поставляемый реальною целью всей дисциплины, в противоположность теории, усматривавшей в дисциплине только средство, так сказать, эстетического благообразия; дисциплина—кормило (gubernaculum) церкви во время бури. „Ясно, рассуждали римские клирики, что содействовать благополучию церкви можно не иначе, как всегдашним охранением основы самой дисциплины, как би некоего спасительного кормила во время бури“. О римских исповедниках клир свидетельствует, что они не только сохранили свою веру при опасности потерять ее, что составляет индивидуальную заслугу; но что они вместе с тем „показали пример строгой евангельской дисциплины, отвергнув незаконные просьбы... Если бы они сего не сделали; то разрушенная теперь евангельская дисциплина не легко могла бы быть восстановлена“ 39).
Как на пример того же словоупотребления в отношении к рассматриваемому предмету у латинских писателей патристического периода можно указать еще на Викторина, епископа Пиктавийского (+304), на словоупотребление в канонах собора Эльвирского 303—306 г. и на бл. Августина. Викторин употребляет этот термин, говоря о Moисее, который „строгостью закона возвратил иудеев к дисциплине“ (ср. мысль—Киприана об иудеях); а собор Эльвирский высказывает общее требование о том, чтобы в церквах запада „ничего не было против дисциплины (contra disciplinam) 40). Но по своей определенности осо-
39) Migne, IV, 311. Речь идет об обнаружившемся в других местах злоупотреблении записками, которые давались исповедниками падшим во время гонения. Римские же исповедники этого не делали.
40) Routh., Reliq. Sacrae, vol. III, 237. Собора Эльвирского, пр. 5.— Иероним, писавший, как известно, на латинском языке, замечает в одном месте, что „Иринеем (Лионским) написано сочинение о дисциплине“. Что это за сочинение - остается неизвестным, хотя между сочинениями Иринея и имеются отрывки, из коих видно, что он писал о современных ему спорах о продолжительности предпасхального поста, о
— 25
бенно замечательны рассуждения Августина. Августин не только различает дисциплину от веры, но и „доктрину“ от веры в теснейшем смысле: доктрина христианская, по Августину, обнимает не одни только вопросы вероучения, вопросы воспринимаемые верою по их непостижимости, но существует и doctrina morum et vitae, т. e. доктрина практическая. О значении самого термина дисциплины 41) Августин рассуждает такам образом: „слово дисциплина происходит от discere, учиться. Дом 42) учения (дисциплины) есть церковь Христова, чему же здесь учат? а также, для чего учат? Кто учащиеся и кто учит? Учат здесь тому, как надобно хорошо жить (bene vivere), чтобы прийти к жизни вечной; учатся—христиане; учитель—Христос! И так, прежде всего—что значит: хорошо жить“ и проч.. Это есть, по Августину непосредственный смысл и значение дисциплины, „дисциплина же церкви“, в качестве специального понятия у Августина является как совокупность начал деятельности церкви, или как ее ordo agendi. Он говорит напр., что и дурные члены должны быть терпимы в церкви, но—при том условии, чтобы от такой терпимости не ослаблялась строгость (severitas) церковной дисциплины, твердость начал жизни церкви,—вследствие чего, как выразился Августин, „вся христианская дисциплина,
празновании пасхи и др. Может быть Иероним одно из таковых и называет сочинением о дисциплине. Но во всяком случае это свидетельство Иеронима характерно как случай, показывающий, каким именем обозначали — латинские писатели предметы по всей видимости однородные с предметами иринеевых отрывков. Ср. также словоупотребление собора Толедского 633 года, где, все что касается поста, называется disciplina abstinentiae.
41) В вступлении к сочинению de fide ot operibus, Августин говорит: „некоторые думают, что научать людей сначала тому, каким образом должен жить христиан, а потом уже и крестить, есть-будто бы порядок превратный: сначала, думают, должно быть таинство крещения, а потом уже следовать учение о жизни и нравах (doctrina vitae)“. Из дальнейших слов Августина видно также, что было мнение, будто и тот, кто не следует христианской „доктрине жизни“ будет все-таки спасен, „если только сохранит веру (retenta fide) христианскую, иначе—если исповедует истину теоретического учения христианина.
42) De disciplina, Migne, t. 40, p, 669. Августин объясняет здесь слова Писания, которые в Латинской Библии читаются так: accipite disciplinam in domo disciplinae.
— 26
в особенности и воюет“ против начал, разрушающих жизнь церкви, к каковым он относит, например, гордость, на почве которой развивается сепаратизм 43). Различение Августином доктрины теоретической и практической— с одной стороны, а с другой дисциплины церковной в собственном смысле, т. е., как увидим впоследствии, установленных в церкви порядков, вспомоществующих вере и нравственности, видно также из его замечания касательно отношений к дисциплинам несходным (variae per loca) в разных местностях. „Относительно того, что замечается несходного в разных местах, должно соблюдать следующее спасительнейшее правило, именно: что не против веры (contra fidem) и не против добрых нравов (bonos mores), а между тем имеет в себе что-либо способствующее усовершению жизни“—все подобное может быть перенимаемо от одной церкви к другой, но не так, как кому и когда вздумается: обязанность повиновения своей местной церкви никогда не должна быть нарушаема, и пересаждение принадлежит лишь компетентной власти, к которой собственно и обращен был совет Августина. По отношению же к частным лицам Августин в этом отношении рассуждал так: если замечаются разные церковные порядки по разным местам и странам, например, разная продолжительность поста; то, говорит Августин, в подобных случаях для истинно благоразумного христианина пет лучшей дисциплины, как—поступать так (ut eo modo agat), как он видит поступающей ту церковь, среди которой он находится“ 44). Ясно, что исполнимость Августинова совета возможна в том только случае, если будет признано, что начала дисциплины— условны, и что благоразумие есть принцип в области дисциплины даже относительно высший, чем неизменность; эта же последняя, наоборот, есть исключительно принцип веры, ибо мы веруем, по выражению св. Григория Бого-
43) De fide, с. 3. Актом дисциплины Августин называет повеление, данное Моисею—Числ XX, 5. 7 и сближает с этим экскоммуникацию церкви новозаветной, „в дисциплине которой меч видимый должен был перестать действовать“.
44) Dolort, institution, discipl. Eccles. p. 344.
27
слова, так как надобно, веровать, а не так, как лучше веровать!
В памятниках восточно-греческой литературы, как научно-богословской, так и законодательной, самый термин дисциплины, как термин чуждого языка, разумеется, не употребляется. Но различение области веры и области дисциплины, иногда без ясного употребления условной терминологии, есть факт не подлежащий сомнению, и встречающийся почти столь же рано, как мы видели у писателей латинских.
Если, например, один из важных памятников древности—Ипполитовы каноны признать свидетельством практики востока; то уже здесь, как бы в заключение всех канонов, дается такое рассуждение, „должно остерегаться, чтобы кто-нибудь не сказал: я уже крещен и тело Христово (таинственно) вкушал и—основавшись на этом не предался покою, а говоря: „я уже христианин“, не отвратился бы от повелений Христовых“ (с. 33). Это рассуждение, по нашему мнению указывает на существование в то время отрицателей дисциплины, уповавших именно на то, что будто бы как скоро я христианин, т. е. имею веру и введение в церковь: то дисциплина, или сохранение известных правил, становится делом совсем не важным, так как вера все заменяет:—мысль, в основе которой, конечно, лежит идея раздельности веры и дисциплины и вместе мысль о все-покрывающем превосходстве и важности первой ирод последней. Относительно самых терминов языка восточного, употреблявшихся для обозначения того, что латинские памятники обозначали именем дисциплины, должно сказать следующее. Как в латинском языке термин дисциплины употреблялся с разными оттенками в мысли, например, то этим именем обозначалась лишь самая цель, для которой существует дисциплина, то обозначались собственно средства дисциплины; то обозначалась вся область дисциплины, то лишь некоторые частные сферы, точно также это разнообразие можно заметить и в употреблении греческом. Сюда прежде всего нужно будет отнести термины: экономия и полития. Экономией правда обозначалась не одна дисциплина церковная, но и так сказать дисциплина божественная—все дело искупления человека:
— 28 —
„не только вочеловечение, но и все служение Искупителя нашего, а также все, предвечно установленное, распоряжение и устроение, чрез которое Бог восстановлял падшего человека“ 45). Отсюда и выражения: экономия пришествия Сына Божия, экономия воплощения, экономия вочеловечения—когда все это рассматривается как дело искупления, а не только как части учения о Божестве 46). Поэтому οἰκονομία в общем смысле обозначала и все те установления, которые прямо или косвенно служили тем же целям искупления, например, установления ветхозаветной обрядности, вследствие чего можно сказать, что в этом случае экономия греческих писателей точно соответствовала понятию disciplina legalis Тертуллиана. Св. Григорий Богослов говорит что „Бог, как детоводитель (педагог) и врач иные отеческие обычаи отменяет, а иные дозволяет, допуская иное и для нашего услаждения, ибо не легко искоренить то, что вошло в обычай“. Так, «первый завет, запретив идолов, допустил жертвы, а второй—отменив жертвы, не запретил обрезания“, а потом— „одни уступили жертвы, другие обрезание, и стали из язычников иудеями, а из иудеев христианами. То было нужно для домостроительства (экономии), а сие для совершенства“. По принципу того, что все это делалось с целями педагогическими, экономия иногда называется παιδία. Но затем естественно, что кроме обширного значения экономии, как установлений и действий, истекающих из целей искупления—термин этот стал обозначать и все те действия, которые служили не цели ближайшей, а цели более отдаленной, т. е. экономия, стала обозначать всякое действие, смысл свой имевшее не в непосредственно-видимом, а лишь в значении внутреннем, отчего видимость действий экономии
45) Свицер, Liber Sacrar. observation., 1665, p. 28.
46) Учение о Боге называлось Θεολόγια и в известных случаях даже противополагалось экономии. Так св. Григорий Богослов называет „богословием Троицы“ учение о Троице. И наоборот говоря о воплощении, замечает: „да ограничится наше любомудрствоваше о Боге, ибо—предмет моего слова составляет не богословие, по Божие домостроительство (экономия)“ (Твор. ч. III, 124, 240). На различие между богословием и экономией указывает Феодорит и Фотий. Svizer, ibid. 27.
29 —
становилась условной 47). А так как и вся решительно церковная дисциплина есть в своем существе и цели учреждение педагогическое—как средство воспособляющое воспитанию и ограждению веры; то понятие экономии перешло и на дисциплину и разнообразных ее сторон, и сделалось в известной мере понятием церковного права, употреблявшимся в тех случаях, когда подлежало разграничить собственно дисциплину от веры.—Как близки одно к другому понятия дисциплины и экономии ясно, прежде всего, из следующего соотношения. Изобличение согрешившего брата (Мф. 15, 17) у Оригена называется дисциплиною, конечно, не в подлиннике, а в переводе: „евангельское правило установило образ и дисциплину изобличения греха (modus et disciplina indicandi peccati“). У св. Григория Нисского тот же самый предмет (русский перевод: „образ действования относительно согрешивших“) выражается как οἰκονομία ἑπὶ τῶν πεπλημμεληκότων (Послан. к Лит. 1). У Василия Великого встречается выражение: „экономии ради“ в смысле: благоустроенности ради, следовательно—в смысле тождественном с латинским: disciplinae causa. Так Василий В. говорил, что „для благоустройства многих (οἰκονομίας ἐνεκα πολλῶν) отцы положили принимать крещение энкратитов“ (сравн. также его выражение: „если это будет препятствовать благоустройству общему“, τῇ καθόλου οἰκονομία, Посл. к Амфилох.). Между правилами шестого Вселенского собора встречается одно, целью своего издания поставляющее то, чтобы „в иноплеменных церквах обра-
45) Златоуст например говорит, что „одни приобретали богатство по дарованию его от Бога, другие —по попущению Его, а иные—по некоторому непостижимому распоряжению“ (экономия) Промысла,—по предначертанию для человека непонятному. Другие примеры: „Свойство веры, говорит Златоуст, в том преимущественно и заключается, чтобы принимать учение о Промысле даже и не понимая образа распоряжения (τροπος τῆς οἰκονομίας») Промысла“. Еще; „таковы распоряжения (οἰκονομίαι) Божии: чрез что получаем вред, чрез тоже самое получаем и пользу“. Svizer, ibid, 31, Сp. Thesaurus, Il, 459. Но мысли одного из позднейших греческих писателей Lex aeconomias в христианстве состоит в том, что имевшее худое употребление в культе языческом, в христианской церкви получало смысл лучший и употребление таковое же, например, древо креста у язычников и у христиан. См. Piira, Specileg. Solesm. t. I, p. 499.
30 —
щающихся священников благоустроить“ в отношении их нравов (пр. 30): ясно, что здесь греческое, οἰκονομεῖν будет точно соответствовать слову дисциплинировать. Есть также доказательства употребления слова οἰκονομεῖν в смысле распоряжения, управления, как выражение, обозначающее право дисциплины, как на это еще Тертуллиан указывал, переводя экономию чрез dispensatio 48). Так второе правило II Вселенского собора запрещает епископу совершать хиротонию и „иные какие-либо церковные распоряжения (οἰκοτομῖα) вне своей области, и вообще запрещает „управлять (οἰκονομεῖν) делами области чужой“ 49). Правило 37 II-го Вселенского собора утверждая за предстоятелем города, порабощенного варварам законность всякого его должностного действия, хотя бы по причине порабощения от язычников такой предстоятель и не вступал (фактически) на свой престол,—побуждением к сему полагает то, „что вследствие нужды времени не должны быть стесняемы пределы управления“, как передает книга Правил слова подлинника: ὁ τῆς οἰκονομίας ὅρος οὐ περιορίσθήσεται, но что кажется лучше передать как: „акты управления“.
Полития—у светских писателей, как первоначально и у церковных, была понятием употреблявшимся для выражения жизни государственной и внешнего гражданского благоустройства, а отсюда даже и простого внешнего благоприличия. Златоуст, например, называет политией общественно-государственное устройство древних иудеев и римлян (Слова, р. п. III, 542). На языке собственно церковном и богословском полития сначала выражала: внешний образ жизни и в этом отношении жизнь прямо противополагалась вере. Так 12-е правило Лаодикийского собора повелевает ставить на церковное начальство только лиц испытанных в слове веры и в житии (πολιτεία)сообразном правому слову“. Златоуст также говорит, что нет никакой пользы от правой веры при развращенной жизни (πολιτεία), как и наоборот—от превосходной жизни без правой веры; и Бог прославляется не только правыми
48) Adv. Prax. с. 2.
49) И наоборот, греческое: κυβερνᾶν, управлять, Феофилакт объясняет как: οἰκονομεῖν τὰ τῶν ἀδελφῶν. Svizer, II, 827.
31
догматами, но и добродетельною жизнию и т. п. (сравн. также выражение Златоуста: „будем верить законам Божиим и будем жить (πολιτευσώμεθα) сообразно с ними“). Затем—полития обозначала также—жизнь известного рода, известного порядка: например—жизнь подзаконная (ἐννομος), жизнь духовная πνευματική πολιτεῖα; ἀσκητικὴ πολιτεία Феодорита значит аскетический образ жизни 50). Но обозначала ли полития церковную дисциплину в смысле совокупности порядков церковных? Несомненно, обозначала и употребление этого встречается уже в Апостольских Постановлениях. Известно, что седьмая книга Постановлений озаглавливалась: περῚ τῆς πολιτείας; русский перевод: „об образе жизни“. Вместе с тем полития обозначала как совокупность порядков церкви, так естественно и законы касательно порядка жизни в Церкви. Златоуст же, например, иудейское законодательство в отношении к внешней жизни называет: πολιτεία τῆς παλαιᾶς νομοθεσίας, а тоже самое в отношении к христианской жизни называет „политией церкви“. Феодорит и Геллеий Кизический о правилах, постановленных первым вселенским собором, выражаются почти одинаково таким образом: „собравшиеся на соборе епископы написали двадцать правил относительно церковной жизни (πολιτεία) 51) т. е. сверх издания Символа веры издали и правила относительно разных вопро-
50) Епифаний Кипрский говорит об энкратитах, что они воздерживаются от мяса „не ради воздержания и строгого образа жизни", как русский перевод (ч. ІI, 598) передает греческий текст по изданию Петавия (р. 400): οὐκ Ενεκεν ἐγκράτειας, οὖτε πολιτείας. Какое же здесь отношение между воздержанием и политией? Апология Аусбургского исповедания (edit. Franeke, Cap. VIII, art. 14) понимает это место читая его несколько иначе, чем оно читается у Петавия, именно: διὰ τὴν ἐγκρατείαν, ἦ διὰ τὴν πολιτεῖαν, и передает так: или ради обуздания плоти... или в целях общественного порядка“ (aut propter politicam ordinem), т. e. Аусбургекое исповедание не соединяет, а разделяет воздержание и политию. Но очевидно, что чтение Петавия правильнее и вносит явственный смысл такого рода, что полития является как понятие более общее, составной частью которого есть между прочим и воздержание,—и потому это чтение дает возможность понимать указанное место таким образом: „не ради воздержания, и вообще—не ради дисциплины“, подразумевая здесь дисциплину в общем смысле нравственно-благоустроенного образа жизни.
51) У Свицера, t. II, р. 515, 549.
32 —
сов церковной дисциплины. Но теперь является вопрос: как же именно понимаема была греческими богословами раздельность областей экономии и политии с одной стороны и веры с другой, и каково полагаемо было соотношение между ними, как со стороны происхождения, так и со стороны их значения для конечной цели христианства?
Уже один из первых христианских писателей по теоретическому богословию, Ориген не мало оставил нам указаний на то, как понимаем был вопрос в указанной постановке его. Во времена Оригена были люди, думавшие, что теоретическое учение христианства — излишне для дела спасения, и след. не может быть вопроса о правильности в учении веры. Но и наоборот—были люди, думавшие, что никакое устройство церковно-общественной жизни, как и никакой строй жизни частной, не имеет отношения ко спасению, и что следовательно всякое устройство жизни общецерковной есть дело безразличное,—откуда, в свою очередь, следовало, что потребность в какой-либо дисциплине церковной должна быть отвергнута. Ориген защищает необходимость правой веры, как и необходимость существования в церкви дисциплины. В первом отношении Ориген замечает, что конечно „опаснее погрешить в догматах (т. е. в теоретическом учении), нежели в жизни. Ибо, думает Ориген, если бы (для спасения) было достаточно одних добрых нравов (без познания истинной веры), то тогда почему бы не спастись и философам языческим“? 52), которые, не зная истинной веры, могли, однако иметь добрые нравы. По Оригену, вера основывается на познании данного в Откровении, и Ориген, отрицая то, чтобы агностицизм был началом церковью одобряемым, почти доходит до крайности, пожимая верующего как познавшего, и совершенствование веры полагая в совершенствовании познания, чем Ориген конечно слишком утончает границу между верою и богословскою наукой 53). Правда Ориген говорит,
52) In. Math, tract. 28, sub. fine.
53) Ориген говорил: „надлежит знать, что св. Апостолы, проповедуя веру Христову (ср. след. примеч.), те предметы, которые почитали необходимыми, яснейшим образом открыли всем верующим, даже и сла-
— 33
что „Бог не восхотел, чтобы мы познали все в этой жизни, и мы не должны с безрассудной дерзостью принимать на себя познавание всего. И потому, дабы то самое обстоятельство, что мы желаем иметь познание Божественного Писания, не обратилась нам во грех, мы должны наблюдать (здесь) ту умеренность, которую указывает нам закон духовный чрез законодателя» и проч. Ориген в деле веры признает также значение и за церковным авторитетом: „относительно вопросов сомнительных должны быть вопрошаемы учители церковные“. Но тем не менее вера у Оригена связывается исключительно с познанием 54), и учение веры определяется как „слово о том, что касается Бога“, слово, которое „должно быть отыскиваемо в двух Заветах, подобно как из них же должно быт заимствуемо и всякое познание (scientia) вещей“. „Если же затем оставалось бы нечто и такое, что божественное Писание не решает; то никакое третье писание (кроме двух заветов) не должно быть принимаемо, как авторитет в познании“: не разрешимое на основании этих источников должно быть предоставлено Богу! 55).
бейшим в изыскании (предметов) божественной науки (scientiae). Изыскание же самых оснований (ratio) (проповеданного) они предоставили тем, которые заслужили особенные дары от Духа Святого, а в особенности дар слова, мудрости и ведения. Но относительно иных предметов Апостолы хотя и сказали, что они существуют; но как существуют, или для чего, они умолчали, и это конечно для того, чтобы впоследствии прилежнейшие любители истины могли иметь для себя такое упражнение, в котором могли бы показать как плод дарования своего, так и то, что они уготовали себя достойными и способными к восприятию мудрости“. Главные положения того, что «ясно преподается в проповедании апостольском, по Оригену таковы: первое, что Един есть Бог, сотворивший и благоустроивший все,—сотворивший все из ничего“ и т. д. Это и есть то, что называли regula fidei.
54) В сочинении Contr. Celsum, L, III. Ориген, говоря об апостолах и евангелистах как людям не-книжних и однако избранных для проповеди Евангелия, замечает: „думаю, что Иисус для того восхотел употребить таковых проповедников (своего) учения (δόγμα) (в сочинении о началах, если только перевод Руфина правилен, он выражается: веры— fides), чтобы никто не заподозрил в них людей сведущих в софистическом искусстве“: здесь, очевидно, догма есть учение как теоретическое, так и практическое.
55) In Levit, hom. V, n. 9.
— 34 —
Но в церкви существует не только то, что необходимо, в доступных нам пределах, познать и познав уверовать, но и то, что необходимо делать: церковь руководит своих членов и в этой области, искореняя также и здесь принцип безразличия или произвола. В пример Оригеновских рассуждений, о том, что кроме области познания в христианстве ость область действия, возьмем следующее: „в церковных соблюдениях (observatio), говорит Ориген, существует много такого, что, хотя весьма необходимо исполнят, однако основание этого не для всех бывает ясно. Например, то, что при молитве преклоняем колена, или что молимся, обращаясь из всех стран света к одной только—восточной, причину этого, думаю, не каждому легко объяснить себе. Равным образом, кто без затруднений может объяснить основание того, почему евхаристия принимается или совершается по тому обряду, с каким это (теперь) делается? А также и основание того, что совершается при крещении, то есть слова и действия, порядок вопросов и ответов? 56). Оригена, очевидно, здесь занимает вопрос с той стороны, которую можно назвать и называют: ratio agendi. Но если это сравнить с предшествующими его рассуждениями, то должно признать, что там он говорит о ratio credendi и старается утвердить право изыскания относительно тех вопросов верования, для решения которых по даст указаний св. Писание; здесь же он говорит об изыскании оснований того или другого принятого в церкви способа действия. Основание обращения в молитве на восток, например, Ориген видел в том, что: „как все люди при наступлении дневного света устремляют взор свой на восток; так и всякая благочестивая душа устремляет духовное око к лучам солнца Правды“ 57), т. е. в том, что чрез видимое действие обращения к востоку выражается невидимая мысль, иначе—в символе, который будто заключен в по-видимому беспричинном предпочтении востока, хотя в трактате о молитве основания
56) In Numer. homil. V, n. 1.
57) Contr. Celsum, Орр. edit. Erasmi, P. II, p. 941.
— 35
для обращения на восток Ориген видит только в аналогии. „Если есть—говорит он — достаточные основания предпочесть восток“ в известное время, когда от него появляется свет (на заре): „то почему же это не должно быть соблюдаемо и постоянно?“ следовательно и во время молитвы. Но у Оригена есть замечательное место, сущность которого можно свести к тому, что изыскания в области видимых церковных действий, в конце концов, должны иметь своею целью то, чтобы—установить образ действий, наиполезнейгиий, тогда как в области веры принцип полезности не имеет места, а единственно принцип истинности веры. Это—место, заключающее в себе рассуждение Оригена о посте. Ориген свидетельствует, что в его время были „такие, которые думали, что им нужно поститься постом иудейским,— как то повелевает (ветхозаветный) закон“; следовательно возникал вопрос, который позднейшие греческие писатели называли: τρόπος νηστείας, об образе поста. Но по Оригену—„если кто хочет поститься, тот должен поститься сообразно заповеди Евангелия (а не закона Моисеева),— соблюдать в посте Евангельские законы, в каковых Спаситель повелевает: когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое (Мф. VI, 17)“. Раскрывая далее образ поста подзаконного и сравнивая его с образом поста по Евангелию, Ориген, конечно, наталкивается на важный вопрос: пост Евангельский не отрицает ли основное положение поста позднейшего: различие рода снедей? „Хочешь ли— говорит Ориген—я покажу тебе, каким постом должно поститься? Воздерживайся от всякого греха. не принимай пищи злобы (т. е. как бы: не питайся злобою), не пей вина роскоши (опьяняющей и сама в себе); воздерживайся от злых дел и худых речей; не желай обманчивого хлеба философии; не прикасайся к воровскому хлебу развращенного учения. Таков пост угодный Богу! Воздерживаться же от снедей, которые создал Бог для вкушения верующими с благодарением и делать это подобно тем, кои распяли Бога, это не может быть приятно Богу! Фарисеи некогда негодовали на Господа, за то, что ученики его не постятся. А Он отвечал им, что не могут поститься сыны чертога брачного, пока с
36 —
ними жених. Следовательно, те пусть постятся, которые потеряли жениха, мы же, имея жениха с нами, не может поститься“! Выходит, что по закону Евангельскому пост как различение снедей не должен существовать. Это следствие Ориген видел; но не такова была его мысль. Желая показать, что он отрицает пост исключительно в иудейском смысле, без привнесения в образ поста евангельских законов и понятий, он прибавляет: „однако (tamen) мы говорим это и не для того, чтобы ослабить узду христианского воздержания: ибо мы имеем четыредесятницу, имеем среду и пяток. Для христианина конечно, позволительно (est libertas) поститься во всякое время, но не по суеверию воздержания (observantiae superstitione) 58), а по добродетели (слово: virtute, может быть, здесь значит и важности) воздержания. Ибо иначе (т. е. с отрицанием различения снедей, хотя и не по иудейскому понятию о них, но ради воздержания) каким образом у нас сохранится чистота (целомудрие), если она по будет поддерживаться более сильным средством воздержания? Как христиане могут заниматься Писанием, прилежать к учению, к премудрости? Не при помощи ли воздержания чрева? Каким образом кто-либо может оскопить себя для царствия Божия, если не отнимается изобилие пищи, если не воспользуется услугою воздержания? Вот основания лощения у христиан (christianis jejunandi ratio)“, которого, по-видимому, не должно бы быть: ибо „мы имеем жениха с нами“, отнят же Он у иудеев,— Итак, пост есть средство, ratio сохранения его есть польза; истинно евангельская форма его будет та, которая наиболее содействует воздержанию, которое, в свою очередь, есть сродство для возвышения других сторон чисто духовной жизни. Обращаясь к Писанию в решении вопроса о посте, Ориген и здесь находит, что „похвала поста“ также состоит в зависимости от того, что пост
58) Вероятно мысль Оригена здесь такова, что под выражением: „суеверие воздержания“ он разумеет не воздержание само по себе, а лишь то воздержание, с которым соединяется иудейское понятие о чистом и нечистом в снедях, или же то, которое совершается как opus operatum, без соответствующих внутренних расположений.
37
дает собою хорошее средство для исполнения других нравственных заповедей, и следоват. есть средство к нравственному благоустройству вообще. Это „иное основание для поста“—говорит Ориген, называя это основание религиозным,—„указано в .Писании там, где сказано: блажен, кто постится, чтобы напитать нищего. Пост такого человека весьма угоден пред Господом и--справедливо: ибо постящийся (для этой цели) подражает Тому, Кто положил душу Свою за братьев Своих“! Вот еще один из примеров того, каким образом у Оригена трактуется „предмет соблюдения“, или предмет церковной политии.
Из греческих писателей IV века нарочитого рассмотрения в отношении к исследуемому теперь вопросу требуют многие выражения св. Василия Великого.
Прежде всего мысль о раздельности веры и дисциплины очевидно лежит в основе данного Василием Великим определения того, что есть раскол и что есть ересь. Раскол, по его определению, есть разделение из за какого-либо вопроса церковного (αἶτίαι ἐκκλησιαστικαί); ересь же, „разделение“ в самой вере (κατ’ αὐτὴν τὴν πίστην). Например „о покаянии (т. е. в вопросах относительно покаяния, с тем или другим решением которых будет изменяться отчасти учение о составе самого церковного общества) мыслить иначе, нежели как (мыслят) принадлежащие к церкви, есть раскол“; манихейство же есть ересь потому, что „у манихеев есть различие с церковью в самой вере в Бога“ (περὶ αὐτῆς τῆς ἐἰς Θεὸν πίσπεως) 59). В вопросах церковных, по свидетельству Василия Великого, иногда „различно думали рассуждавшие“ в различное время об одном и том же предмете,— и он находит, что например даже „великий Дионисий“ не приметил несообразности принимать то решение, которому он следовал (в вопросе о крещении монтанистов) вследствие чего—„нам не должно соблюдать подражания неправильному“:— в вере же чего-либо подобного быть не могло. В вере далее нет степеней достоинства: есть вера только правая и не правая. Дисциплина же, как
59) О Св. Духе гл. 30 (р. пер. ч. III, 285).
— 38 —
видно из рассуждений св. Василия Великого, может иметь и относительное достоинство. Отсюда у св. Василия Вел., как было замечено, и термин экономии обозначает как церковную дисциплину вообще, так уже и дисциплину с особенным оттенком—снисходительную, условно и относительно допускаемую, почему, в свою очередь, термин экономии может быть употребляем (как и употребляется теперь, ср. выше) в смысле понятия: снисхождения в интересах дисциплины терпимости ради благоустройства. Дисциплина же подлинная есть то, что Василий Вел., называет: ἀκριβεία κανόνων, параллельно с ἀκριβεία δογμάτων, то есть, совершенная сообразность с канонами, которой не выдерживает, и которую не преследует как цель дисциплина тогда, когда она является экономией в смысле. Василия Великого 60). Признание относительности дисциплины в противоположность безусловности веры у Василия В. подтверждается и иным образом. Свидетельствуя, что уже до него были случаи неодинаковых решений по одним и тем же вопросам и приводя примеры
60) Наша книга правил в переводе слова οἰκονομία у Василия Великого не выдерживает единообразия: экономия переводится: созидание, благосозидание, благоустроение. В особенности неточно будет последнее выражение, употребленное при переводе правила 47. Что касается до понятия ἀκριβεία; то у самого Василия Великого встречается такое выражение: τῇ κατὰ τὸ εὐαγγὲλιον ἀκριβεία κανονὶζειν τῆν πολιτεὶάν (ср. ἡ κατὰ εὐσεμείαν πολιτεία), что может быть передаваемо так: устроят свою жизнь сообразно требованию евангельского правила (Svizer, II, 84). У Златоуста встречается выражение: „ничто так не приводит на путь истины, как наибольшее благоустройство жизни (ὡς πολιτειάς ἀκριβεία, ibid. 1, 166). В одном из правил так назыв. Двукратного собора (пр. 5) пострижение монаха прежде трехлетнего испытания называется „отступлением от порядка“ и постриженного при таком отступлении повелевается перевести в другой монастырь, „соблюдающий строгую монашескую дисциплину“, без отступлений, — φυλάττουση μαναχικὴν ἀκρίβειαν („где строго соблюдается монашеский устав". См. Деян. Пом. Соб., рус. пер. стр. 238). Отсюда видно, что понятия, выражаемые последним термином, меняются своими значениями: свойство дисциплины: ἀκρίβεια в соблюдении ее, то есть точность, неукоснительность в приложении, иногда обозначает и самую дисциплину, подобно как благочиние (ἐυταξία) обознает и цель дисциплины, и самую дисциплину (отсюда: μετὰ ἀκρίβείας ξῆν). Ἀκρίβεια δογμάτων обозначает: дисциплину в области богословской мысли, в противоположность догматическому индифферентизму,
— 39
сего (пр. 97, ср. 9), св. Василий, однако не считал этого обстоятельства несовершенством церковной жизни, а лишь историческим основанием усовершимости дисциплины, а если и того не угодно, то свидетельством существования в церкви в известной мере свободы мнения и действия. Так „о неимении правила“ на один из случаев Василий Великий свидетельствует в прав. 21, и причину существующего в церкви образа действий объяснить отказывается иначе, как только „принятым обычаем“. По поводу подобного же случая, когда не оказалось определенного правила, он говорит, что о настоящем предмете он „составил собственное мнение“ (γνώμη) (пр. 30), которое он однако не навязывает никому, а еще в ином случае, когда его собственное мнение ему казалось имеющим за себя больше оснований, чем мнение противоположное, он не соглашался отступить от своего но крайней мере до тех пор, пока не будет решения всеобщеобязательного; но до того времени на свое собственное решение он все-таки смотрит не иначе, как только на личное мнение, к которому пришел на основании своих соображений, и это притом по такому еще вопросу, по которому и сам Василий В. прежде думал несколько иначе—именно по вопросу о перекрещивании раскольников новациан, о покаянии мысливших несогласно с церковью 61). По мысли Василия В. есть даже такие вещи, о которых и не должно усиливаться составлять какое-либо решительное мнение: это вещи „не разнственные“, безразличные в жизни (ἀδιάφορα)(πρ. 28). В одном случае единственным мотивом, принимаемого им решения, он выставляет: „чтобы не случилось чего худшего“ (пр. 26, ср. 46 пр., где он выбирает „лучшее“), и при этом указывает решение только желательное: „аще возможно“. Его замечательные мнения о усовершимости и так сказать прогрессе церковной дисциплины мы увидим: (—он говорит например в одном случае, что „многое при давности своего установления“ может оказаться „недостаточным“); теперь же отметим его принцип, что дисциплина,
61) Так понимали 47 правило Василия В. древние толкователи, а вслед за ними и издатель греческой Кормчей. См. Никольского, Пидалион, стр. 131.
— 40 —
по крайней мере с некоторых сторон, есть предмет и составляет область не одной традиции или положительного закона, но и рассуждения, и даже спора,— откуда, как это мы видим и у других писателей, и Василием Великим допускается существование того, что называется ratio diciplinae, основание принятого образа действий,—но, конечно, Василий Великий употреблял тождественное с ratioпонятие λογοσ’а. Он говорил например, что „мыне все знаем основание (τὸν λόγον) того, почему церковь поучает питомцев своих бывающие в воскресный день молитвы в стоянии совершати“, и он изъясняет это основание (ср. выше Оригена), как понимающий его (пр. 91; ср. здесь же: ὁ λόγος τῆς παφαδόβεως, а также пр. 47, где он доказывает, что и его решение возникшего вопроса имеет основание (ό λόγος); пр. 21, где свидетельствует, что „нелегко найти основание“ (λόγος οὐ ράδιος) и мн. др.). Иногда у Василия Великого трактуемый вопрос уже сам по себе показывает, что он относится к области дисциплины, а даваемое им на этот вопрос решение впоследствии не всегда бывало принято во всеобщее руководство, и следов. должно быть отнесено к личным мнениям отца (таково напр., содержание 42 правила о браках „против воли обладающих“). Иначе было в отношении к вере: „что свойственно вере“?, спрашивал в одном месте св. Василий: „несомненная уверенность в истине богодухновенных глаголов, которая не колеблется никаким помыслом, наводит ли его (помысел) естественная необходимость, или прикрывается он видом благочестия. Что свойственно верному? Расположиться к таковой уверенности силою сказанного, и—не отваживаться что-либо отринуть или прибавить!“ (Нравств. прав. гл. 22).
Мы видели, что Василий Великий определяет ересь как— разногласие „относительно самой веры в Богa“. Выражением же согласия в вере является, конечно, согласие в догмате. Но по вопросу относительно понятий Василия В. о догмате с издавна возникали разногласия, повод к которым подавали некоторые выражения его, имеющиеся в 27 главе книги о Св. Духе (иначе—в 91 правиле, образовавшемся из части этой главы). В этих выражениях усматриваемо было, с первого взгляда не без правдо-
— 41 —
подобия, такое понимание догмата и дисциплины, которое должно вести к уравнению догмата и дисциплины, и, следовательно, к уничтожению тех самых черт различия между верою и дисциплиною, которые мы видели уже у самого Василия В. в других случаях его богословствования, и которые отмечаются нами как существенное свойство всего вообще древнего богословия. Вопрос об этих выражениях св. Василия имеет тем больший интерес, что эта часть 27-й главы внесена в наш Православный Катехизис. Исследуемое место, заключающее в себе эти выражения, читается: „из соблюденных в церкви догматов и проповеданий (δογμάτων καὶ κυρηγμάτων) некоторые (τάμεν) мы имеем от письменного наставления, а некоторые (τάδε) прияли от апостольского предания по преемству в тайне. Те и другие имеют одну ту же силу для благочестия, и сему не станет противоречить никто, хотя мало сведущий в установлениях (θεσμοί) церковных“ и проч. Так читаем в Православном Катехизисе, и так же (за исключением нескольких слов, изменение которых имеет лишь стилистическое значение, например, вместо: „соблюденных“ — сохраненных, вместо: „не станет противоречить“—но воспрекословит) в книге Правил, изд. 1839 года. Нет однако никакого сомнения, прежде всего в том, что Василий Великий и здесь уже различает догмат от „проповедания“, а ниже и прямо говорит: „иное—догмат, и иное—проповедание“. Затем ясно, что, но мысли Василия Великого, как она дается текстом подлинным, ость догматы и проповедания, от Св. Писания, и есть догматы и проповедания — от предания, или, как передает русский перевод Творений св. Василия Великого (Москва, 1846 г., ч. III, 331—32, а также повторяет издание 1892 г.)—из догматов и проповеданий „иные мы имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, прияли мы в тайне? 62). Но в таком изложении это место
Нельзя не сознаться, что указанные русские переводы, употребляя выражения: иные и другие, некоторые и т. д., не отвечают желательной точности речи, чему подает повод известный греческий оборот; τὰ μενи τὰ δε, относящийся к двум существительным одинакового рода (δόγμα
42
у Василия Великого, как сейчас было замечено, с издавна возбуждало ряд вопросов и трудностей, так как не представлялось возможным — согласовать обычное понимание „догмата“ с тем пониманием, которое явствовало бы из таких рассуждений св. Василия 63). Если, например, принять такое положение, что под именем догмата должно разуметь член веры, то догмат, не заключающийся в Св. Писании, а только в Предании будет составлять не малую трудность. Ибо в богословии православной русской церкви встречаем такое определение догматов: „догматы суть — созерцательные (теоретические, как теперь обыкновенно выражаются) мысли Откровения о Боге» 64). Но если догмат есть мысль Откровения: то возможно ли разделять догматы на заключенные в Писании не заключенные? В известном „Изложении разностей между восточной и западной церковью“ митрополита Филарета читаем: „единый, чистый и достаточный источник учения веры есть Откровенное слово Божие“, но при этом „допустить неписанное Слово Божие (или неписанное Откровение), значит — по мысли Филарета — подвергать себя опасности разорить заповедь Божию за предание человеческое“ 65). Затем другой вопрос, что собственно значит
и κήρυγμα). Поэтому для правильного понимания и правильной передачи этого места в русском переводе сначала необходимо решить: к чему мы будем относить эти τὰ μενи τὰ δε, к догматам и проповеданиям порознь, или к тем и другим вместе, а затем принятое понимание показать читателю при помощи такого употребления выражений: иные и другие и т. и., которое уже не давало бы затемняющей смысл обоюдности, теперь сопровождающей русские переводы этого места.
63) Еразм Роттердамский считал это место неподлинным, вследствие трудности согласовать все положения его с другими положениями отеческой догматики и отеческих понятий о дисциплине.
64) Прав. Догм. Богословие Филарета Гумилевского, изд. 1882, стр. 4, ср. Филарета, митр. Московского: „Богословие догматическое есть систематическое представление главных понятий о Боге».
65) О разностях §§ 1,8. Но нельзя не признать, что догматы от предания признаются и в Прав. Исповедании Петра Могилы. Догматы суть двоякого рода: одни преданы письменно и содержатся в книгах Священного Писания; другие преданы апостолами устно... На сих двоякого рода догматах основывается вера наша“ (стр. 4). Признается также „неписанное Слово Божие“ и преосв. Иоанном Соколовым, См. его Опыт курса церк. законовед. I, 97.
43
κήρυγμα при той характеристике различия между κήρυγμαи δόγμα, какую дает этим понятиям сам Василий Великий, в некотором отношении явно противополагающий одно понятие другому, если уже он говорит, что „догматы умалчиваются, проповедания же (русский перевод по изданию Творений: „проповеди“) обнародываются? Обращают внимание наконец и на то, что во всем трактате Василий Великий не приводит ни одного примера „догмата“, если догмат понимать как член веры, и на оборот — все примеры его суть примеры „неписанных обычаев“, как и вся дальнейшая аргументация—за законность употребления таковых, хотя и неписанных 66). Наш славянский перевод прошлого столетия там, где позднейшие переводы употребляют: „неписанные обычаи“ даже прямо передает: „неписанные обряды“, тем конечно давая разуметь, что речь Василия Великого должна быть понимаема как речь собственно об обрядах, предмете более тесного значения, чем „обычай“. Эти разносторонние затруднения, вызываемые рассуждением Василия Великого, вызывали исследователей— ставить вопрос: что разумеет Василий Великий под догматом и что под проповеданием, а затем необходимо
66) Русский перевод Творений Василия В, не согласуется с переводом даваемым в Прав. Катехизисе и в Книге Правил, но устраняет одно из затруднений. Перевод Катехизиса: „те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия « сему не станет противоречить никто (καὶ τούτυις οὐδεὶς ἀντερεῖ“). Перевод Творений: „и никто не оспаривает последних“, то есть догматов дошедших от апостольского предания, но не изложенных в Писании. Следовательно, Катехизис передаст мысль Василия В. в этом месте, как мысль о бесспорности того, что имеют одинаковое значение как писанные, так и неписанные догматы и проповедания. Перевод же Творений видит здесь мысль о бесспорности собственно неписанных преданий, иначе мысль о том, что никто не отвергает и неписанных преданий“. Нельзя не согласиться, что перевод даваемый Творениями более согласен со смыслом дальнейших рассуждений Василия Великого, и в этом виде, как было замечено, он устраняет по крайней мере одно из затруднений рассматриваемого места тем, что но разрушает связи с смыслом дальнейшей фразы: „никто не оспаривает последних, кто хотя мало сведущ в законах церковных“: то есть, никто не оспаривает не равенства последних с первыми, а просто — права на то, чтобы и последние приняты были в церковную практику,—вследствие чего, разумеется, вместо: „не оспаривает последних“ лучше будет сказать: „не отвергает последних“.
— 44
следовал вопрос: каким образом могло последовать уравнение между собою обоих этих понятий, как „имеющих одну и ту же силу для благочестия?“ Сущность дела, конечно, в том, что такое догмат по Василию Великому; но для этого непременно нужно сначала рассмотреть понятие „ проповедания κήρυγμα. Относится ли это понятие к области теоретического учения, или употреблено для обозначения дисциплинарных определений? Κήρυγμα на греческом востоке употреблялось сначала в смысле наиболее общем, например: проповедь Евангелия, и κηρύΰαειν значит, проповедывать 67). Но очень скоро κηρύαΰειν получило и условное значение не проповеди, а громкого произношения чего-либо для общего сведения. Так второе правило Анкирского собора диаконские возглашения за литургией называет этим же самым термином, как это же есть и в чине литургии по Апостольским Постановлениям 68). Вообще, в понятии κήρυγμα потом выступала преимущественно та сторона, что все, обозначаемое этим именем, тем самым носило в себе признак противоположный какой-либо сокровенности: все, что было „проповедью“, или „возглашением“, назначалось быть общеизвестным и распространенным. Поэтому можно встретить упоминание о том, что „определение о святой вере провозвещено всей церкви“; следовательно, и догма становится в этом отношении κήρυγμα. Но точно также и правила (каноны), не имевшие отношения к вере, „провозглашались“ (напр. VII Вселенск. собора: „правила, провозглашенные собором“). В смысле последнем κήρυγμα делалось равнозначущим и синопимичным παράγγελμα, и употребляется как самим Василием Великим, так и другими греческими богословами. В слове о посте св. Василий различает два вида поста: посты частные и посты всеобщие. К числу последних он относит пост продпасхальный, который есть κήρυγμα καὶ παράγγελμα (лат. Πβ-
67) Svizer, t. I, 550; II, 515. A в тех случаях, когда слово экономия употреблялось в смысле домостроительства спасения, то употреблялось и κήρυγμα τῆς οἰκονομίας. Примеры из Феодорита, см. ibid, I, 458. Так как „проповедь евангелия“ означает проповедь учения евангелия: то естественно, что κήρυγμα сближалось иногда даже и с δόγμα, doctrina.
68) Probst, Lehre und Gebet, 1873, S. 19. Апостольск. Пост. кн. VIII, 5, 12. „Диакон, взошед на возвышение, пусть возглашает“.
— 45 —
реводчик: publicum mandatum et edictum). Из слов Епифания Кипрского прямо дается разуметь, что последнее выражение совершенно равносильно тому, что обозначается: определение, к чему, следовательно, близко и κήρυγμα. Ибо Епифаний, говоря об установлении поста, то употребляет выражение: определения (ὁρίξεσθαι), то—повеления (παράγγέλλειν). И историк Сократ о том же предмете, т. е. о посте, выражается таким образом: „поелику никто не мог относительно этого указать писанного повеления (παράγγελμα): то ясно, что апостолы предоставили (пост) произволению каждого“. Наконец, есть другие места у самого Василия Великого, из коих с несомненностью явствует, что „проповедывание“ употреблялось им как термин условный, именно: не как „проповедь“ и тому подобное, а как правило изданное ко всеобщему сведению. Так свое 30 правило он называет в одном из писем прямо κήρυγμα, или по русскому переводу—сделанным им постановлением 69). Но во всяком случае, принимая во внимание указанные аналогии, нельзя не признать единственно справедливым то понимание слова κήρυγμα, какое давали ему наши переводчики прошлого столетия, сделав к этому слову такое примечание: „под сим именем по-видимому означались церковные законоположения, уставы и правила, которые было обыкновение в древней церкви объявлять, дабы всякому были известны“ (л. 42). И стало быть κήρυγμα Василия Великого есть понятие относящееся исключительно к области практической, а не теоретической.
Но если κήρυγμα Василия Великого в рассматриваемом месте обозначает тоже самое, что и в других, т. с. „правило церковное“, установление, вообще—факт дисциплины в обширном смысле, а не положение учения веры; то что же будут значить „догматы“ рассматриваемого места? Как мы сказали, поставление самим Василием Великим как будто бы в параллель и догмата и проповедания— с одной стороны, а с другой — сознание невозможности принимать догматы не от св. Писания, (а что под „пись-
69) Письмо, по русск. пер. № 262, о похищении девицы: похитителей по 30 правилу должно отлучать на три года, что он и напоминает в этом письме.
— 46 —
менным наставлениям“ должно разуметь здесь у Василия Великого исключительно священное писание, вообще писанное слово Божие, канон Писания, а не книги церковных авторов, в этом не может быть сомнения 70), все это очень давно вызывало разнообразную интерпретацию „догмата “этого места с целью привести выражение Василия В. в согласие с тою мыслью, что учение веры имеет своим источником единственно св. Писание. Эта интерпретация сводилась главным образом к тому, что „догмат“ здесь понимаем был далеко не в смысле теоретической истины. Так уже средневековый католический канонист Грациан в его известных Decret, parsI, distin. XI, 5, приводя это место, передает его так: „из установлений церковных (ecclitiasticarum institutiommï) некоторые мы приняли как утверждающияся на священном Писании, а некоторые— как утверждающиеся на апостольском предании“ и проч. 71). Очевидно Грациан оба понятия: δόγμα и κήρυγμα не почитает чем то разнящимся по существу и обобщает их в понятии установлений, иначе сказать — прямо относит их к области практического, а не теоретического элемента в церкви. И такое понимание далеко не исключительное или свойственное только одним западным исповеданиям 72). даже древние русские канонисты чувствовали,
70) Беверегий (Codex eccles. primitivae, p. 226) спрашивает: почему Василий В. обряд преклонения колен относит к числу неписанных обрядов, когда уже существовало 20-е пр. 1-го Вселенского Собора, воспрещавшее в известные дни преклонение колен? Отвечает; потому что о преклонении колен ничего не определено в Св. Писании. Тожесамое— Probst. Lehre und Gebet in drei erst. Jahrhund. S. 12. Св. Василий В. говорит: о молитве на восток какое Писание· учит нас? „Если бы,—замечает Пробст,—Св. Василий под Писанием разумел книги христианских писателей, то он не мог бы спрашивать об этом, зная Климента и Оригена“. Но в том и дело, что книги богословов церкви считались преданием, а не писанием в собственном смысле.
71) Migne, Patrol. lat. t. 187, pp58—9.
72) Протестантский канонист прошлого столетия Бомер, в трактате de consuctudine (Jus eccles. protest. t. X) § 4, исследуемое место переводит так: „из установлений церковных некоторые (ecclesiasticarum institutionum quasdam) мы приняли от Писания, а некоторые от апостольского предания чрез преемство в служении (in ministerio)“. Следовательно, оба понятия Бемер соединяет в одно, и место это, по его мнению, свидетельствует только о том, что в церкви христианской право
— 47 —
(а может быть имели под руками и положительные основания в неизвестных нам теперь чтениях этого места Василия В.), что „догмат“ рассматриваемого места не может быть принят в смысле члена веры. Поэтому одна из древне-русских Кормчих дает такой перевод: „из сохраненных в церкви повелений и проповеданий, ова убо от неписанного учения имам, ова же от предания апостол“ и проч. (Кормчая Троице-Сергиевой лавры, № 206, лист 182). Следовательно, догмат был и у нас в древности переводим чрез „повеление“. Точно также я в новой русской литературе примеры перевода подобного указанному можно встречать 73). Но в особенности замечательно разъяснение того, какой смысл имеет „догмат“ исследуемого места, данное преосвящ. Филаретом Гумилевским 74). „Чтобы не понять учения Василия В. о предании—не так, как понимал он сам, не надобно забывать—говорит Филарет—сих слов Василия В.: вводить что-нибудь относительно веры из ненаписанного есть явное отступление от веры“. И св. Василий В. тем, что говорит в этом месте о „догматах неписанных“ в действительности ничуть не вводит в область веры принцип неписанности, иначе—не говорит, чтобы в самом деле были „догматы“, как члены веры, первоисточником своим не имеющие св. Писания. По мысли Филарета, когда св.
(jus), но не догмат, разделялось на писанное и неписанное. — Понимание всего вообще этого места новейшими русскими канонистами, конечно, было бы весьма важно иметь в виду. Но к сожалению, для этого не имеется материала. По отношению же к родоначальнику русской канонической науки нельзя не отметить следующего. Преосв. Иоанн Соколов в одном случае передает Василия В. таким образом: „из сохраненных в церкви установлений, некоторые мы имеем“ и проч. как в Книге Правил (Церковн. Законоведен. I, 60). Но в другом случае (ibid. 58) под именем 91 правила Василия В. рассматриваемое место Иоанн предлагает в таком виде, что обычное начало этого места отброшено и заменено несколькими фразами из 29 главы той же книги о Св. Духе (а по Книге Правил, правила 92), отчего образуется то, что по изложению автора вопрос о различии догмата и проповедания, конечно, и не может возникать.
73) Арх. Воронежский Игнатий (о Таинствах, СПБ., 1849, стр. 30) переводит: „из сохраненных в церкви постановлений и проповеданий, некоторые мы имеем от письменного учения“ и проч.
74) Историческое учение об отцах, § 138, примеч. 39.
— 48 —
Василий говорит о догматах, что о них молчат, а о проповеданиях говорят открыто: „то тем дает разуметь, что под догматом предания; (т. е. неписанным) у него разумеются не особые предметы веры, не основанные на слове Божием, а те пояснительные (в отношении к учению веры) действия и мысли, которые скрываемы были от оглашенных и язычников“. Исчисляя предметы предания, св. Василий, по мысли Филарета, уже „тем самым объясняет и значение того, что у него названо догматами“. Каким образом объясняет? Тем, что в этом перечислении (обстоятельство, как было замечено, всегда обращавшее на себя особое внимание комментаторов), у Василия В. как раз и не оказывается указаний на действительные предметы учения веры, догматы в обычном смысле слова: перечисление состоит из указаний только на некоторые действия. Эти то особого значения действия, выражавшие идеи внутреннего, не пред всеми обнаруживаемого учения христианского, стало быть и составляет собою то, что здесь Василий Великий обозначил термином „догматов“. (Под именем не пред всеми обнаруживаемого учения, конечно, не должно разуметь того, чтобы церковь в учении веры что-либо скрывала от своих совершенных, т. о. уверовавших вполне, членов, а лишь то, что церковь ради устранения возможности смущения, соблазна и т. и. пред ищущими христианства не спешила раскрывать внутреннего сокровенного значения многих действий литургических, что было даже и в том соображении, что относительно таковых ищущих не всегда могла быть уверенность, сделаются ли они совершенными христианами, или ограничатся одной попыткой войти в ограду церкви. Наоборот, основные положения веры не скрывались и от внешних, сколько бы эти положения ни казались человеку неудобоприемлемы 75). Вот сущность предлагаемого Филаретом объяснения того,
75) Так св. Кирилл Иерусалимский, обращаясь к просвещаемым, говорит: „если будет у тебя допытываться оглашенный: „что говорили учащие? Ничего не пересказывай стоящему вне... Когда потом изведаешь высоту преподаваемого, тогда узнаешь, что оглашенные недостойны слышать это». Слово предогласит. § 12. Это и есть то учение, которое,—по выражению Св. Василия,—„отцы наши сохранили в недоступном любопытству молчании“.
— 49 —
что здесь у Василия В. значит догмат. Объяснение это, очевидно, состоит в том, что по мысли Филарета Василий В. словом: δόγματα обозначал здесь не догматы в смысле теперь принятом (ср. выше), но и неисключительно обряды, как это давно также и многие думали, какого бы происхождения и значения эти обряды ни были, но — лишь те обряды и действия, которые выражают догматический смысл, связаны с самой верой, обусловливаются требованиями исключительно внутренней жизни христиан, и потому по пред всеми без всякого ограничения открываемы и тем менее всем понятны. Таковые обряды, действительно и бесспорно, должны быть разделены на два рода: данные в самом Писании и принятые по преданию, как это и указано св. Василием В. При таком объяснении нет надобности уничтожать самостоятельное значение выражения: κηρύγματα (как то делал еще Грациан), сглаживая и догматы и проповедания в одном, как казалось, более общем понятии „установлений церковных“, или наоборот, усиливаясь, для выражения раздельности между обоими терминами, κηρύγματα приурочить исключительно к обряду, δόγματα—к учению веры. Догма, по мысли Филарета, таким образумь, значит и обряд,—по в смысле того, что этим термином могут быть обозначены только некоторые особенные, существенные в церкви, действия; значит и учение, по в смысле учения, выражаемого в действии обрядовом. Крещение, например, есть с одной стороны выражение учения о возрождении, а с другой, конечно, есть совокупность известных действий, и хотя оно совершается всегда только определенным образом, следоват. и самому порядку, и способу совершения действий придается известная важность, но действия крещения (видимая сторона таинства) имеют не какое-либо практически служебное значение сами по себе, а значение исключительное, лежащее вне естественных следствий тех действий, совершение которых составляет крещение.—Наоборот „проповедания“ касаются уже исключительно порядка жизни внешне-церковной, порядка ни от кого не скрываемого, в основе своей не имеющего ничего таинственного, и преследующего лишь интересы дисциплины и благоустройства, свойственного всякому обществу. От кого, например, была на-
— 50
добность скрывать и какой иной смысл, кроме дисциплинарного, могло иметь то положение, что у христиан похитители девиц наказываются отлучением (ср. выше) 76). И такое понимание вопроса, какое предлагает Филарет, имеет аналогию в других известных фактах. Так и в древности δόγμα иногда употребляло не исключительно в смысле члена веры, а и в смысле близком к „повелениям“. Правило 6 II Вселенского собора δεδογμίνα, как производное от δόγμα употребляет в смысле того, что определено по каноническому суду (книга Правил: „постановленное решение“), а не в смысле вероопределения. Позднее прямое сопоставление догмата и проповедания, сопоставление могущее освещать мысль св. Василия, встречается у патриарха Александрийского Евлогия (ум. 607) в передаче патриарха Фотия. Пересказывая содержание одного из слов Евлогия, Фотий говорит: „в этом слове (Евлогий) говорит, что из предлагаемых в церкви служителями слова учений одни суть догматы, другие проповедания (греческие термины—те-же, что и у Василия Великого). А различие между ними такое: догматы возвещаются прикровенно и с осторожностью (μετ’ ἐπικρίφεως καὶ σοφίας), а часто намеренно окружаются неясностью для того, чтобы святое не выставлять пред непосвященными и бисер не метать пред свиниями. Проповедания же возвещаются без какой-либо прикровенности, и в особенности те, которые имеют смысл заповедей и служат к охранению страха Божия. И из догматов есть еще некоторые таинственнейшие, которые только тем бывают таинственно преданы, которые от слова жизни получили духовную опытность к тому, чтобы предложить оные верующим“ 77). Ясно, что „проповедания“ здесь понимаются не в смысле истин теоретических, а в смысле истин преимущественно практических, равно как и высказанное здесь понимание догмата как теоретического положения не противоречит понятию о догмате как таинственном действии,
76) Наоборот: Лаодикийское 5-е правило говорит: „рукоположение по должно происходить в присутствии слушающих“.
77) Photii, Biblioteca, cod. 230, ex recens, Beckori, 1824, p. 267.
51 —
выражающем теоретическую идею, в известных случаях „охраняемую молчанием“, по выражению св. Василия.
На различении веры и дисциплины основывается классификация ересей и у св. Епифания Кипрского, а также часто основаны и самые его характеристики ересей и расколов. Вот как он характеризует Авдия и Авдиан и как рассуждает об этом расколе „Авдиане есть раскол, а по ересь. Они имеют у себя не только дисциплину (διαγωγή) и образ жизни благоустроенные, но и веру во всем содержат так, как (содержит ее) кафолическая церковь. Но имеют также и нечто особенное (καὶ ἱδ ιωτικὸντί) и любопрительное“. Авдий сам славился чистотой жизни и веры (βίος καὶ πίστις). Но если он видел кого-либо в роскоши и изнеженности или видел искажающим что-либо в церковном проповедании и дисциплине церкви (κὴρυγμα καὶ θεσμός) 78), то, не снося этого, не сдерживался в слове. А это было неприятно людям, имеющим жизнь не благоустроенную“. В конце концов, как известно, Авдий отделился от церкви, однако, прибавляет св. Епифаний—отделился, „не имея у себя какого-либо изменения в вере, а (напротив) правильнейшим образом веруя и сам и приверженцы его“. Вслед за этими словами Епифаний прибавляет еще, что „достойно удивления, как твердо Авдиане сохраняют православнейшее учение, как равно заслуживает уважения и все прочее в их жизни“ 79). Авдиане в вопросе о времени празднования Пасхи ссылались на Апостольские Постановления. Об этом памятнике св. Епифаний замечает (называя его несколько иначе, чем теперь принято: именно διατάξεις (вместо διαταγαί) Αποστόλων): „в ном заключается весь канонический порядок, и нет никакого искажения в отношении к вере, как равно и в отношении к церковному управлению и канонам и к исповеданию 80). Так же почти Епифаний выражается о мелетианах. „Партия (τάγμα) Мелетиан—от Мелетия быв-
78) Это также показывает, что Κήρυγμα было термином более близким о закону, нежели к учению веры.
79) Орр. edit Petavii, 1682, pp. 308. 31h 12 cp. русск. пер. Твор. ч. IV. 235. 239. 41.
80) В последнем случае—опять πίστις, которое обыкновенно, наприм. Бароний, Annales, II, р. 17, и переводят чрез исповедание.
— 52 —
шего епископом кафолической церкви и (человеком) правой веры; ибо вера его пи в чем не уклонялась от кафолической церкви. Он произвел раскол, ничего однако не изменив в вере“ 81). Напротив, об Оригене Епифаний рассуждает таким образом: что' в беседах у него сказано, то, по Епифанию, большею частью сказано прекрасно; „в том же, что он учил относительно догматов и относительно веры, и (вообще) относительно предметов высшего созерцания (μείζονος θεορίας); то об этом нужно сказать, что самое несообразное из когда-либо сказанного всеми кто и прежде и после него жил, находится именно у него“ 82). Прямое противоположение веры и церковно-устроения у Епифания встречается в таком виде. Заключая свой трактат о вере, Епифаний говорит: „и так, до сих пор мы говорили о том, что относительно веры содержит единая кафолическая церковь—что учит об Отце и Сыне и Св. Духе, воплощении и об иных членах веры (περὶ ἄλλων μέρων τῆς πίστεῶς). Теперь же мне необходимо предложить еще немного об установлениях ее (περὶ θεσμῶν)“; а когда было исполнено последнее предположение, Епифаний заметил; „таков образ св. церкви, вместе с ее верою вышеизложенною, и таковы установления в пой наблюдаемыя“ 83). В рассуждепиях об этих установлениях Епифаиий трактует как о порядке управления церковью, так и о порядках богослужебных, так и о вопросах касающихся образа индивидуальной жизни, поскольку вопрос этот имеет отношение к церковной дисциплине,—причем ясно становится, что один и тот же термин употребляется им как в применении к понятию образа жизни в обычном смысле этого выражения, так и в применении к понятию об образе жизни, когда вопрос о нем является вопросом церков-
81) Edit. Ptave. p, 716—17 Ср. русск. пер. ibid. 91. Переводить так и предпочитать обычному переводу: „он не был изменником веры“ есть основание но аналогии с гл. III, где Епифаний повторяет: „Мелетий заботился относительно дел церкви и веры, ибо ничего не имел такого, что он извратил бы“. Petav. р. 719: „ничему не учил от церкви отдельному, или ей чуждому“.
82) ibid., 529; ср. русск. пер. III, 87.
83) ibid., 1103. 1107; русск. пер. V, 356. 358.
— 53
ной дисциплины: этот общий, употребляемый Епифанием, термин есть полития. Так Епифаний говорит, что из монахов „некоторые носят длинные волосы, конечно, ради особого рода жизни (πολιτεία), но это у них делается по собственному соображению, так как—ни евангелие этого не повелевает, ни апостолы этого не наблюдали, ибо Ап. Павел отверг такую особенность во внешности (σχίμα)». И потом продолжает: „соблюдаются в той же самой Вселенской церкви и иные похвальные образы жизни (πολιτείαι), (это по Епифанию выражается: в воздержании различных степеней и от различных, самих в себе безразличных, предметов). В смысле совокупности всей дисциплины Епифаний употребляет термин политии в том случае, когда говорит об иудействе, что до Моисея „нельзя сказать, каков был образ жизни сынов израилевых (πολιτεία)— разве только то, что они пребывали в богочтении и соблюдали обрезание“. Но в другом случае понятие образа жизни и дисциплины у Епифания явственно различаются по терминологии, и в тоже время как то, так и другое отличаются от веры. „Не мало людей, говорит Епифаний—которые удивляются жизни Евстафия, равно как и дисциплине его (βίος καὶ πολιτεία). О, если бы и в вере он право мыслил“ 84). Совокупность учения о каком-либо предмете веры Епифаний называет: σύστασις τῆς πίστεως, т. е. состав учения веры, а иногда „учение (διδασκαλία), истинной веры“ 85), причем последний термин (διδασκαλια) и отдельно взятый подразумевает не какое-либо иное учение, а учение веры. Поэтому „проповедание учения“ (κήρυγμα διδασκαλίας)у него равнозначуще: учения истинного и спасительного.—Внешнее выражение свое дисциплина, по Епифанию, имеет не только в каком-либо „установлении церковном“ (θεσμὸς),но также и в „определении“ (ὄρος) и в правиле (κάνων): иначе сказать—установления, определения и правила—все это выражает собою идею и факт существования дисциплины в церкви христианской. Вследствие этого, по мысли Епифания, дисциплине противоположен собственно сепаратизм, но не ересь, так как последняя есть заблужде-
84) Edit. Petav. pp. 906, рус. пер. V, 36. 85) Petav. p. 914. 228. 114.
54
ние теоретическое, относящееся к области учения веры. Потому же, в свою очередь, отмечая сепатистические стремления людей, предпринимавших свое спасение вне всестороннего общения с церковью, факты, выражавшие сепаратизм в образе жизни (πολιτεία) Епифаний называет действиями „вопреки установлений (παρὰ θεσμοὺς) Церкви“, но не „вопреки вере“, и оценка таковых действий сводится им к тому, что подобные действия „не служат к похвале“, но не служат и причиною вечной погибели. Так потому же поводу, говоря об обычаях жития монашеского, Епифаний замечает, что „иные от собственного ума установляя для себя дисциплину и законы в отношении к жизни“ (περὶ τῆς πολιτείας ἄσκησις καὶ βεβμοί), носят длинные волосы, а иные вопреки канонам (παρὰ τοὺς κανόνας) собирают у себя молитвенные собрания,—как и наоборот —у иных каждый сам по себе молится и, наконец, иные надевают даже цепи на шею: в последнем Епифаний не видит ничего дурного. Но дело в том, что это—„вопреки постановлению церкви, есть юношество по своему измышлению, не ко благу и совершенству, юношество очень тиранствующее (τνραννικώτερον)“ 86), т. е. следствием несоблюдения дисциплины общественной, по Епифанию, бывает не свобода, а еще большее порабощение собственному произволу.
Области веры и дисциплины явственно были различаемы и в официальной деятельности соборов церкви, что выражалось, разумеется, и в официальной терминологии. Самая ранняя формула тех задач, какие возлагались на соборы, была выражена так: „собираясь в одно место исследуйте, что прилично и полезно братиям.“ (Послание Варнавы, гл. 4). Позднее 37-о апостольское правило задачи соборов определяет так: „да рассуждают (епископы) между собою о догматах благочестия“ (τὰ δόγματα
86) Petav. р. 1094—5. Из одного места (ibid. 735) по-видимому можно заключить, что канонами Епифаний называет дисциплинарные определения более общего характера, именно то, что можно назвать общим законом. Ὀρος же есть определение относящееся к какому-нибудь частному случаю,—иначе, решение частного вопроса. Так он выражается, что на I Всел. соборе изданы были каноны церковные, „а вместе с тем отцы определили (ὅρισαν) и относительно празднования Пасхи“--совершать единообразно это празднование.
55 —
τής εὐσεβίας) и „да разрешают случающиеся церковные прекословия“. Что такое церковные прекословия, разрешение которых правило возлагает на соборы? Вальсамон понимает это как „разрешение сомнений“, но каких— догматических или дисциплинарных? Нельзя не заметить прежде всего, что в первые века дисциплинарные вопросы лишь в исключительных случаях восходили на соборное рассмотрение, так как водворение совершенно единообразного дисциплинарного строя не считалось потребностью вселенской церкви,—как это заметно стало впоследствии, и издавались собственно не каноны, как нормы всеобщие, — а совершенно относительные и местные решения дисциплинарных вопросов, что с канонами не одно и тоже. Этот характер соборных решений происходил от того, что, с одной стороны, основные черты устройства и управления церкви считались вне всяких прекословий как данные уже в самом Писании, и могли возникать только вопросы подробностей, (как например, вопрос о числе диаконов в каждом городе, возникший на неокесарийском соборе),—а с другой—потому, что по церковным воззрениям первых веков и каждый отдельный епископ мыслился как полный и самостоятельный распорядитель всего, что относилось до подробностей в церковном устройстве и церковном управлении, конечно это — в пределах нерушимости основных положений и при условии неприкосновенности веры. Вследствие этого—определения соборов в первые века (н даже трудно сказать— до какого времени далее) имели силу только в тех местностях, епископы которых посылались на собор; для церквей же, епископы которых не участвовали на известных соборах, соборные определения этих соборов не считались обязательными: так определяет права епископов беспристрастный исследователь 87). Вследствие этого же неудивительно будет, что указанное апостольское правило, выделяя „догматы благочестия“, как предметы соборной деятельности, не говорит, подобно тому как это было позднее, до очевидности раздельно и о дисциплине, а по
87) Преосв. Сильвестр, Учение о Церкви в первые три вв. Киев, 1872, стр. 188. 317.
— 56
всей видимости эту сторону церковной жизни включает в категорию случающихся прекословий,—так как такой прекословный характер дисциплинарные вопросы и имели, когда восходили до соборного рассмотрения, — например спор о пасхе, о крещении еретиков, как почти и все вообще Апостольские Правила носят в себе следы того, что они или отвергают дисциплинарные нововведения (например, епископ да не изгонит жены своей), или приводят к единообразному решению то, что до сего времени не было единообразно решаемо 88). Но во всяком случае 37 Апостольское правило служит ясным доказательством, что предметы соборной деятельности различались на две категории: „догматы благочестия“, о которых епископы „рассуждают“ друг с другом, и „церковные прекословия“, которые они „разрешают“ иначе сказать,— вера и дисциплина. К числу не очень ясных свидетельств о предмете деятельности древних соборов, относится свидетельство Тертуллиана, что „в некоторых местах Греции собираются из всех церквей соборы, на которых сообща рассматриваются важнейшие вопросы“ (altiora’ de Jejun. с. 13). Но едва ли должно думать, чтобы это свидетельство представляло собою что-либо особенное по сравнению с свидетельством указанного апостольского правила, т. е. чтобы под этими важнейшими вопросами Тертуллиан подразумевал исключительно „догматы благочестия“, или же наоборот исключительно вопросы дисциплины. Если же за тем признать применимым к до-Никейскому периоду, то бесспорное различие между соборами,
88) Позднее задача соборов в отношении к дисциплине определяема была таким образом: „рассматривать вновь возникающие вопросы, как еще неясные и совершенно непонятные“, если они не решены узко в Священном Писании. Деян. Пом. Соб. русск. пер., стр. 112. Но возникавшие прекословия в вопросах дисциплины на соборах хотя обыкновенно и были разрешаемы, но тем не менее не всегда решаемы таким образом, чтобы давалось так сказать единственное только решение, как это естественно бывало в решениях вопросов догматических: наоборот и сами соборы принимать иди не принимать их решение иногда предоставляли усмотрению каждой Церкви. Так одно из Карфагенских правил, сделав постановление о воздержании клириков от собственных Жен, однако же заключало ото правило таким прибавлением; „впрочем следует соблюдать обычай каждой церкви" ibid. 162.
— 57
что одни из них были соборами исключительными, другие—соборами регулярными, какими являются соборы ежегодные, по апостольскому правилу: то вместе с этим должно будет признать и то, что регулярные соборы в качестве органа собственного управления, а не законодательства более имели дело с вопросами церковной дисциплины, нежели с вопросами веры. Фирмилиан в письме к Киприану, на разных аналогиях утверждая мысль о важности церковного управления на началах соборности (например: „за тем-то и пророков так много, чтобы божественная мудрость была распределена на многих“), о предметах соборной деятельности говорит: „по той же причине и у нас признано необходимым собираться ежегодно старейшинам и начальникам вместе, для распоряжений по делам вверенным нашему попечению, для решения важнейших из них общим советом“ и т. д. 89). Если же наконец приходится признать тем не менее (по причине относительной скудости памятников соборной деятельности), что такую отчетливость в различении веры и дисциплины, какая видна в соборах последующего времени, не всегда можно бывает усмотреть и указать в доникейское время; то это отчасти и потому, что доникейская терминология несколько отлична от терминологии последующей. Так, самое употребительное в области вопросов дисциплины слово: канон, в последующее время как бы самым фактом своего употребления в том или другом случае обыкновенно указывавшее на область дисциплины, в первые три века употреблялись не с тем исключительном значением с каким стало употребляться позднее. „Канон“ первоначально употреблялся для того, чтобы обозначить правило веры, и лишь редко как образец и принятый способ действия в известных случаях, по все-таки и здесь, в последнем случае, не как правило или закон, изданный соответствующею властью. Так приводимый св. Василием В. отрывок из Дионисия Римского (+ 259) указывает на то, что „тип и канон“ (τύπος καὶ κανών) Дионисий употреблял в смысле
89) Mansi, t. I, р. 911, ср. русский перев. Творений Киприана, ч. I, стр. 326.
— 58 —
примера предшественников, усвоенного преемниками по служению 90). Но пример, конечно, не правило и не закон. Тоже, что после Никейского собора почти исключительно было называемо канонами, в раннейшее время было называемо: ὅρος, definitiones. Так известный Ипполит, когда о Римском папе Зефирипе выражался как о „несведущем в церковных определениях“, ορος то конечно разумел не неведение папы в догматах и вероучении, а именно в том, что впоследствии называлось канонами.—Теперь дальнейший вопрос должно составлять то, как соборы после Никейского времени разграничивали области веры и дисциплины?
Когда соборы давали решение вопросов вероучения, то соборные определения значились термином: ἔκθεσις πίστεως. От вероопределения уже совершенно различались: κανόνες и ὅροί τῆς συνόδου“. Термины: „Каноны и определения“ на соборах всегда почти получали приложение к дисциплине, а если и встречаются случаи того, что и для вероизложений употреблялся термин „определения“: то эти случаи отступлений имеют особый смысл, который, как представляется думать, заключается в следующем, догматы о двух естествах, о двух волях, об иконопочитании в актах вселенских соборов подлинном тексте названы „определениями“ (ὅροι): разумеем акты соборные, хотя в нашей Книге Правил этот термин заменен термином догмата 91). Но спрашивается: разве учение о двух волях не ость предмет или член веры? Конечно, предмет и член веры; по определением это учение может быть названо потому, что оно (учение) дано церковью в разрешение дальнейших вопросов, возникающих на почве изложения веры, данного в символе, в котором вопросы эти не были еще решены и вследствие этого подвержены были разногласию. Аутентичное и всеобщеобязательное решение и было дано в этом „определении“ касательно возникшего вопроса. И стало быть „определением“ догмат о двух волях может быть назван не потому,
90) Routh, Rei. sacrae. IV, 202; ср. твор. Василия В. р. п. ч. III, 343.
91) См. Деян. Всея. Соб. по русск. пер. т. VI, 472 — 2; VII, 592 и Кн. правил.
— 59 —
чтобы по содержанию своему он не относился к вопросу о вере, иначе—не по существу содержания, а по обстоятельствам, сопутствовавшим внесению этого догмата в сумму всеобщеобязательного церковного учения. Что же касается до учения об иконопочитании; то это учение еще естественнее было назвать определением потому, что по содержанию своему, оно касается вопроса литургического, а не умозрительного. Но так как по степени обязательности учение об иконопочитании имеет свойство члена веры, т. е. обязательность в известном смысле безусловную; то определение VII вселенского собора можно назвать как-бы догматическим каноном без опасения соединить два несовместимых понятия: то есть, понимая под „догматическим каноном“ такой канон, которому никогда, ни при каких условиях не может быть противуканона, или решения иного, кроме данного,—что наоборот и бывало в истории решений и определений чисто-дисциплинарных. Примеры таких догматических канонов в истории древней церкви можно указать и ранее VII вселенского собора. Так, очевидно, 49 апостольское правило хотя определяет способ крещения, но дает капов равносильный, по своей обязательности, члену веры: крещение „не по Господню учреждению“ в смысле крещения но во имя Троицы, а во имя трех бесконечных и проч. никогда не могло быть принято и не будет принято 92). Что только исключительные условия, при которых составлялись вероопределения после времени издания никео-цареградского символа, изменили терминологию так сказать основную, это видно из сопоставления следующих данных. „Веруем“, „сия вера апостольская“; „мы содержим и исповедуем веру так, как приняли ее: вот сия вера“: в таких словах первый вселенский собор выражается о своем вероизложении,
92) Что в церкви не только может, но и должно быть то, что мы называем догматическими канонами, причем такие Канопы нет надобности именовать и догматами, эта мысль встречается в нашей богословской литературе под видом того положения, что „церковь может утвердить за известными, хотя бы и частными правилами церковной дисциплины авторитет неизменности на последующие времена“. Смот. прот. Иванцова-Платонова: О Римском богослужении, в Душепол. Чтен. 1868, II, 234.
— 60 —
известном под именем символа веры. Второй Вселенский собор, посылая свои правила императору Феодосию, свою: деятельность определяет так: „сначала мы возобновили согласие между собою; потом изрекли краткие определения, в которых утвердили веру отцов». Это главное в деятельности собора. Но „кроме того постановили точные правила о благоустройстве церквей“, или, как выражался относительно благоустройства третий Вселенский собор, правила, относительно того, „что полезно и необходимо для согласия и общения, и благоустройства“ 93). В актах третьего же Вселенского собора видим, что правила в собственном смысле (каноны) собор озаглавливает как то, „что постановлено было на соборе“, и постановленное собор формулирует в правила для того, чтобы „те, которые не были на соборе, не оставались в неведении о постановленном“ 94). Четвертый Вселенский собор символ I и II соборов называет „верою“ и себя объявляет состоявшимся „преимущественно“ ради утверждения веры, чтобы „учение о предметах веры было правильное“. Поэтому, делая свое „определение“, — чем,
93) Деян. Всел. Соб. русск. пер. т. I, стр. 263 — 4, 192—3; II, 23—24. В известном послании Евсевия (Деян. I. 193) Кесарийского о том, что было на первом Вселенском соборе, читаем: „изложение (веры) было выслушано; император исповедал, что он сам так же мыслит и потому велел подписать содержащиеся в изложении догматы. Изложение же веры следующее: веруем и проч.—Относительно выражения И Всел. собора: „изрекли определения* нужно иметь в виду содержание первого канона этого собора: „вера отцов, собравшихся в Никее, да не отменяется", то есть, имеется в виду неприкосновенность вероизложения, в смысле неприкосновенности редакции никейского символа. В послании к Римской церкви II Всел. собор извещает ее: „на соборе мы изложили наше исповедание веры... Что же касается до частных правил церковной жизни, то вы знаете,—у нас в силе древний закон (θεσμός)—чтобы в каждой церкви совершаемы были рукоположения епархиальными епископами" и проч. Феодор. Церковн. истор. V, 5. Ср. Деян. Всел. соб. I, стр. 287 (переводы—неодинаковы),—Второе правило того же собора все церковное управление поместных церквей и вообще все действия, имеющие отношение к этой стороне, называет Экономией (например: „да не приходят епископы за пределы своего диоцеза ἐπὶ χειροτονία ἤ τισι ἄλλαις οἰκονομίαις ἐκκλрσιαστικαῖς)“, и управлять церковью значит: οἰκονομεῖν, напр., согласно обычаю отцов и т. и.
94) Деян. т. II. 16.
61 —
как мы сказали, вносилась особенность в терминологию,— относительно догматического вопроса, этот собор однако предпосылает определению такое рассуждение: последующе божественным отцем, вси единогласно поучаем исповедывати (ὁμολόγεῖν) Единого и тогожде Сына и проч. „яко же Сам Господь научи нас“: т. е. вера, строго говоря, исповедуется, а не определяется. Шестой Вселенский собор в отношении к рассматриваемому вопросу дает следующее: изложение учения о двух волях и действиях предваряется чтением „изложения веры“—символа Никео-Цареградского. „Конечно—рассуждал собор после этого чтения — для познания веры достаточно и сего символа Божественной благодати“. Но как появилась ересь одной воли и одного действия; то собор занялся этими заблуждениями и—„согласно определяя исповедует, что Господь наш Иисус Христос“ и проч. И в заключение: „после того, как все сие установлено, определяем, что никому не позволяется проповедывать другую веру или иначе учить“ 95). Но иначе уже собор выражается о своих дисциплинарных определениях, называя их правилами. „Так как, рассуждал собор, предшествовавшие два святые и вселенские соборы, разъяснив отечески таинства веры, вовсе по оставили священных правил, чрез которые бы народы отстали от худого и порочного поведения и обратились бык лучшей и чистой жизни, поэтому— собравшись, мы написали священные правила“, или „определения“, что собор считает за одно и тоже 96). Наконец седьмой Вселенский собор определяет свою деятельность таким образом. „Господь Бог отовсюду собрал нас, представителей священства, да утвердится общим определе-
95) Деян. Вселен. соб. т. VI, 471—2, а также деяние восемнадцатое и конец семнадцатого. Может быть, характернее догматическая деятельность VI Вселенского Собора выражается в следующих словах самого Собора, как бы резюмирующих всю его деятельность: „Собор с достодолжным тщанием исследовал вопрос о вере, и уничтожил каким-то образом возникшее разногласие относительно православия, а в настоящее время (было последнее заседание) произнес точное определение, утверждающееся на Свящ. Писании и согласное с учением отцов, в утверждение правых догматов благочестия“ (ibid. 465),
96) Ibid. 576—7.
62 —
нием божественное предание кафолической церкви. Итак, мы исследовали и рассмотрели дело весьма тщательно и, следуя истине,—сохраняем в церкви все, что есть лучшего. „И так, мы веруем“ и проч. следует изложение никео-цареградского символа; „мы гнушаемся Ария и его единомышленников“. Затем, собор выражает принятие им догматических определений соборов: ефесского и халкидонского, пятого и шестого и продолжает: „кратко сказать: мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания (παράδοσεις), утвержденные письменно или неписьменно“,—а „одно из них и заповедует делать живописные иконные изображения, так как это согласно с историей евангельской проповеди и служит на пользу нам“ 97). А потому—„кто отвергает всякое писанное и неписанное предание—анафема“. С первого взгляда, представляется, что в приведенных рассуждениях собор, как будто бы наоборот — все уравнивает в деятельности церкви — догматы и предания относительно практической жизни, а стало быть—доктрину и дисциплину в церкви христианской. Но это, вероятно, несовершенство редактирования соборных деяний, которые сами по себе могут служить лишь историческим и научно-богословским основанием того или другого положения, но не во всякой букве и но во всяком словообороте имеют абсолютно-обязательное значение подобно как вероопределение или правило 98). Тезисом же соборного определе-
97) Деян. т. VII. 590—92. 628: Ср. Книгу Правил.
98) От определений соборных, догматических и канонических, необходимо отделять соборные деяния, ибо неразличение определений и деяний может быть поводом к тому, что чисто исторический элемент на соборах будет принят за руководственный, или обязательный, чего конечно, не должно быть,—как и действительно не вводится в церковную практику многое из того, что могло бы иметь примеры в деяниях того или другого собора. В пример этой необходимости можно указать на так называемый Карфагенский собор по нашей Книге Правил. Вопрос о количестве правил этого собора стоит в прямой связи с вопросом о различии между правилами в собственном смысле и соборными деяниями, и это - с такою ясностью, что Карфагенские правила привели издателя Греческой Кормчей — Пидалиона к следующему замечанию: „правила эти не суть на самом деле правила и определения (ὅρος), а по большей части собеседования отцов, с вопросами и ответами: просто сказать деяния, которые могли быть правилами, но не суть правила в их перво-
— 63
ния здесь служит—не общая мысль: должно сохранять все церковные предания, а—частная должно сохранять предание иконопочитания, как одно из числа таких преданий, которые имеют основание для своего существования и но испытании этого основания „со всяким тщанием и основательностью“ „согласно древнему законоположению отцов наших“ 99). Мысль Вселенского собора в этом отношении еще явственнее выступает в первом каноне собора: здесь „под именем начертаний канонических порядков“ (αἱ τῶν κανονικῶν τάξεων ὐποτύποσεις) собор хочет указать те начала дисциплины, которые должны служить руководством для „приявших священническое достоинство“. Подобно тому, как делая определение об иконопочитании, собор во главе определения свидетельствовал о своем единении с отцами в вере: так здесь, при начертании порядков, он свидетельствует также и о единении с отцами в отношении ко всему, что касается дисциплины: „с любовию принимаем божественные каноны, и постановления, даваемые этими канонами (διαταγαὶ αὐτών), а также распоряжения (διατάγματα) соборов вселенских и поместных“. Замечательно определение цели или оснований бытия последних, т. о. соборов поместных, по разумению VΙΙ Вселенского собора: они „поместно собирались для издания таковых распоряжений“. Высказав такие начала, Вселенский Собор и сам продолжает непрерывную регулирующую деятельность церкви—изданием своих правил,
начальном виде“. Поэтому издатели поступили с карфагенскими правилами так: „отбросили надписания (о том, что и проч., как это и в нашей Книге Правил), а разговоры и вопросоответы переделали в определения и правила“.— (См. Никольского, Пидалион, М. 1888, стр. 69). этот элемент „деяний“ не отделен от элемента канонического в собственном смысле в правилах Карфагенского Собора и по нашей Книге Правил, и оттого здесь под именем правил существует определение об осуждении епископа Экития (пр. 76), или правило 122, которое, конечно, может быть, правилом, но только во второй половине своей.
99) Ср. Филарета, Слово о преданиях. Главная мысль этого слова: должно остерегаться обеих крайностей, выражающихся в том, что одни обращают внимание только на то, что в преданиях есть темного и недостоверного, и отсюда освобождают себя от дальнейшей заботы о преданиях; другие „без исследования слепо держат предания как-нибудь упавшие на их руки“.
64
частью установляющих только условный порядок, частью принципиально решающих общие вопросы порядка.— Свидетели и историки Вселенских соборов, говоря о соборной деятельности, также обыкновенно различают в ней две стороны: в отношении к вере и в отношении к дисциплине. Геласий Кизический, например, различает двоякого рода определения первого Никейского собора: ὅροί и διατνποσεις: первые—это определения относительно дисциплины, а вторые „о кафолической и православной вере“.— Сократ и Созомен, повествуя о том же соборе, дисциплинарную деятельность его ставят как бы вне настоящего предмета деятельности этого собора, как его только добавление. Сократ: „тогда собравшиеся на соборе епископы (кроме изложения веры) написав и нечто иное, что обыкновенно называют правилами (κάνονες), отбыли каждый в свой город“. Созомен: „собор ревнуя об исправлении образа жизни клириков, издал законы, которые называют канонами“... Прибавим, что и сам собор Никейский I Вселенский, как об этом замечаемо было ранее, видимо отделяет все, что им определено в отношении к вере, от того, что выражено им в канонах. В послании к церквам египетским собор, между прочим, говорил: „что касается до прочего, что (на соборе) постановлено или определено (εκανονίσθη ἤ δογματίσθη) это сам Александр сообщит вам“ 100). В этом смысле выражается и послание императора Константина: собор изображается устранившим „недоумения относительно веры“; но здесь же было произведено и исследование относительно дня пасхи, иначе—на соборе дан „образ вселенской веры“ И „образ соблюдения дня пасхи“ (παρατήρησιν διατάττειν). Георгий Кедрин о различии поместных и вселенских соборов рассуждал таким образом: поместные соборы „составлялись — ради местных вопросов и на них но присутствовали императоры, как и не по их повелению эти соборы бывали собираемы“. Вселенские же, по мнению Кедрина, названы были так потому, что на них были созываемы архиереи всего римского государства, и еще потому, что на каждом, в особенности на первых шести
100) Сократ, Ист. 1, 9. Migne, g. V. Col. 81.
65
соборах, было изыскание относительно веры и предлагаемо было решение или определение догматическое“ 101).
Таким образом и по существу дела и по слововыражению, на вселенских соборах область дисциплины была выделяема в область особую и, можно сказать, для веры служебную. Соборы поместные, как это было отмечаемо и древними писателями, естественно имели дело по преимуществу с дисциплиною (ср. выше приведенные суждения Фирмилиана о том, что делалось на ежегодно созываемых местных соборах), и при том с дисциплиной часто в ее прекословных и недоуменных вопросах, так как то, что не требовало общего рассуждения и было уже бесспорно, могло быть, как мы уже замечали, по праву устрояемо каждым местным епископом. В подлинных памятниках поместной соборной деятельности, до нас дошедших, этот характер деятельности поместных соборов выражается уже тем, что они давали своей церкви не вероопределения в собственном, или в точном смысле слова, а лишь некоторые „частные черты вероопределений церковных относительно тех или других христианских догматов“. (Преосв. Сильвестр, Догм. Богослов. I, § 14); притом и этот результат является далеко не постоянно, т. е., не у всякого поместного собора, бывшего органом поместной церковной администрации, как и поместного церковного суда. Постоянный же результат деятельности поместных соборов составляли каноны, что для вселенских соборов, наоборот, как мы видели, было делом сверх прямой цели их созвания: πρὸς τούτοις καὶ κανόνας δρίσαμεν—выражение II Вселенского собора, равно как и другие Вселенские соборы, издавая каноны часто дают знать, что к этому давали повод случайные обстоятельства, что и было выражаемо на соборах таким образом: „дошло до собора“, „понеже мы уведали“ и т. п. Задачу поместных соборов, хотя, повторяем, принимаемую на себя вселенскими, но только между прочим, в древности выражали как κανονίζειν τὰς ἒκκλησιας, и это выражение, во всякого рода производных, было весьма употребительно в тех случаях, когда дело шло именно
101) у Свицера, II. 1172.
66
о дисциплинарной деятельности, хотя у некоторых раннейших писателей κανονίξειν употреблялось в приложении и к теоретической стороне 102). Перевод слова κανονίξειν, если искать буквального перевода, дается различный и иногда давался даже перевод тенденциозный (напр., учеными римской церкви). Но во всяком случае трудно будет не согласиться, что внутренний смысл „канонизации“, во всей его обширности и безотносительно ко всем подробностям условной терминологии, можно лучше всего выразить словами VI Вселенского собора, сказанными относительно тех задач, которые лежат на церковной иерархии: „все устроят к пользе порученных паств“, „прилагая истечение о спасении и о препятствии людей на лучшее (прав. 2)“! Пример же того, как можно устроят все к пользе спасения людей, можно видеть в эпилоге правил собора Гангрского, который своими каноническими постановлениями, по видимости, осуждал высшие степени индивидуального благочестия (δἰ ἄσκησιν), в действительности же ограничивал произвол в избрании форм принимаемого на себя подвижничества. „Пишем это, постановляя преграды (только) тем, которые вопреки писанию и правилам церкви делают нововведения, а не тем, которые желают подвизаться согласно Писанию“ (ср. приведенные выше рассуждения Епифания Кипрского). Во всяком же случае, эти, так сказать, акты канонизации, или
102) Наприм., Василий Великий сам употреблял выражение: κανόνιζειν τὴν πολιτείαν, а о нем выражались, что он—περὶ πολλοῦ ἐκανόνισεν. Константинопольский поместный собор постановил и правило (6) о монахах, и это он сам называет: ἡ ἀγια συνόδος ἐκανόνισε, и это, как из того же правила видно, почти равносильно: ὥρισε.— Некоторое различие, как было замечено, представляется в том, что „определение“ есть решение частного случая; это решение затем „канонизуется“, возводится в общее начало действий в случаях однородных. Это по нашему мнению явствует, например, из послания Антиохийского собора 341 года, где встречаются различные сочетания и „канона“ и „определения“—о чем ниже. Нана Юлий, по поводу дела Афанасия Александрийского, писал на антиохийский собор, что епископы собора не позвав его на собор, поступают вопреки канонов, так как церковный закон гласит, что— не должно установлять церковных правил помимо согласия римского епископа (κανονίζειν παρὰ γνώμην, в передаче историка). Сократ, II, 17; Migne, 67, col. 220.
67 —
акты дисциплинирующей деятельности поместных соборов рассматривались как нечто лишь споспешествующее вере, но не дающее собою какой-либо новый член веры,—вследствие чего нельзя отрицать того положения, что самое различие между областными и вселенскими соборами состоит в том, дает ли известный собор определения in rebus fidei, или его постановления относятся к дисциплинарной области 103). По причине того взгляда, что дисциплина лишь споспешествует вере, но не составляет ее составного элемента, поместные соборы обыкновенно свободно относились одни к другим: „прежнее определение“ (ὅρος) не считается обязательным основанием для более позднего определения. Раннейший пример этого—некоторые анкирские правила 104). Наоборот Вселенский собор, дающий вероопределение, прежде всего заявляет обыкновенно, и тем свидетельствует о своей правоспособности к исполнению предлежащих ему задач, о своем согласии с верою предков. Отсюда же поместный собор вводит иногда в основание своего решения мнения частных лиц авторитетных, или считающихся таковыми 105). А как относились поместные соборы ко мнениям других церквей и к предвидимой иногда возможности разногласий, показывает, например, послание антиохийского собора к окрестным
103) Гефеле, Conciliengesch. В. I. s. 61, в свою очередь поставляет это в связь с вопросом о непогрешимости соборов: непогрешимость принадлежит вселенским соборам исключительно in rebus fidei et morum, но не в их постановлениях касательно разных вопросов дисциплины. Таково, по мнению Гефеле, было и убеждение древних учителей церкви. Когда древние, например, выражают такие убеждения, что „не может считаться в числе православных тот, кто противится никейскому или халкидонскому собору“ (или, что „четыре первых собора должны быть почитаемы, как четыре евангелия“ idid. s. 62): то ясно, конечно, что это относится к догматическим определениям этих соборов, ибо известно, что определения канонические: со временем подверглись изменению даже и из числа изданных соборами Вселенскими. И поместные соборы не давали, конечно, определений погрешительных; тем не менее они давали лишь определения сообразные с данными условиями, но не постановления сами в себе абсолютные, не подлежащие реформе.
104) Прав. 21. 23. Первое указывает на определение Эльвирского собора, собором Анкирским отмененное.
105) Собор Неокесарийский прав. 9: „как сказуют многие“ (греческ. ἔφασαν οἱ πολλοί).
68 —
епископам: „представляем на ваше усмотрение (ἐπὶ τὴν ὑμετέραν γνῶσιν) те постановления, которые все мы, после (лучше: со) всестороннего обсуждения (μετὰ πλείονος σκέφεοος καὶ ἐπικρίαεως) признали полезными, и мы верим, что и вы будете одного с нами мнения, согласуясь с нами и определив тоже самое (ὁρισάμενοι τὰ αὐτά), запечатлевая правильно постановленное (ὀρθῶς δόζαντα) и утверждая согласием Духа Святого. Определенные же нами церковные каноны (ὁριοθέντες κανόνες“—таковы 106). Таких отношений к чужим мнениям в области вероучения быть не могло, ибо, если в области дисциплины „собор определял“ то, что „считал за лучшее“, хотя бы сомневался даже относительно правильности известных фактов 107); то в области веры собор, какой бы он ни был, определял не то, что лучше, но то, что есть истина, или точнее не определял, а только изъявлял истины веры Христовой.
Но чтобы лучше видеть как канонизовались церкви чрез поместные соборы, мы возьмем несколько черт деятельности таковых соборов преимущественно африканской церкви, деяния которых наиболее сохранились в памятниках, и которые, кроме того, в выражении соборного начала, в силу особо благоприятных условий африканской церкви, наилучшим образом осуществляли право „множественности в единстве“. Так—прежде всего, отстаивая право каждой церкви в известных пределах самостоятельно ведать у себя местные дела, Карфагенский собор 401 года пане Целестину, притязавшему перерешать дела судебные, возникавшие в африканской церкви, пересмотром их в Риме, писал, между прочим, что „никаким определением отцов у африканской церкви не отнято право“ самой ведать дела судебные у нее возни-
106) Деян. Пом. Соб. стр. 33, ср. Mansi, t. 11, p. 306. Hefele, 1, 646. ‘Η ἀγία σύνοδος ὃρισε τὰ ὑποτεταγμένα—следуют Сардикийские Каноны.
107) Поразительный пример этого представляет один из Карфагенских соборов, согласившийся условно признавать даже право апелляции к римскому епископу, и это потону, что собор не имел в данное время верного экземпляра никейских постановлений для того, чтобы опровергнуть, ссылавшихся якобы на никейские постановления, римских легатов,— хотя собор и был убежден, что в никейских канонах этого пет, как это оказалось и на самом деле.
— 69
кающие, как то рассуждали отцы Никейского собора, — ибо „ни в одной области нет недостатка в благодати Св. духа, силою которой иереями Христовыми мудро усматривается и твердо соблюдается справедливость“: вот последнее основание прав поместных соборов 108).—Что касается до предметов деятельности местных соборов и целей, которые имеют эти соборы, то в этом отношении в древности были такие рассуждения: в каждой церкви могут возникать „новые вопросы“, которые как не ясные и совершенно не понятные требуют рассмотрения и формулирования“ 109). Кроме „новых вопросов“ могут существовать „дела“, causae ecclesiasticae, и дабы „ко вреду народа“ подобные деда не замедлялись—известное правило о ежегодном созвании соборов propter causas ecclesiasticas. Епископ Аврелий на том же соборе обращался с речью к собравшимся, в которой объявлял, что — „думает предложить на обсуждение собора те нужды, которые он старался по возможности и сам проследить“. В другом случае тот же Аврелий предмет деятельности собора выражал как „приведение в порядок церковных дел, как возникших уже, так и могущих (па самом соборе) возникнуть“. Следовательно, вопросы, решаемые поместным собором были во всяком случае местно возникавшие, не имевшие для иной местности особого интереса, — как и решение получавшие условное, pro loco, без притязания на всеобщую обязательность. Примеры этих местных вопросов таковы, что многие из них, как и решения последовавшие по пим, действительно трудно было бы ввести в организм церковного нрава как элемент права положительного, а не в качестве лишь исторического факта, что и замечено в памятниках одного из Карфагенских соборов, именно собора 409 года 110).
108) Деян. Пом. Соб. Казань, стр. 225; ср. Книг. Правил.
109) Ibid. 112, В древнейшей латинской редакции Карфагенских соборов у Миня, Patrol. lat. t. 56, col. 865, читается: novellae suggestiones, quae vel obscurae sant, vel sub diverso genere latent, inspectae a nobis, formam accipient. Ср. ibid. 915. „Приходилось — писали отцы того же собора—между прочим поднимать такие вопросы, которые требовали продолжительных обсуждений“.
110) Деян. Пом. Соб. стр. 193.
70 —
Не только соборы карфагенские, но и другие поместные соборы высказывали то же самое в отношении к предмету и цели своего собрания. Собор Гангрский выражался таким образом: так как „собор епископов, собравшихся в Гангрской церкви по некоторым церковным нуждам (ἐκκλησιαδτ. γρεῖα), исследовал между прочим и дело об Евстафии и нашел много незаконного (ἀθεσμως γινόμενα) в действиях его последователей; то для искоренения (этого) зла вынужден был сделать постановление (ὁῤισεν) 111). Это: „между прочим“ характерно потому, что показывает, что—дело Евстафия собор ставит на ряду с церковными нуждами как причиной созвания собора и тем дает знать, каковы были эти нужды как поводы к собору, другой собор—Антиохийский настаивает на исполнении известного апостольского правила о двукратном в год соборе „ради нужд церковных и ради разрешения сомнительных случаев“ (прав. 20). „Приведение в порядок дел церковных“ как предмет собора выражен в 40 правиле Лаодикийского собора понятием „благоустроения церкви и прочего“ (εἰς κατορθώσιν τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν) πραγμάτων, χρειῶν?) 112). Отсюда—присутствие на соборе не право только епископов, но их обязанность. С другой точки зрения задача собора выражалась, как—польза церкви в смысле усовершимости ее внутреннего и внешнего строя: „чтобы все, что только можно при тщательном отношении к делу исправить, приняло лучший вид“ 113). Карфагенский собор 421 года открылся речью епископа Аврелия, приглашавшего членов сделать что-нибудь „для пользы церкви (pro utilitate ecclessia), чтобы дела церковные не пришли к худшему“, для чего (по мнению говорившего) надобно пересмотреть те дела, которые касаются дисциплины 114), а в заключении другого собора дается разуметь,
111) Mansi, t. II, p. 1098. Ср. Деян. Пом. Соб. 24.
112) Под словами: καὶ τῶν λοιπῶν древний толкователь разумеет: „еретиков или неверных“ (Зонара). К такому же пониманию склоняется и Гефеле, В. I. s. 898. Но это едва-ли не натяжка.
113) Деян. Пом. Собор. стр. 130.
114) у Миня, лат. т. 56, col. 876. Этот пересмотр на африканских соборах был весьма обычным делом, а по пересмотре и обсуждении
71
что присутствовавшие „обдумали и обсудили все, что представлялось могущим доставить пользу церкви“ (γρησιμότης ἐκκλησιαστική). „Самостоятельно исследовать вопрос, чтобы не возникало какого препирательства между церквами“— было желанием, почитавшимся в делах местных соборов совершенно законным, а потому это же считалось и правом каждой церкви всегда, когда дело касалось вопросов не вероучения. Так как польза есть дело относительное, то определяющие на поместных соборах обыкновенно не притязали на абсолютное совершенство своих определений, ибо если полезно для церкви одно, то еще полезнее иногда может оказаться другое,—и отсюда ясно выражаемая, конечно в известных пределах, как было замечено, условность соборных определений. Условность эта однако же доходила до того, что были определения, исполнение которых оговаривалось словами: „насколько возможна“, ὅσον δυνατὸν ἐστι, как это например видно в 51 правиле карфагенского собора. Воспрещая клиру „угощаться в церкви (конечно в той части здания, где были трапезы любви),— разве только во время странствования по необходимости будут иметь там отдых“—правило прибавляет, чтобы и мирянам „на сколько то возможно“ воспрещаемо было употребление церковного здания для целей трапезования. Были также определения, которые указывали только „лучшее“, βέλτιον, но которые признавали в. иных случаях достаточным для пользы церкви и такой образ действия, который был в каких-либо отношениях менее хорошим, но более удобным. Таково 19 правило Антиохийского собора. Оно постановляет, чтобы для избрания епископа собирались к митрополиту все епископы той области: „и аще соберутся все: лучше есть! Аще же неудобно, то большая часть их неотменно да присутствует, или грамотами да изъявят свое согласие“. Сюда же, к выражению этой условности в определениях поместных соборов, должно отнести то, что сами соборы тезисы своих решений далеко не всегда называли канонами в смысле позднейшем, т. е. в смысле руководящего и для всех
выслушанное и определенное (quae statuta et definita sunt) заносилось в акты собора ем. ibid. Disquisit. Ballerini, pars II, 3, § 9.
72
обязательного типа действий или всеобщей церковной нормы. Соборы видимо и в терминологии не выражали притязания на абсолютность своих решений, и потому как бы охотнее употребляли другие названия для этих решений, чем названия, заключающие в себе тот смысл, что даваемое решение есть новый церковный закон, обнародуемый к исполнению—и более ничего. Поэтому раннейшие поместные соборы часто излагали свои решения, начиная их словами: „угодно собору“—ἔδοξε (напр. Анкир. 1, 4, 7, 11, 12, 14; Антиох. 9, 10, 20), что на соборах с латинским языком соответствовало выражению: placuit, item placuit, placitum, напр, на соборе эльвирском 305 года, арелатском 314 года, на некоторых соборах карфагенских (placita concilii, Каре. 25). Что же касается названия соборного определения каноном в смысле закона; то такое название стало употребляться сравнительно поздно. Так, например, „канон“ в 15 правиле Неокесарийского собора очевидно обозначает еще не какое-либо соборное правило, а принятый, по соображению с новозаветной историей, обычай (речь идет о числе диаконов, которых „по правилу (κατὰ τὸν κανόνα) должно быть седмь“). На соборе Гангрском канон обозначает порядок церковный вообще, который был нарушаем Евстафианами: они—τὸν κανόνας τὸν ἐκκλησιαστικοῦ ἐξήλθον, следуя своим собственным законам жизни (νόμος). Поэтому собор в Ганграх „вынужден был—осудить их и сделать определение (χαταψυφίζεσθαι αὐτῶν καὶ ὅρος ἐκτι θεσθαι)— быть им вне церкви“ и проч. Но начиная с Антиохийского собора „законы“ уже явственнее употребляются в применении к „определениям относительно порядка“, хотя „канон“ употребляется на ряду с другими терминами, а в иных случаях канон обозначает не только определение относительно порядка, но и самый порядок. Так один канон Никейского собора на Антиохийском называется еще определением (прав. 1, о дне Пасхи). В правиле 2—имеющий общение с отлученным называется нарушителем „канона церковного“, συγχέων τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας, или, как передает Книга Правил, „чина, т. е., порядка, церковного“. Но в правиле третьем нарушители церковного порядка называются нарушителями τῶν βεσμῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, точно также, как
73
и поставление епископа собором называется: ὁ θεσμος ἐκλησιαστικὸς, прав. 23. В правиле девятом „древнейшим каноном, имевшим силу от отцов наших“, называется право епископа митрополии, чтобы другие епископы ничего важного не делали без него, а следовательно канон снова выступает в значении принятого или установленного отцами порядка. Указанное 20-е правило Антиохийского собора, признав, как мы видели, лучшим порядком поставления епископа в присутствии всех епископов митрополии, называет только то сделанное поставление как „определенный (ὁρισμίνος) канон“. Лаодикийского собора пр. I называет церковным каноном (κατὰ τὸν ἐκκληβιαστικὸν κανόνα) дарование общения второбрачным. Но что и далее в памятниках соборных „каноны“ выступают наравне с термином определений, а иногда и отождествляются, как выражающие понятия однородные, это продолжает явствовать с очевидностью. Так на Карфагенском соборе 419 года, называвшем определениями каноны Никейского собора (пр. I), Сардикийские правила называются „словами канонов“, при чем признаком или свойством канонов считается заключение в письмени, в противоположность обычаю, который но заключается в письмени, и, как заключенные в письмени, „слова канонов“ для того, чтобы быть признанными в качестве руководства, требуют уже убеждения в своей неповрежденности: это „неповрежденные каноны“. Кирилл Александрийский в письме к Карфагенскому собору никейские каноны называет „определениями, утвержденными св. отцами этого (никейского) собора“, а Константинопольский епископ Аттик— „канонами, которые определены отцами в Никее“,—откуда можно заключать, что отношение между канонами и определениями, когда они употребляемы были как не-тождественные термины, в более раннее время было понимаемо так: канон есть формула, в которую письменно заключалось определенное собором 115). Наконец, уже только на VI Вселенском соборе (прав. 2) понятие канона было употреблено с признаком—совершенно отвержденного, при-
115) Деян. Помести. Соб. стр. 220. 221. Ср. Правила с толкованиями стр. 1262.
74
нятого церковью и имеющего руководительное значение, постановления, а не частного определения того или другого собора, только в качестве исторического прецедента могущего быть принятым за основание известного действия. Так о содержании двадцатого правила I Вселенского собора собор Трульский выражается: „от отцов мы канонически приняли“, т. е. приняли в смысле церковного закона—не преклонять колена в день воскресный. Понятие канона теперь получило смысл такого определения, которое в отношении к его обязательности уже не может быть пререкаемо церковью, не принимавшей участия в его установлении, между тем как ранее, на Карфагенском соборе пятого века, было пререкаемо правило, выдаваемое римскою церковью за Никейское, но в действительности оказавшееся Сардикийским. Последний факт важен в том отношении, что неизвестность Сардикийского правила Карфагенской церкви свидетельствует, очевидно, о том, что в то время Сардикийские правила не считались „канонами“ для церкви Карфагенской, как и обратно. Совершенно естественно, что позднее VII Вселенского собора канон получил значение то самое, какое он теперь имеет, и это стало явственно и в деятельности последующих поместных соборов. Так собора Двукратного правило второе неповинующегося определению, сделанному этим собором, подвергает извержению „как неповинующегося канонам“ (ὡς ἀπειθούντα τοῖς κανόσι); правило седьмое различает „канонически установленное“ (τὸ κανονικῶς συνιστάμενα). Правило девятое ссылается на „пятый канон бывшего в Антиохии собора“, а десятое говорит о „наказании, от священных канонов“ определяемом,—чем всем условность определений раннейших соборов ограничивается, и эти определения рассматриваются как кодифицированный закон. Правило шестнадцатое различает „канонически исследуемое дело“ (αἰτία κανονικῶς ἐξεταζόμένη), очевидно, от дела таким образом не исследуемого, т. е. указывает на путь обязательного следования известным приемам в действии,—и наконец последнее правило дает типичный случай того, как условно дававшиеся определения переходили в равносильные законам каноны: по поводу внезапного возведения на епископство, что было до сих пор по край-
— 75 —
ней мере только как факт, собор, „редко бывающее не поставляя в закон церкви (νόμος τῆς ἐκκλησίας)“, однако определил: отныне сему уже не быти! Следов. нетвердость бываемого приводится к твердости закона в имеющем быть.
И так, „канонизовались“ церкви тем, что в известной области от неопределенного и непостоянного постепенно переходили к более определенному и постоянному, отчего сфера неопределенного и условного суживалась все более и более, и единократно „определенное“ становилось „канонически определенным“—при чем остается открытым вопросом: должно ли беспредельно расширять область канонизования, или же должна быть указана и такая область, которую подлежит объявить вне действия этого закона— постоянного и постепенного канонизования церковной жизни.
Таковы результаты, к которым приводит рассмотрение дисциплинарной деятельности поместных соборов. Очевидно, что наоборот к предметам веры, как и вообще к области веры, совершенно не приложимо то понимание, которое обнаруживается здесь относительно способа образования дисциплинарных положений, а также — относительно существа, цели и задач самой дисциплины. Посмотрим теперь, каким образом на поместных соборах область веры и область дисциплины рассматриваемы были в непосредственном сопоставлении этих областей.
Мы уже упоминали, что на одном из карфагенских соборов возникло сомнение относительно подлинности церковного правила, предложенного за никейское. В виду этого собор прежде всего постановил обратиться к церквам востока с просьбою, „дабы они прислали самые истинные списки никейского собора“. Мы не имеем самого документа, которым снабжены были посланные, но за то имеем ответные послания к карфагенской церкви, по коим можно судить и о подробностях отправленной просьбы. Так епископ константинопольский Аттик отвечал африканским отцам: „вы желаете, чтобы я послал вам истиннейшие каноны, определенные отцами в Никее (οἱ κανόνες, καθῶς παρὰ τῶν πάτερων ὡρίσθισαν) вместе с изложением веры. И кто же может отказать в общей вере и в утвержденных определениях своим братьям.
— 76
Поэтому — посылаю никейские каноны“ и проч. 116). дело о посольстве на восток, разумеется, не могло быть исполнено тотчас. Но карфагенский собор не хотел прерывать своего дела и потому епископ Аврелий предложил собору—прочитать никейское исповедание веры и „определения (statuta) Никейского собора в XX главах“ (capitulis) по крайней мере в том виде, в каком то и другое было уже в экземплярах, принесенных африканскими епископами с Никейского собора, и вместе с тем пересмотреть и утвердить и постановления соборов африканских, начиная с 397 по 418 год. Когда исполнено было то и другое, то „весь собор сказал: по изволению Божию первоначально подобает согласным исповеданием исповедывати церковную веру, преданную нам в сем славном собрании. Потом— церковный чин по согласию каждого, и всех вкупе, должно соблюдати. для утверждения же помышлений братий и епископов наших, недавно поставленных, должно присовокупить то, что мы прияли от отцев, яко твердое определение (διατνποσις, dispositio): единство Троицы, то есть Отца, Сына и Святого Духа. Сие в умах наших свято содержим и как научилися, так будем учити людей Божиих“ (по переводу Книги Правил, Корф. соб. пр. 2). Некоторые латинские кодексы дают характерный варьяпт в чтении этого правила, именно: вместо чтения Юстелла (с которого переводит и наша Книга правил):., tum demum., ordo ecclesiasticus’ adservandus, кодексы дают чтение: ordo adstruenduseat. Но так как приведенное правило в деяниях собора составляет в сущности вступительную речь на соборе; то при применении этого варианта смысл вступительной речи очевидно будет такой: мы исповедывали сначала веру; теперь приступаем к устроению церковного порядка. „Устроение порядка“, ordo adstruendus, действительно и составляет содержание последующих постановлений этого собора (419 года), в книге Правил изложенных под именем канонов собора карфагенского (1—42). В этих правилах, при том, ordo ecelesiasticus является уже как понятие буквально тождественное с дисциплиной. Епископ
116) Деян. Поместн. Соб. 221; ср. Правила с толков. стр. 1270.
77
Алипий, например, из слов которого образовано 10 карфагенское правило пашей Книги Правил, умышление пресвитера, осужденного епископом, воздвигнуть иный алтарь называет делом „противным церковной вере и уставу“; в подлиннике—contra ecclesiasticam fidem et disciplinam. Относительно мероприятий против такого пресвитера собор, с своей стороны, признал, что „мероприятие, предложенное братом Алипием, с церковною верою и с церковною дисциплиною согласно—disciplinae ecclesiast et fidei congrua sunt“ 117) и посему предложение Алипия—канонизовал, т. е. возвел в правило (пр. 11). Карфагенский собор 421 года открылся речью Аврелия. В этой речи Аврелий жаловался, что установленные дважды в год соборы прекратились; но, благодаря Бога, вот теперь все собрались во едино. „Мое недостоинство — говорил Аврелий, радуется, видя всех вас вместе! Сделаем то, чего требует польза церкви, дабы дела, которые начали уже приходить в расстройство, не пришли к еще худшему! А для этого надобно пересмотреть дела, касающиеся церковной дисциплины“ (ut ecclesiae causae, quae disciplinae congruunt, pertractarentur). Весь собор сказал: „пусть будет так, охотно слушаем“ 118). Каждому из африканских епископов вменено было в обязанность посылать легатов на собор, на котором сам епископ быть не может, который (легат) „и может узнать о том, что соблюдая неприкосновенной истину веры, (salva fidei veritate) собор определит“ 119). На соборе карфагенском 397 года епископы Мавритании ситифенской явились с особыми местными поручениями, которые даны были им от других епископов их страны, о чем они и заявляли собору, прося его приступить к обсуждению этих поручений. Относительно чего же были эти поручения? Сами депутаты заявили, что „относительно веры, никейского собора мы слышали
117) Codex eccles. afriean. ed. Justelli, 1614, p. 73, ср. Деян. стр. 114.
118) См. Document. juris canonici veteris. Migne, Patrol. lat. t. 56, p. 876.
119) Ibid. 881. Здесь же видно характерное свойство того принципа пользы, по которому устроялся церковный порядок: епископы не должны переходить с невидной кафедры на более видную. Но „если польза церкви требует быть тому“, то—это допускается и указан порядок, каким образом перемещение должно делаться.
78
суждение“: но поручения, им данные, касались не вопросов веры, а таких вопросов как: о совершении евхаристии в послеобеденное время в отношении к принятию пищи; о том, чтобы местной церкви, от которой эти представители явились, позволено было обратиться к светской власти с просьбою о понуждении епископа, вторгшагося в другую епархию, оставить предмет его захвата. При этом последнем случае епископ Аврелий заметил, что так как по отношению к обвиняемому „правила дисциплины соблюдены“, servata forma disciplinae (оп отказался добровольно исполнить предложение своих собратий, оставить захваченную епархию); то считать его внешним, не подлежащим более суду собора, а к тому, чтобы он сделал должное—понудить его силою светской власти 120). Кроме того, посланные просили сделать постановление относительно числа епископов, имеющих право рукоположить нового епископа 121), и постановление относительно
120) По Книге Правил пр. 59. Codex eccl. african, Justell. р. 129. Книга Правил передаст, применяясь к греческой редакции правил: φυλαχθέντος τοῦ τύπου τῆς καταστάσεως, μὴ κριθὴἠ, и проч.: „по соблюдении установленного обряда, да не признается“ и проч. Но это очевидная неточность. Какой, например, можно было разуметь „обряд“, который здесь предлагается к соблюдению, как условие того, что имеет за исполнением его последовать?--Впрочем, перевод Книги Правил сделан был, кажется, по соображению с толкованием Зонары, который понимает здесь под „установленным обрядом“ обряд лишения священнического достоинства, ибо „непозволительно предавать посвященных лиц светской власти для наказания; если они (предварительно) не будут извержены“: как будто в Африке, в конце ІV-го века, светское правительство наказывало епископов так же, как это было при Зонаре! Си. Правила с толкованиями II, 1418.
121) Этот случай замечателен тем, что он показывает, что 1 Апостольское правило, определившее: „епископа, да поставляют два или три епископа“, или было в это время неизвестно в Африке, или вопрос о точном числе епископов, как вопрос дисциплинарный, почитался открытым, не введенным в каноны, Никомидийские депутаты сообщили собору, что „двое соседних епископов дерзнули рукоположить одного архиерея“, что по правилу Апостольскому, конечно, правильно. Но депутаты, очевидно, находили это или неправильным, или неудобным, и потому просили „определить, чтобы хиротония епископов совершалась не иначе, как двенадцатью епископами“. Против этой просьбы возразил епископ Аврелий, находя, что „сделанное предложение не может быть выполнено“, потому что (в пример он указывал на себя) там, где,
79 —
того, кому и как извещать о дне празднования пасхи и нек. друг. В заключение же всего председательствующий на соборе сказал: (теперь) „мне кажется, все уже пересмотрено. Поэтому, если все согласно с вашим мнением, утвердите“! Все это, очевидно, касалось исключительно того, что на соборе названо „forma disciplinae, τύπος τῆς καταστάσεως, „образ обстояния“, по какому должна существовать та церковь, от которой явились депутаты с особыми поручениями. На соборе 401 года встречается такое рассуждение: необходимо послать в Рим доверенное лице, и уполномочить его просить гражданское начальство о разных нуждах "всей африканской церкви. Относительно одного обстоятельства однако поручено было — посмотреть, как поступает церковь римская, чтобы потом возможно было и у себя последовать порядку, принятому в этой церкви. Но чтобы ни чем не стеснять уполномоченного, вместе с тем решено было: „предоставить ему полное право делать все, что только, будучи достойно веры, в каком-либо отношении послужит к благоустройству церкви и ко спасению душ: все сделанное им будет принято с воздаянием хвалы пред Господом“ 122).
Теперь не без важно посмотреть, касалась ли этого вопроса о раздельности и соотношении веры и дисциплины русская богословская литература и какие воззрения здесь были высказываемы. Здесь прежде всего в рассматриваемом отношении обращает на себя внимание митрополит Филарет. Величайшему из богословов русской церкви по многим случаям и причинам приходилось не только указывать на различие предметов веры и предметов дисциплины, но и настаивать на необходимости того, что бы различие это не было упускаемо из виду, тем более не было
почти каждый воскресный день бывают рукополагаемые нельзя собрать двенадцать или десять, ни даже гораздо менее епископов, „а в Триполи и всего пять епископов“. Вследствие этого Аврелий полагает, что „нужно соблюдать древний чин, чтобы число не меньше трех (non minus, quam tres) почиталось достаточным“ для поставления епископа. (См. Justill, р. 130—33; ср. Деян. Помест. Соб. Соl. 128.—Из последних слов Аврелия и образовано 60-ое правило Карфагенского Собора, по нашей книге Правил.
122) Justell. р. 181.
— 80 —
преднамеренно так сказать утончаемо, ибо в истории русской богословско-канонической мысли, и даже отчасти в деятельности некоторых органов управ иония можно было встречать и то, что это различие как бы само собою доходило до наименьшего, когда учреждения чисто дисциплинарные в некотором смысле догматизировались тем, что были объявляемы даже для самой церкви неприкосновенными, или когда например предание, в отношении к его обязательности, возводимо было на степень близкую к вероучению или к членам веры. Этим конечно, если и не понижалось значение вероучения непосредственно, то делалось это по крайней мере косвенно—тем, что значение дисциплины постовляемо было во всяком случае выше надлежащего.—Как на типичные рассуждения Филарета по исследуемому вопросу, прежде всего можно указать на те, в коих устанавливаются Филаретом понятия а) догмата и канона и в) веры и предания. В проекте постановки, какую должны были иметь богословские системы в наших зарождавшихся Духовно Учебных учреждениях (это известное „Обозрение богословских наук“ и проч.), Филарет выказал опасение возможности того, что в школьных системах будет не надлежаще разграничиваемо учение веры от дисциплины и по этому пытался предотвратить такую возможность определением точных границ между науками, долженствующими разрабатывать вопросы вероучения и вопросы дисциплины. Так, определяя содержание „богословия созерцательного“, по современной терминологии—догматического, Филарет здесь замечал, что „во всех почти системах, излагавших богословие созерцательное, находятся предметы по своему содержанию относящиеся к другим частям богословии“. К этим предметам не относящимся к богословию созерцательному он относит, например, „учение о постановлениях церкви и о соборах, которое может быть соединено с богословием правительственным“; действительные же предметы этого богословия суть „предметы созерцания“ (θεορίά), истины ума, поколику, разумеется, и ум есть орган веры,—так как вера начинается же познанием приобретаемым от вне. Рассуждая же о каноническом праве, Филарет определяет его таким образом: „под именем права кано-
— 81
нического можно разуметь: законоположение порядка и справедливости, заключающееся в правилах св. Писания, соборов и отцов церкви“. Что такое самый канон? Слово канон означает: а) „всякое определение церковного собора; б) частное определение, относящееся до христианского благонравия, благочиния и обрядов, в каком знаменовании канон противополагается догмату, то есть, изображенному в соборном же определении члену веры и в) мнение одного из богомудрых отцов, получившее важность церковного правила“. Свойство определений соборов в отношении к их обязательности по Филарету таково: „если эти определения не суть непременные следствия правил (в обширном смысле слова — указаний) Св. Писания, но только некоторые применения оных к известным обстоятельствам“, то таковые определения „подобно сим обстоятельствам—не суть неизменяемы и называются в особенности правом церковным, которые заимствует свою силу не столько от божественной власти Св. Писания, сколько от церковного согласия и постановления“. „Продолжение времен“ (или исторический ход жизни церкви) образовало „разнообразие правил, по разности времен того (разнообразия) требовавших“. По сему „введенное какою-либо церковною властью правило, не противное слову Божию, до толе (только) твердо, доколе высшею, или по крайней мере равною, властью не будет отменено по важной причине“. Из тех задач, которые лежат на управлении церкви и из целей, к достижению которых оно призвано (охранять порядок и справедливость, благонравие и благочестие, ср. сейчас выше сказанное), естественно и существу церкви не в противность возникает, по мысли Филарета „необходимость допускать с благоразумием новые частные правила по требованию вновь открывающихся обстоятельств“ в жизни церкви, при условии неизменного сохранения общих начал церковного устройства 123). Как мы уже знаем, по Филарету „единый чистый источник учения веры ость откровенное слово Божие“. Поэтому „несогласия между церквами должны почитаться важными потолику, поколику из про-
123) Собран. отзывов и мнений, т. I. 163.
— 82 —
тивоположных догматов затмевается истинное и спасительное познание Бога и Иисуса Христа“. Для дисциплинарной же стороны важнейший (по крайней мере в количественном отношении) источник есть именно предание, или (что, быть может, будет более точным выражением мысли богослова) по крайней мере — Священное Писание и Предание—оба вместе, а посему здесь в известной степени могут иметь место и соображения чисто естественные, в учении веры, наоборот недолженствующие иметь для себя места, латинское „предположение о несовершенстве св. Писания—по мысли Филарета—клонится к тому, чтобы дать более важности преданиям человеческим“. „Но как нет члена веры, который бы но был открыт в св. Писании; так молчание Писания о каком-либо предании показывает токмо то, что сие предание не есть член веры“. Позволяя себе комментировать эти слова, мы предполагаем, что понимать их должно таким образом: выражение о предании, „которое не есть член веры“, не обозначает признания со стороны Филарета того, что существует предание, которое может составить собою член веры, в качестве такового обладающий неизменностью,—а обозначает лишь то, что—как скоро (догматическое положение (т. е. положение вероучительного характера) или факт церковного быта основою своего существования не имеют св. Писания, они подлежат такому же отношению к ним, которое указано было Филаретом касательно положений права церковного, т. е. церковь есть полномочная распорядительница всего, что основывается на предании вне основы Писания существующем, или—на предании в условном смысле слова 124). В силу того, что важнейший источник всей дисциплинарной области есть предание, Филарет в право церковное, как
124) Слова и речи, изд. 1848, II, 54. Нужно заметить, что Филарет различает два вида преданий: „посредством посланий (апостольских)“, это—писанное предание и „предание посредством слова“—неписанное предание. Последнее и есть предание в наиболее употребительном или в условном смысле слова. Филарет употребляет и выражение: „предание веры“; но это не в смысле предания как дополнительного источника учения веры, а в смысле той преемственности учения, которая служила к сохранению истинной веры.
— 83 —
установляющее дисциплинарные нормы, в качестве предварительной его части вводит учение о предании и учение о церкви и ее экономии. Так как жизнь церкви но заключена в неподвижные формы (ср. выше рассуждение Филарета об условиях установления новых правил по отношению к будущему; то отсюда м. Филарет допускает, если можно так выразиться, колебание дисциплинарной стороны церкви — в противоположность неизменности веры, то есть изменение преданного, и новое возвращение к первоустановлению, ибо основанием того или другого установления или решения в области дисциплины иногда служило необходимое или полезное при данных условиях или для данного момента в жизни церкви. В таком, например, смысле Филарет рассуждает о вышедшем из практики чине диаконисс. „Отчего чин диаконисс прекратился в церкви? Оттого ли, что отцы наши менее нас знали, что для церкви полезно, и что по времени удобно или неудобно? Я не почитаю восстановления сего чина ни бесполезным, ни невозможным“ 125). Разумеется при случаях такого кругооборота, древнейшее правило действования, по взгляду Филарета, „при, равенстве других обстоятельств должно быть предпочитаемо менее древнему или новому—по достовернейшей чистоте первенствующей церкви и по закону постоянства“ 126). Относительной изменчивостью форм дис-
125) Письма к Архим. Макарию, в Чтен. Общ. Любит. 1872, стр. 101.
126) Нельзя, конечно, приписывать м. Филарету мысль о том, что исключительно польза должна составлять принцип для церкви в устроении дисциплины и распоряжении ею: дисциплина должна быть проверяема указаниями Слова Божия (полезно было бы, например, приобретать прозелитов для церкви, но приобретать их всеми возможными средствами, это будет полезность противная другим началам церковной жизни). Так, утверждая, что обычай погребения усопших при храмах—и „сообразен с назначением храма и нравственно полезен“, Филарет, однако прибавляет что „сие изъяснение не будет еще удовлетворительно для тех, кто знает, что для обычая церковного, дабы он был правилен и чист, не довольно того, чтобы он был основан на благовидных соображениях и чаемой пользе, а надобно, чтобы он глубже и непоколебимее был утвержден на непреложном и прямом свидетельстве Слова Божия, или—но закону единства церкви—был от первых образцовых времен христианства“ (Слова, ibid. 88. 90). Но где Слово Божие
— 84 —
циплины не нарушается обязательное единство в вере, что выражается едва ли не характернейшим, среди многих рассуждений об этом предмете, словом Филарета: „узел единства перестал ли быть крепким (грозит ли разрывом), если ниже его кто-нибудь усмотрит расходящиеся концы некоторых нитей“? 127). На основании достовернейшей чистоты первенствующей церкви „древнее предание“ должно иметь силу в жизни церкви, но эта сила не безусловна, а наоборот условна. Эта условность выражается конечно, прежде всего тем, что а) „член предания“ не должен равняться с членом веры. В этом смысле—рассуждения Филарета о молитве за усопших. „Если о молитве за усопших и нет в Св. Писании особенной, определительной заповеди, а выводится оное из понятий и заповедей более общих; по если при том нет против сего в св. Писании никакого и запрещения, как и действительно нет: то самое сие молчание Свящ. Писания ость уже доказательство того, что моление за усопших Богу не противно“, и следоват. церковью предписано не произвольно. Но вместе с тем или, скорее, потому самому моление за усопших издревле существовало и существует не как торжественно возвещенный существенный член веры, но как благочестивое предание и обычай, всегда поддерживаемый свободным послушанием веры“ 128). б) Предание подложит испытанию как в своей подлинности, так и в руководственном значении для данного момента жизни церкви. Испытание преданий, в отношении к праву на это, имеет основание в словах апостола о соблюдении преданий (2 Солун. II, 15): если, говорил Филарет, „апостол требует от нас не меньшего внимания и ровности к преданиям, как и к богодухновенному Писанию“, то „нужно ли что-либо более сего для удостоверения важности предания и для побуждения к верному соблюдению оных“? Верное соблюдение преданий
представляет так сказать простор для церкви, там принцип служебного доля веры значения дисциплины, и следоват. оценка ее с точки зрения чаемой от ноя для веры пользы, должен иметь силу, по мысли Филарета.
127) Ibid., II 142.
128) Ibid., 22-23.
— 85 —
создаст вопрос о верности самих преданий по их содержанию: „верно соблюдать неверное предание есть несообразность, которой, без сомнения, не имели в виду заповедавшие нам учение о предании“. Конечно, „предания прошли чрез многие страны, народы, языки, чрез многие века... В некоторых частях преданий оказалось разнообразие, простирающееся до противоречия“. Посему „сделалось нужным исследование подлинности и достоинства преданий“, сделалось „нужным—испытывать чрез многие века, чрез многие руки прошедшие предания, суть ли они истинные апостольские и святоотеческие, и не подвергались ли неправым изменениям“, вообще, „обращая внимание только на заповедь соблюдать предания, не должно слепо держать предания, как-нибудь упавшие на руки, без исследования и без рассуждения“ 129) не стараясь дознать их подлинность, чистоту, достоинство“. Критерий для испытания преданий: „испытывай предание посредством слова Божия, и посредством заповедей Божиих. Если предание противоречить Слову Божию, если ведет к нарушению заповеди Божией: это будет человеческое, неистинное предание, знак того, что такое предание соблюдал бы ты вотще“ 130)! Что касается до вопроса о сто-
129) К вопросу об испытании преданий, которое, по мысли Филарета, иногда бывает делом обязательным, должно отнести еще следующее замечание м. Филарета: „неприятно входить в спор о древности при мысли о святыне; по нельзя же завязать себе глаза, или отрекаться от того, что видим". Письма к Мурав. № 133.
130) Филарет, как мы замечали, в трактате „о разностях“ утверждает, что Слово Божие, содержащееся в Писании, есть единый и достаточный источник учения веры. В слове же „о преданиях" он говорит: „так как предание писанное простее и обычнее обозначается наименованием Священного Писания, то наименование предания обыкновенно употребляется для обозначения того, чему не посредством Свящ. Писания, но посредством слова и примера мы научились от Св. Апостол и Свят. Отец (ibid. 55)“,—подразумевается; не записанного апостольского слова, а сохраненного устно, по преемству. Но спрашивается: в числе того, чему мы научились от апостол только по преданию устному, или преданию в наиболее обычном употреблении, не заключается-ли и нечто такое, что относится к вере? Нет, отдельно, само по себе предание, не составляет источника вероучения. „Предание—говорит Филарет—не отдельно, а в совокупности с Писанием может быть признаваемо вспомогательным источником учения христианская. А если так, то этим
— 86
пени руководственного значения предания при посредстве умозаключения от прошедшего к настоящему; то с рассуждениями Филарета об этом предмете мы еще встретимся, при рассмотрении специального вопроса об обычае и обряде. Здесь же напомним только правило Филарета: древнейшее правило (или древнейший образ действования) должно быть предпочтено новейшему только при равенстве других обстоятельств. Так, например, у нас, по мысли Филарета, избрание архиереев из двух кандидатов было бы весьма желательно, потому что это было бы „возвращением к апостольскому образцу“, и притом еще, в свою очередь, „мысль об апостольском образце преклонила бы к соглашению и была бы оружием против возражений“ 131). Здесь обстоятельства, относящиеся до существа дела, заставляют думать, что существо это ничего не потеряет от того, сколько кандидатов на архиерейство каждый раз будет представляемо: следовательно, должно быть предпочтено предание древнейшее уже по тому одному, что оно—древнейшее. Напротив, по мысли Филарета, „образ действования по древнему“, даже древнейшему преданию, должен прекратиться, когда обстоятельства настоящие не равны с обстоятельствами древними. В таких случаях отступающий от предания „может оставаться невиновным, а при особенных обстоятельствах даже заслуживает одобрение“. Этот принцип применяется Филаретом в рассуждении о ращении власов мужчиной 132). Известно, что апостол (1 Кор. II, 14—15) выражался как о бесчестии для мужа, когда он растит власы подобно жене. Следовательно, первое предание, которое должно было быть усвоенным и действительно христианами было усвоено, есть предание острижения волос. Но так как потом обстоятельства не всегда во всех отношениях
пояснением Филарета дается важная черта различия между областями веры и дисциплины: последняя имеет в предании не вспомогательный источник, а источник совершенно самостоятельный, и отношение этого источника к Св. Писанию лишь то, чтобы усвоенная по преданию дисциплина не была противна Св. Писанию.
131) Письм. к Мурав. № 831.
132) О ращении власов, в Прибавл. к Твор. Св. отцов, ч. XIX, стр. 242.
— 87
оказывались равными; то время позднейшее допустило следование обычаю обратному: это обычай ращения волос лицами клира 133).
Из мнений других русских богословов отметим мнения о соотношении веры и дисциплины преосв. Филарета Гумилевского (1867). Прежде всего, Филарет определяет догматы, как „созерцательные мысли откровения о Боге и Его общении с человеком“. „Как истины созерцаемые верою, и рассматриваемые по частям, догматы называются членами веры“ (ср. митропол. Филарета). Филарет обращает особенное внимание на то обстоятельство, нами выше отмеченное, что „вселенские соборы называли догматами исповедания веры, а все другие свои постановления называли канонами или правилами жизни“, ибо каноны имеют отношение не к умосозерцаемому, как догматы, а к жизни. Все догматы, таким образом, как мысли Откровения, заключены в св. Писании, а отсюда,—все догматы божественного происхождения. Этим догматы отличаются „от истин христианских, но не заключающихся в Божественном Откровении, например, церковных постановлений о богослужении и о благочинии“. Но этими последними словами о церковных постановлениях, не заключающихся в божественном Откровении, автор не имеет в виду отрицать факты существования постановлений последнего рода и в Святом Писании. Так в учении о таинствах он раскрывает и то положение, что в учреждении таинств существуют известные действия, данные уже в св. Писании, как например употребление воды при крещении, вина и хлеба при евхаристии. Следовательно, мысли Филарета иначе можно формулировать
133) Изменившиеся условия в отношении к этому вопросу, по мысли Филарета, состоят в том, что обычай стрижения волос сталь требовать исключений, основываемых на некоторых аналогиях и символических идеях, как напр. идея назорейства, ibid. С своей стороны можем указать и другой пример: 13 правило собора Гангрского запрещает ношение женщинам мужских одежд. След. „древним преданием“ должно признать предание запрещения. Но позднее некоторые женщины спасались переменив свои одежды на мужские, и церковь ублажает их, как святых, не взирая на нарушение ими правила собора Гангрского. Таковы святые Марина и Евфросиния.
88 —
так: все догматы несомненно заключены в Писании; но отсюда не следует, что только догматы и заключены в Писании; и существенное отличие догматов и канонов—не в происхождении, а в содержании и происхождении вместе, деятельность церкви по отношению к первым есть только так сказать посредническая 134), в отношении же ко вторым не только таковая, но и творческая, а отсюда свойство первых — абсолютная неизменность, а вторых неизменность, и, следовательно, обязательность, лишь условная. Но по мысли Филарета вопрос о соотношении между верою и дисциплиною, к сожалению, не всегда правильно ставится в богословской науке. Поэтому предмету он делает следующие замечания. Если догматы суть „откровенные созерцательные истины“, сознаваемые отдельно от истин практических, то — говорит «Филарет, — „нарушается требование науки и вводится в ум путаница мыслей", когда смешиваются эти две области, а это смешение и делается в системах догматики. Теперь, например, „в редкой Римской догматике не найдете трактатов о почитании ангелов и святых, о почитании икон и мощей, тогда как самое слово: почитание говорит, что эти предметы относятся к учению о христианской жизни. Доселе также редкая протестантская догматика не говорит о значении веры для христианина, тогда как то и другое относится к практике. Если думают, что помянутые практические мысли получают особенную важность, когда ставятся в ряду догматов: то напрасно думают... Практическая истина оттого, что поставляют её в ряду созерцательных истиц не станет святее“ 135). Конечно, соображения автора могут вызывать некоторые недоумения. По возможность таких недоумений будет, очевидно, лишь следствием некоторого недоговора в его рассуждениях, что и необходимо принимать во внимание. Так, если в самом деле, как то выражает и сам Филарет“, созер-
134) Ибо догматом будет не все то, что найдет таковым каждый, читающий Св. Писание, а что признает таковым лишь Церковь. Посему к догмату также приложимо условие церковности (догмат Церкви), как оно прилагается к дисциплинарной стороне.
135) Догмат. богосл. изд. 3 ч. I, стр. 2, 4—5, примеч. 25. „И русские догматисты идут вслед западных“, прибавляет Филарет.
89 —
цательные истины христианства по своему свойству находятся в неразрывной связи с правилами жизни“: то очевидно многие догматы относятся не к одному умозрению, но и к жизни, и не только вследствие того нравственного вывода, который из них следует, но главное потому, что самое существование иного из догматов церкви так сказать становится ощутительным только при известных проявлениях догматической мысли во вне, в деятельности, соответствующей известному учению. Возьмем— молитву. Конечно, прежде всего молитва есть предмет вероучения, потому что только верою мы постигаем религиозную целесообразность молитвы, в силу каковой целесообразности она есть акт разумный в христианстве—и потому моление к Богу есть догмат, истина созерцательная. Но введением молитвы в систему догматов не может исчерпаться вопрос о молитве: является вопрос о молитве как действии, и, следовательно, является вопрос о каноне молитвы, и догматическое учение переходит в область учения чисто практического. Филарет, как мы видели, утверждает, что и вопрос о почитании, в частности о почитании икон и святых, относится не к созерцательной области. Но и при этом не нужно упускать из виду также и следующего. Почитание Бога, то есть, обязанность известного выражения чувств благоговения, есть несомненно догмат, основа которого есть верование: доказуемость необходимости почитания как чисто внешнего выражения внутреннего состояния души может быть только относительная. Возникло же учение, несомненно с совестливою, хотя и заблуждающеюся, верою в справедливость этого учения, что Бог в почитании человека не нуждается,—причем эта ненадобность почитания была поставляема в прямое отношение с мыслями самого Откровения о Боге, то есть, со словами Господа жене Самарянской. Но вопрос о способах почитания Бога, а отсюда—и вопрос о почитании святых и ангелов, не будет уже вопросом чисто теоретическим: решить его возможно только одновременно с признанием или отвержением опять тех или других действий, служащих выражением почитания, следовательно, необходимо должен существовать не только догмат почитания Бога, но и канон богопочитания, в
— 90
который в свою очередь войдет решение тех практических вопросов, на которые указывал Филарет.—Приняв же во внимание это, что, разумеется, не было неизвестно и Филарету, но что не было им договорено, потому что ему здесь (в его догматике) не было для этого повода, мы должны будем признать, что Филарет был, в науке по крайней мере, один из наиболее резких выразителей той идеи, что фактам всякого порядка должно быть свое место в научной системе, так как в церкви все имеет свое значение, и что этим соединением неравнозначащих начал в одно ни в каком отношении ничего полезного не достигается....
Наконец, того же самого вопроса приходилось касаться и самой власти русской церкви по побуждениям чисто практическим, древнейший повод к этому был подан, конечно, расколом старообрядства. Поэтому уже в Скрижали патриарха Никона, а в последствии и в Увещательных пунктах Св. Синода (1801 г.), мы встречаемся с намерением показать различие между верою и чипом, между верою, как необходимым условием для спасения и „вещами некиими средними“, безразличными для спасения, — ибо вопрос о соотношении веры и дисциплины в то время у нас и возникал главным образом по причине отождествления богослужения с верою и поставления в равнозначащее того, что дано в самом Откровении, с исторически развивающимся богослужебным чином и даже случайными особенностями чина. Для того, чтобы всякий мог познать, “кая суть нужная и существенная веры нашея“, для этого никоновская Скрижаль отсылает читателя к Православному Исповеданию. О чинах же по мысли Скрижали должно рассуждать прежде всего, что „не взят церковь наша изначала образ сей последование, еже держит ныне, но по малу. Обаче—зане сохраняются непременно таяжде вера, ото всех прочих церквей, невозможно сие разнство чина творити, да вменят тогда еретические или раздорные: (наоборот) — не подобает ниже ныне непщевати, яко развращается вера наша православная, аще один творит последование свое мало различным, токмо да согласит в нужных и свойственных с со-
91 —
борною (кафолическою) церковью“ 136). Напоминание о различии чинов и веры, как известно, не имело и не имеет того практического последствия, которое было бы желательно: богословствующая мысль простого нашего народа продолжает их смешивать, за что, впрочем, едва-ли кто произнесет над народом осуждение.... Теория „средних вещей“ в Увещательных пунктах представляется таковой: в церкви христианской есть „некия вещи ко благочестию ниже нужная суть, ниже вредная“ 137). „Средния вещи не самые собою сильные суть; но от воли властей законных имеют силу“, то есть, существование их совершенно условно. Тем не менее, и такие средние вещи— не вне всякого права и не предоставлены единственно индивидуальной свободе: „и таковая средняя, свободе христианской подлежащая, не всякому человеку переменять или оставлять или вновь заводить позволено“: право на это имеют только соответствующие власти. Но „если кто вещь среднюю поставит в крепкий догмат, тот уже еретичествует, так как похищает себе власть Божию, поставляет себя властителем совестей человеческих“ 138). В новейшем из официальных документов, изшедщих от русского церковного правительства, в послании Св. Синода к Константинопольскому патриарху по поводу греко-болгарской распри (изд. в 1871 г.) вопрос об отдельности веры от дисциплины проведен с такою определительностью, какой недоставало в раннейших официальных памятниках, притом с той особенностью, что ранее обыкновенно указуемо было различие не принципиальное, а главным образом различие в применении к некоторым частным вопросам (богослужебного порядка, обряда в собственном смысле и т. п.): теперь же возбуж-
136) См. в протоколах СПБ. Общества Любит. Духовн. Просвещ. год I, стр. 196.
137) Дополнение этого выражения таким объяснением, как это делается ibid. стр. 251,—будто это суть вещи „которые служат к украшению Церкви“— притязует на очень простое решение очень сложного церковно-канонического вопроса. Мысль, что все это составляет только украшение, будет несогласна ни с происхождением таковых вещей в Церкви, на с сущностью многих из них.
138) ibid., стр. 302—3.
— 92
дены были и некоторые вопросы принципиального характера.—Как известно, константинопольская церковь желала созвания Вселенского собора для решения болгарского дела. Святейший Синод категорически признал это совершенно излишним. Ибо—а) „вселенские соборы могут быть созываемы только по делам, касающимся вселенской веры“ и б) и притом по делам так или иначе имевшим отношение или влияние на „основные догматы православия, каковыми делами в эпоху бывших Вселенских соборов были ереси“, угрожавшие опасностью самой вере христианской. Между тем — какова сущность болгарского вопроса? Он именно и не касается веры, а только церковного порядка. „Вопрос греко-болгарский не касается оснований нашей святой веры и не угрожает опасностью ни одному из ее догматов: болгары и не помышляли о какой-либо перемене в вере и ее истинах. Ни мало этот вопрос не касается и всей Вселенской церкви, для которой совершенно безразлично, останутся-ли болгары в теперешней иерархической зависимости, или получат законным образом большую или меньшую независимость, или даже законно образуют самостоятельную церковную область, лишь бы они во всех этих случаях оставались вполне верными православию и беспрепятственно могли пользоваться всеми средствами к преспеянию в вере и благочестии. Этот вопрос относится исключительно к церковному управлению и касается одной местной церкви Константинопольской“. Что касается до того обстоятельства, вынуждающего, по-видимому, и вопросы дисциплины ставить не как вопросы низшего, по сравнению с вопросами веры, порядка, что дисциплиною занимались также и Вселенские соборы: то, по мысли Послания, обстоятельство это еще ничуть не сближает в отношении к значимости вопросы дисциплины и вопросы веры: „Вселенские соборы решали между прочим и вопросы относительно управления и богослужения даже частных церквей, но отсюда отнюдь не следует, будто для этих именно последних вопросов и созывались Вселенские соборы“. Т. е. иначе сказать, эти вопросы могли и могут обходиться совершенно без общецерковного обсуждения и установления: решение их вселенским обсуждением было только
— 93 —
попутным. „Так и ныне: если бы какие вопросы вызвали необходимость созвать вселенский собор; то он мог бы заняться между прочим и решением болгарского вопроса и других подобных“. Но „созывать собор собственно для болгарского вопроса значило бы умалять значение самого Вселенского собора“ 139), вводя в область его компетенции то самое, что всегда считалось предметом самостоятельного распоряжения отдельных церквей, которые не утратили преемства в хранении благодати священства. Ибо — можно сюда прибавить—„для сего Дух Святый частным церквам, законно основанным и законно состоящим из членов, и поставил Епископов как правителей, глав и начальников“ (Послан. Восточн. Патр. гл. 10), и они уже были бы таковыми только по имени, если бы частная церковь, ими руководимая, не оказалась исполненной внутренних сил настолько, чтобы прийти к достойному церкви решению подобных вопросов, конечно, требующих просвещенного благодатию разумения самых основ жизни Церкви Христовой.
Таким образом, раздельность вопросов веры и вопросов дисциплины пи как не есть только идея, созданная богословской наукой: сознание этой раздельности лежит в основе самого существования церкви и всегда было присуще ей, как необходимое условие правильного хода ее внешней и внутренней жизни.
139) Послание напечатано, между прочим, в Православн. Обозр. 1871 г., т. I.—Спор Греков c болгарами в существе дела сводился к тому, что требовалось решить: абсолютно-ли неизменен порядок церковной жизни, т. е. способы существования церкви в отношении к управлению, иди же он „может быть определен в том или другом внешнем виде сообразно пользе христиан и благу Церкви“. Первого воззрения держится константинопольский патриарх; второго—болгары. Но патриарх очевидно упускал из виду, что в таком случае устройство внешнее будет равнозначаще с верою,—случайности во внешних церковных особенностях будут тоже, что члены веры и т. д.
94
II. Существо дисциплины и ее свойства.
Исследование вопроса о том, в каком соотношении между собой мыслимы были начала веры и начала дисциплины в церкви христианской всех времен, начиная от древних и до новейших, дало нам то положение, что вера и дисциплина всегда понимались и существовали как предметы не тождественные по их существу, по их значению для спасения, по их отношению к залогу Откровения и, наконец, по отношению к ним самой Церкви. Но теперь, если мы „верою называем правильное понятие о Боге и о предметах божественных“ (Посл. Вост. Патр.); то что такое будет церковная дисциплина сама в себе? А затем — каковы ее существенные свойства?
Понятие о дисциплине обыкновенно поставляется в связь с понятием о существе видимой церкви и с теми свойствами, которые принадлежат ей — с одной стороны по указанию Самого Откровения, а с другой — должны быть мыслимы принадлежащими и но естественному понятию о всяком союзе людей, или о всяком обществе человеческом. „Если Церковь — рассуждает известный Дюпен (Dupin, f 1684 г., его—De antiqua eclosiao disciplina)— есть общество людей исповедующих веру Христову: то необходимо, чтобы в ней был установлен какой-нибудь способ управления (forma regininis)“. Признание этой необходимости, конечно, условливается уже тем, что как скоро церковь есть общество, то ей должен быть присущ известный отвержденный порядок, поддержание которого и составляет задачу управления, и без которого церковь перестает быть даже простым обществом, потому что тогда теряется существенное свойство всякого союза людей: т. е. в известной мере единообразие жизни и зависимость отдельной воли от общей воли как воли выс-
95 —
шей. Во всяком обществе однако, по мысли того же автора, управление имеет своим объектом лишь внешнюю сторону жизни, иначе—жизнь поскольку она проявляется во вне, без притязания правящих на властвование над внутренними состояниями духа каждого из членов, входящих в общественный союз; средством же управления служат законы, то есть, известным образом выраженные обязательные нормы действий. В приложении к церкви это, очевидно, будет иметь тот смысл, что совокупность законов, определяющих (регулирующих) христианскую жизнь, насколько она является во внешних поступках христианина, и образуют собою то, что называется дисциплиной. Таково определение существа дисциплины, которое следует из рассуждений Дюпеня и единомысленных с ним. Но не трудно видеть, что такое определение, правильное в том случае, если церковь должно понимать как общество людей по своим целям тождественное с другими человеческими обществами, будет неправильно в применении к дисциплине церкви, так как это определение приурочивает к дисциплине, в качестве ее исключительной цели, одно лишь внешнее общественное благоустройство, жизнь в обществе поскольку она составляет естественный факт,—между тем как задача Церкви как общества, а следовательно и задача церковной дисциплины — более внутреннего характера, чем, например, задача государства. Поэтому другие канонисты с полным основанием вводят в свои определения еще и особые черты, включая в себя которые понятие церковной дисциплины делается даже обширнее, чем попятите дисциплины государственной или общественной в обычном смысле слова. Эти особые черты церковной дисциплины состоят в том, что как по своему предмету, так и по своим целям и средствам церковная дисциплина почитается имеющей отношение преимущественно ко внутренним состояниям человека и притом тем состояниям, которые важны собственно для христианской, а не для одной естественной духовной жизни, или жизни по началам естественного нравственного закона. Поэтому Томасини (Thomasini, его Wetus et nova ecclesiast. discipl. 1705) определял церковную дисциплину, как совокуп-
96
ность положительных церковных законов, руководствующих не только жизнь церкви в качестве особенного общества, но и жизнь отдельных членов церковного общества. Во всяком случае оба эти канониста объектом церковной дисциплины поставляют: жизнь церкви, как целого, как общества, и индивидуальную жизнь отдельного члена церкви. Но индивидуальная жизнь христианина в свою очередь составляется: из стороны в собственном смысле нравственной и из стороны внешнего благоустройства. Первая является в исполнении нравственного закона, данного в Откровении—закона, который всегда при всяких условиях спасителен человеку (о чем у нас была речь ранее), и потому ни при каких условиях не подлежит изменению. Вторая же основана и держится на чисто церковных, т. е. созданных видимою церковью, законах и обычаях, „которые, говорит Томасини, в то или другое время, в том или другом месте имеют то более, то менее авторитета, то более, то менее полезны, ибо они даны для того только, чтобы удобнее соблюдаем был первоначальный и вечный закон“, заключающий в себе требования в собственном смысле нравственные. Иначе сказать—вся дисциплина имеет лишь служебное значение для нравственности, как и дисциплинарные законы для требований самого христианства. Очевидно, затем, что как скоро поддержание церковной дисциплины в церковном обществе совершается при помощи даваемых этому обществу законов, то нельзя не согласиться с Томасини, что „церковная дисциплина не различается от понятия о церковном управлении“, как не различается она от этого последнего понятия и по ее главной цели: „устроят сколько возможно лучше христианскую жизнь, сообразно с нормою чистого учения“, теоретического и практического. Упорядочивание жизни в церкви и благоустроенность этой— жизни, как желательный результат упорядочивающей деятельности, однако не есть только естественная потребность и произведение людей, образующих церковь: в наиболее общем выражении деятельность этого рода и потребность порядка составляет божественную заповедь, заключенную в известном положении, что в церкви „все должно быть благообразно и по чину“.—Таковы теорети-
97
ческия положения (которые можно встретить и у многих других канонистов), дающие исходные точки для понятия о том, что такое церковная дисциплина но существу, должно прибавить, что явственное иногда несходство в употреблении понятия дисциплины происходит как от того, что стороны индивидуальной и церковной жизни, обнимаемые дисциплинарными правилами, очень разнообразны, так и от того, обычного явления, что термин, собою лишь понятие средства, часто употребляется и для обозначения тех целей, для достижения которых средства эти служат. Поэтому под дисциплиною нередко одинаково разумеются, как совокупность установлений, имеющих единственною и конечною целью достижение известного порядка и благоустройства в разных степенях и в разных областях церковной жизни, так и самый этот порядок, составляющий собою результат того, что эти мероприятия в своей сфере достигали своего назначения.
Теперь является вопрос: такое воззрение на дисциплину согласно ли будет с понятиями кафолической церкви и православного богословия?
В истории церкви, как в древние, так и в новые времена встречается направление мысли, отрицающее необходимость дисциплины как более или менее точно определенного порядка жизни в Церкви. Но нужно признать, что действительно церковным воззрением всегда было признание не только законности, но и необходимости в церкви общеобязательного единообразного порядка, в противоположность сепаратизму, или индивидуализму, не признававшему для христианина никакой необходимости в общем или единообразном строе жизни. И поэтому всякое уклонение от следования данному порядку, как свидетельствующее о разрушении начал истинной церковности, уклонение, прежде всего проявлявшееся вне Церкви, у еретиков, уже Тертуллиан понимал, как еретическую недисциплинированность“ (еретики были indisciplinati, по Тертуллиану). В смысле хранения общеобязательного порядка дисциплина в Церкви достигалась не только тем, что создавался отвлеченный закон, но для сего же служила и самая власть, в основе действования которой лежало, ко-
98
нечно, признание неравенства одной части членов церковного общества по соотношению с другою, или — меньшей самостоятельности одних пред другими в организме церкви.—Поэтому существование власти в церкви признавалась не каким-нибудь условно необходимым началом, например, при организации новонасажденной церкви, или при образовании общин у ново-обращенных, а началом, долженствующим действовать постоянно, и церковь даже не мыслилась без власти, с понятием которой, конечно, соединялось представление необходимости в известной мере принуждения, как не мыслимо без допущения начала принуждения существование и какого бы то ни было общества. Отрицатели же дисциплины, наоборот — всякий порядок, поелику он есть нечто отдельное от существа христианства— веры, и в применении его к общей и в приложении к отдельной жизни, признавали предметом личного разумения,—допуская, что для христианина будет одинаково спасительна и жизнь сепаратная, отдельная от церкви, жизнь вне общего порядка, лишь бы была истинная, и потому единая с церковью, вера, что в последнем своем выводе давало и признание излишества власти в Церкви. С первого взгляда может представиться, конечно, что и церковь христианская, как общество совсем другого назначения по сравнению со всеми другими обществами человеческими, имеющее для себя задачи высшего порядка, не признавала особенной важности за дисциплиной, давая, напротив, большой простор индивидуальному пониманию церковной жизни во имя принципа христианской свободы и в противоположность ветхозаветному единообразию и строгой определенности во всем, что касается как жизни вообще, так и внешнего обнаружения богопочитания в особенности. Между многими фактами дровней истории, по-видимому, указующими именно на то, что в древней церкви если и была дисциплина в смысле единообразного порядка, то однако была лишь как факт, а не как принцип церковноустройства и церковной жизни, охотнее и обычнее всего ссылаются на свидетельства историка Сократа. И в самом деле, хотя об одной из сторон жизни церкви—об общей молитве—но у Сократа встречается, например, такое свидетельство, что едва ли, по
99
его словам, можно найти и две (местные) церкви, которые в совершении молитвы были бы согласны одна с другою. Если это действительно так, то, разумеется, нужно будет признать, что в вопрос об образе совершения молитвы древняя церковь не вносила требование единообразного порядка, или не видела здесь необходимости определенной дисциплины. Но дело в том, что все подобные факты, свидетельствующие о несомненно существовавших несходствах в разных сторонах церковной дисциплины, в действительности свидетельствуют не об отрицании в древней церкви необходимости порядка, например в отношении к молитве, тем менее означают отрицание дисциплины и в степени требуемого единообразия порядка там, где это единообразие признаваемо было необходимым, а не безразличным. Как лишь средство, служащее к сохранению веры, как имеющая условную обязательность лишь по мере действительных интересов христианства, дисциплина, как увидим, имеет и свои пределы в достижении единообразия, и в известной мере и при известных условиях терпит даже и сепаратизм. Но право на известную меру особности и принципиальное отрицание необходимости порядка есть далеко не одно и то же, как не одно и то же руководствование к спасению и принудительное приведение жизни к известному порядку. — Примеры того, с каких разнообразных сторон встречалось отрицание необходимости дисциплины, в истории церкви многочисленны. Так Ириней о еретике Василиде свидетельствует, что „Василид не дает никакого значения идоложертвенным мясам, считая за ничто и без всякого опасения употребляя их“,— тогда как церковь вводила в этот вопрос определенные требования, не почитая его не нуждающимся ни в какой нарочитой регламентации. Мало того, Василид, отмечает Ириней, „считает также делом безразличным употребление и других подобных вещей и всякого рода удовольствия“, а другие еретики готовы были отрицаться от имени христианина), то есть, считали наружное отречение делом безразличным, как не вредящее вере сердца, тогда как опять, наоборот, Церковь не считала и наружное отречение делом безразличным, древние гностики вообще учили, что
— 100 —
„истинные христиане спасаются чрез веру и любовь, а все прочее безразлично“, следовательно, церковной регламентации подлежать не должно, „и что только по мнению людей, (по не по мысли Божественной) одно есть добро, а другое зло“ и т. д. Даже в области чисто нравственной (непозволительное сожительство, многоженство), по мнению гностиков времени Иринея, не требовалось какого-либо ограничения, потому что „Бог не очень обращает внимание на это“. В таком случае, разумеется, какая-нибудь неизменная дисциплина не может иметь важности. Отсюда становится несомненен тот факт, что вопрос о дисциплине в первохристианской церкви возник ранее всего в приложении к предметам, которые называют adiaphora, пначе-об отношении христиан к вещам безразличным, по мнению иных не подлежащим, по их маловажности, приведению к единообразию.—По-видимому, и сам Припой в некоторых сторонах индивидуальной христианской жизни был противником регламентаций. Это, например, некоторые видят в его послании к Власту: „апостолы установили, говорит здесь Ириней, чтобы мы никого не осуждали за пищу и питие и за какой-нибудь праздник“. Но действительный смысл этого, конечно, весьма важного замечания, есть тот же, как и смысл свидетельства Сократа об отсутствии будто бы в древней церкви единообразия в молитве, именно—что признание необходимости дисциплины совместимо с признанием, до известной меры, и различия порядков. Весьма характерный след тех принципов, коими руководились древние отрицатели дисциплины, можно находить и у Климента Александрийского. В его рассуждениях о молитве истинного гностика высказываются такие мысли: „мы поднимаем и голову и руки к небу, пытаясь (этим как бы) вместе с словами воздвигнуть от земли и наше тело. Но истинный гностик готов пройти всю землю, чтобы показать, сколь он желал бы приблизиться к Богу“ *). Если, за тем, некоторые установили определенные часы для молитвы, то „гностик — молится всю
*) Конечно, подразумевается; а невоздвигнуть только руки, или совершить иное подобное, слишком незначительное для выражения молитвенного состояния, действие.
— 101 —
жизнь, поелику чрез молитву желает быть (всегда) пред Богом,—но он же и оставляет все, что бесполезно как уже достигший совершенства, которое делает (все) по любви“, а не по заповеди (Strom. VII, у Миня t. IX, 455). Из слов Климента очевидно, что некоторые, а может быть и сам Климент, требованиям дисциплины в совершении молитвы, именно исполнению определенных действий и соблюдению известных времен, противоставляли принцип христианской свободы, в силу которой христианин совершенный (истинный гностик) не нуждается будто бы в каком-нибудь руководствовании ни в отношении к образу совершения молитвы, ни в отношении ко времени молитвы; и без простирания головы и рук к небу, и без указания часов молитвы „он всю жизнь молится“ и проч. Наоборот, тот, кто во имя дисциплины признавал необходимость, в известной мере, единообразия для всех обязательного, очевидно, рассуждал так, что назначением часов молитвы достигается хотя то, что христиане „менее совершенные“, менее старательные или менее свободные от дел будут посвящать молитве по крайней мере „хотя установленные часы, а совершенные-не только эти часы но и другие“, следовательно точная определенность, внесенная в молитву, сама по себе не отрицает известной меры свободы,—что, по-видимому, поставляли на вид отрицатели дисциплины 1).—Мы упоминали также, что в близком ко времени Климента памятнике, в Ипполитовых канонах, имелись в виду, по-видимому, те же гностические возражения против необходимости дисциплины в религиозно-церковной жизни, это именно там, где давались предостережения относительно того, чтобы „кто-нибудь не сказал: я христианин, я крещен и, на этом успокоившись, не предался бы забавам, отвратившись от повелений Христовых“. Но в особенности должны быть признаны важными попытки отрицания дисциплины, обнаружившиеся в эпоху столкновения монтанистических мнений с общецерковными. В известном сочинении Тертуллиана de jejuniis он представляет такие рассуждения отрицателей
1) Strom. VII, у Миня, t. IX. р. 1199. Ср. Филарет, Обзор песнописцев, стр. 62.
— 102 —
дисциплины. „Что касается до постов“—рассуждает здесь монтанист, будет ли это сам Тертуллиан или другой-кто, мысли которого он здесь воспроизводит, это не имеет важности—„то они (психики, т. е. кафолики) указывают на известные дни, как будто бы самим Богом установленные для поста, и думают, что эти (установленные) дни поста точно указаны в Евангелии“, усматривая это указание в упоминании о посте „во дни,, в кои отъят жених“ (слова Господа),—и что эти дни установлены (уже) как закон для постов христианских, так как теперь оставлено все древнее — весь закон (иудейский) и пророки. „Но если уже — возражает монтанист — они хотят, чтобы было так (т. е. хотят, чтобы пост был по точному указанию), то они, очевидно, не знают, чему учит (слово завета нового): закон и пророки—до Иоанна“. Следовательно, закона для поста (дисциплины) у христиан де может существовать, как скоро принципы иудейства отменены. И потому—„должно поститься безразлично 2) по собственному произволению, но не по предписанию этой новой (т. е. до сих нор не существовавшей) дисциплины,—поститься сообразно времени и потребностям каждого. Так и апостолы хотя постились, но не возлагали (на христиан) иго соблюдения определенных постов и не указали таких (постов), которые должны быть обязательными для всех вообще“. Сюда же, т. е. к тем предметам, из которых апостолы не сделали „ига соблюдения“ и из которых по должно и делать его, противники дисциплины относили: время так называемых стояний, время молитвы и время сухоястдия (xerofagia), что в древности различалось от поста как не-ядения в известный период дня. „Равным образом и на стояния наши—продолжает Тертуллиан — они смотрят как на (какие-то) оброчные повинности, 3) и называют именем (произволь-
2) Текст в этом месте читают indifferenter и differenter. Но смысл от этого не изменяется; все равно место это будет обозначать: „должно поститься безразлично к какому-либо определенному времени", или: „когда угодно (сепаратно), по личному произволению". См. Migne, Patr. laf. t. II, col. 655.
3) Считают более правильным читать: indictas, вместо: indignas. См. примечание Миня в указанном месте.
103
ных) новшеств, утверждая, что и это установление должно быть соблюдаемо (только) по произволению“, но не по единообразному уставу и не по общему требованию. О сухоястиях судили так: „сухоястия—это новое имя показной (affectati) добродетели, есть нечто близкое к языческому суеверию. Это воздержание (не вообще, а) выражающееся в исключении известных (только) яств, умилостивляет разве Аниса, Изиду, тогда как свободная вера во Христе не подлежит даже иудейскому закону воздержания от известных яств (воздержание в роде пищи, а не в количестве): вера эта—абсолютно безразлична ко всему съедобному, ибо Апостол порицает тех, которые запрещают вступать в брак и повелевают воздерживаться от (известной) пищи, созданной Богом же“! В тенденции отрицания дисциплины в эту эпоху говорили, будто словом самого Апостола „осуждены вместе с Галатами все те, кои соблюдают дни, месяцы и годы (разумелось Галат. IV, 10)“. Указывали и на то, что—„Исаия предвозвестил: не такого поста восхотел Господь (Ис. 58, 4—5), то есть (поясняли это место отрицающие необходимость дисциплины) не воздержания в пище, но дел милосердия,—как и Сам Господь всем относительно разборчивости в пище сказал: не сквернит входящее в уста и проч. (Мф. IX, 19). И Тертуллиан заключает эту аргументацию противников дисциплины следующим образом: „сими и подобными рассуждениями доходят до такой тонкости (в своих умозаключениях), что всякий наклонный к чревоугождению может думать, будто обязательство отказываться от пищи или уменьшать ее, замедлять принятие ее—все это излишне и ничуть не необходимо, если Бог выше всего этого поставил дела правды и невинности. Знаем мы эти декламации за удобство плоти! Ибо легко сказать: „нужно веровать от всего сердца, любить Господа и ближнего своего, и что в сих (истинный, христианский) закон, а не в пустоте внутренностей“,—но (конечно, Тертуллиан здесь подразумевал) то, что легко говорится, не так легко делается! 4) И он берет на себя обязанность показать, „какую цену пред Богом имеет и эта
4) Migne Ibid. 955-958.
104 —
тщета“, которую так красноречиво отрицают как будто бы нарушающую свободу христианина и унижают как не имеющую уже никакой цены,—и он, действительно, показывает, „в чем заключается основание того“, что и пост со стояниями имеет значение для христианина. Словом по мысли Тертуллиана истинная причина подобных отрицаний лежит только в сознании тяжести жить дисциплинированно, а не в каких-либо высших соображениях, которые выставлялись и гностиками Климента и свободными христианами того же времени. В другом случае, характеризуя состояние церковной жизни и порядков, Тертуллиан говорит, что у еретиков „все делается без дисциплины (sine disciplina): оглашенные не отделяются от верных, безразлично присутствуют при богослужении, вместе слушают писания и поучения, вместе молятся; женщины берут на себя обязанности, им несвойственные. Тем не менее ниспровержение всякой дисциплины они, еретики, называют простотой, а заботу о дисциплине у нас называют притворством“. Но и та дисциплина, которая есть у еретиков, не тверда, ибо „они сами же отступают от собственных правил, и это оттого, что каждый из них изменяет по собственному усмотрению то, что (сначала) признал за правило, подобно тому как и тот, кто предал правило, сложил его от своего произвола“. В церкви же, по Тертуллиану, наоборот есть твердая дисциплина (pressior disciplina), от которой никому не позволено уклоняться, и эта твердая дисциплина „служит у нас свидетельством истины“. 5) Из сочинений того же Тертуллиана видно, что отрицание дисциплины, во имя свободы христианской от всего, что имеет характер ига подзаконности, особенно проявлялось у Маркионитов, не признавших Ветхого Завета, которые вместе с тем отрицали дисциплину как средство, ненужное для воспитания внутреннего человека (ответ на это Тертуллиана изложен будет сейчас ниже).
Некоторые намеки на существование притязаний на свободу от всякой дисциплины в деле поста, от всякого
5) De praescript. 41, 44. Migne II, 53,59. Disciplina praessior, очевидно, противополагается disciplina laxissima. Ibid. II, 977. B.
— 105
общего единообразного порядка здесь иные усматривают даже и у Оригена. Как мы уже знаем, у него встречается мысль, что пост не должен состоять исключительно в воздержании от известных яств—или иначе—в различении яств: пост, по Оригену, есть не делание зла и уменьшение яств —вместе. В отношении же к порядку времени поста Ориген высказал такую мысль: „для поста по учению Христову, и для сокрушения о грехах годно всякое время в течении года и всякий день твоей жизни, если только ты научился от Господа (смирению и сокрушению), Который кроток и смирен сердцем“. Известный Хемниц, в своей критике постановлений Тридентского собора, приводимое место, как и все вообще суждения Оригена о посте, считает исключительно направляемыми „к защите евангельской свободы“, которой будто бы угрожала вводимая Церковью регламентация, и утверждает, будто благодаря таким апологетам этой свободы, как Ориген, она на некоторое время и действительно удержалась в церкви христианской. Но ведь мы видели также, что все свои рассуждения (в десятой гомилии на книгу Левит) Ориген заключает предостережением, чтобы его не понимали как желающего „ослабить узду воздержания“, и указывает на дни четыредесятницы, четвертый и шестой день недели, как на время „всенародного“, а не сепаратного, по личному усмотрению поста, и ничуть не намекает на это установление определенных дней как на стесняющее индивидуальное благочестие. Поэтому все приведенные рассуждения Оригена должно понимать таким образом: взгляд на пост, как на установление, сила которого исключительно в соблюдении того или другого дня поста, с опущением какового дня и с перенесением его на другой добродетель воздержания теряла бы уже всякое значение, или наоборот—приобретала бы его в таком только случае, если бы пост имел место непременно в эти дни: это, действительно, Ориген отрицает: для воздержания „всякий день твоей жизни“ годен и всякий день обязателен для поста по учению Христову, т. е. для того, чтобы не предаваться низшим влечениям плоти. Но трудно будет причислить Оригена к категории отрицателей дисциплины такого рода, каковы были, например, отрица-
106
тели описываемые Иринеем. Очевидно, в приведенных словах Оригена виден только один из начальных моментов борьбы против чисто внешнего благочестия, или даже борьбы против того, что иные стали признавать спасительность дисциплины самой по себе без всякого отношения ко внутреннему совершенствованию и к дисциплине мысли и чувства, следовательно, обращали простое средство в самую цель. Это ясно в особенности становится по соотношению указанных рассуждений Оригена с рассуждениями в Homil. in Math. с. 15. Здесь Ориген об известных словах апостола относительно брашна замечает следующее: „так как апостол знал, что не природа пищи служит причиною того, что употребляющий ее вредит себе (нравственно) или, на оборот, воздерживающийся—пользует себе, но—мнения (о пище), то апостол и сказал: брашно не приближает нас к Богу“. Хемниц, на основании этих слов, делает такое обобщение: „Ориген здесь, будто бы, учит, что в вещах безразличных, презрев суеверие, не следует делать какого-либо различения“. Но является вопрос: приведенное сейчас мнение Оригена совместимо ли с признанием необходимости какого-либо постоянного определения даже и относительно пищи, как предмета во многих случаях действительно безразличного? Судя по тому, что Ориген, утверждавший, что всякий день годен для поста и для сокрушения, в тоже время однако указывал и на соблюдение четыредесятницы, как на дело христианским понятиям но противное, должно будет и при существовании у него таких мнений считать его но в числе с отрицателями дисциплины, бывшими во втором веке, а лишь разве в числе свободомыслящих третьего века. Притом еще, это свободомыслие не обозначало принципиального отрицания необходимости дисциплины, а могло быть, как мы упоминали, естественным следствием противодействия тому, достойному сожаления, направлению, которое стремилось установить за дисциплинарным средством самостоятельное значение цели:—приурочить спасительность или благотворность поста к исключительным временам года и недели, с отрицанием того же по отношению ко всякому посту по личной инициативе. Последнее же прямо должно
— 107 —
признать начальным, в историческом отношении, моментом известного учения об opus operatum!
В более позднее время свидетельства о принципиальном отрицании дисциплины среди еретических обществ можно находить в правилах Гангрского собора и у Св. Епифания Кипрского. В прощениях Ганргского собора против самовольной жизни еретиков находится одно, из коего видно, что еретики отрицали посты, „преданные к общему соблюдению (εἰς τὸ κοινόν)“, т. е. как общий устав для всех, не отрицая однако же необходимости поста самого в себе. Видно также, что и наоборот—не только нарушение поста, но и соблюдение его у еретиков, хотя существовало, но только сепаратное (см. прав. 18. 19). Следовательно, еретическая особенность воззрений заключалась в том, что еретики не считали себя обязанными подчиняться общему и потому единообразному в этом деле порядку, что, конечно, составляет вопрос не по важности самого дела, а именно по причине кроющегося здесь отрицания общественной дисциплины. У Епифания же из его обширного каталога еретиков, как на типичнейших отрицателей дисциплины, можно указать на последователей Аэрия. Сам Аэрий учил: „пост—без нужды установлен. Если я хочу поститься, я сам выберу какой-нибудь день и буду поститься свободно“. По сему в дни установленного и преимущественно соблюдаемого поста, когда все постились—в неделю воспоминания страстей Христовых, аэриане демонстративно обнаруживали нарушение поста, а если и постились во дни общие с православными, то—„не по предписанию, а по собственному произволению“ (стараясь, вероятно, это произволение и не подчинение общеустановленному порядку также чем-нибудь обнаруживать!). 6) Эту же еретическую тенденцию
6) Епифаний, ересь LV, § 3, русск. перевод. Твор. Свв. Отцев ч. V. 38.—Хемниц (Exarn. Ooncil. trid. р. 11, 175) находить, что Аэрий осужден неправильно, ибо „царство божие не есть еда и питье“, и что в самой церкви в раннейшие времена думали так, что „несогласие в посте не разрушает единства веры“ (слова Иринея). Но царство Божие не есть и царство произвола человеческого. И сам Аэрий, очевидно, не осуждал поста в принципе, а осуждал требование единообразия в соблюдении поста, единообразия, которому следует и которого требует
— 108
отрицания необходимости дисциплины можно находить и в других описаниях еретических нравов Епифанием, в особенности у еретиков гностического направления, как это, впрочем, можно видеть и у ересеологов раннейших Епифания. Так, причиной, по которой отрицали всякую дисциплину карпократиане, было такое общее начало: „по природе ничто не худо, а только у людей почитается таковым“. Валентиниане „небоязненно делают все запрещенное“ во имя того, что мы отчасти видели уже и в свидетельстве Климента Александрийского: именно по их мнению они сами—духовные, а какие-либо установления нужны только для людей душевных, душевные же люди
церковь: следовательно, осуждал собственно внесение точного порядка, имевшего за себя значительные данные.—Нужно прибавить, что лютеране выступая против таких дисциплинарных установлений Церкви, как установление поста вообще, и против единообразия в посте в частности, обыкновенно говорят, что они воюют не против поста, как средства обуздания плоти, а лишь против того, что в Церкви пост предлагается cum opinione necessitatis, т. е. признается необходимым средством к приобретению благодати (ad promerendam gratiam), с оставлением которого надежда спасения для христианина уменьшается.~ Но такое мнение лютеран, высказанное однако в лютеранских символических книгах, может иметь смысл разве только в применении к римской церкви средних веков. Вселенская же церковь не единообразный пост „признавала необходимым для приобретения благодати“, а жизнь в единении с нею (Церковью) и притом признавала все-таки—без предрешения того, что всякий человек должен быть почитаем обреченным на вечную погибель в том случае, если бы оказалось, что по какой-либо стороне жизни у него общение с церковью было прервано. Авторитетно признано было церковью лишь то, что индивидуализм не отвечает основным требованиям христианства, противен другим положениям христианского учения и, естественно, опасен для совершения спасения, как, без сомнения, лишающий человека надежного руководства при спасении. Ибо и ясные требования божественного Откровения (как и многие ясные требования закона бытия естественного) не имеют в самом Откровении заключающихся и принудительно действующих гарантий против затемнения их недомыслием человеческим. — Приписывать же церкви, будто спасение человека она ставит в зависимость от поста или даже образа совершения поста, будет значить, прежде всего, отрицание действительной истории Церкви. В своем месте мы укажем как смотрела древняя церковь на соблюдение общеустановленных постов в отношении тех исключений, которые ею здесь были допускаемы; исключения во всяком случае показывают, что церковь смотрела на пост, как на средство только нравственной дисциплины.
— 109
это „опирающиеся на дела и простую веру, и не имеющие совершенного ведения“. Под именем душевных, говорит Епифаний, „они разумеют нас, принадлежащих к церкви, которым необходима добрая деятельность, ибо иначе (нам) спастись невозможно. О себе же самих решительно учат, что они спасутся не делами, а потому, что они по природе духовны“ и проч. Здесь точно также опять, разумеется, не могло быть какого-нибудь вопроса о дисциплине, как о вопросе дел! 7)
Так мыслило все сепаратное или стремившееся к сепаратизму. Но как бы параллельно с этим и даже в прямом отношении к усилиям отрицателей дисциплины, идет выяснение той мысли церкви, что ее принцип: все в церкви должно быть благообразно и по чину (τάξις), ибо и многое внешнее имеет значение для внутреннего,— что высшие начала жизни христианской (любовь, чистая духовность нравственных требований христианства) для своего действительного осуществления но только не исключают чисто внешнего порядка, но; наоборот, пока церковь существует в земных условиях, необходимо предполагают существование этого порядка. Эту совместимость дисциплины с идеей свободы христианина нарочито подробно раскрывает тот же Тертуллиан, как мы замечали, в его ответе. Маркионитам на их отрицание дисциплины Ветхого Завета (disciplina legalis), по известной их теории, будто Творец Завета Ветхого есть иной, нежели Завета Нового. Тертуллиан утверждает, что ветхозаветные предписания даже и относительно внешней жизни предназначались Законодателем не как имеющие цену одного послушания, а и прямо в качестве нравственно воспитательного средства. С этой точки зрения и в известном Законе: око за око Тертуллиан видел не одно осуществление принципа отмщения и устрашения, но и дисциплинирующий прием: „нет ничего горше, как ежели терпеть самому то, что причинял другим“. И поэтому, по мысли Тертуллиана, „если ветхозаветный закон делает какие-либо ограничения в жизни людей, хотя бы, например, то обстоятельство, что он объявляет нечисты-
7) Ibid. Твор. ч. 1. 183, 319.
— 110
ми тех самых животных, которые некогда (при сотворении мира) были признаны добрыми: разумей это как совет, данный для упражнения в воздержании и считай это уздой, налагаемой на тех чревоугодников, которые, едя хлеб ангельский, желали бы огурцов и тыкв египетских... Тоже понимай и о союзниках чревоугодия, то есть о любострастии и роскоши, которые почти замирают при пустоте чрева“: вот ответ тем, которые учили, что Бог не дает значения „пустым внутренностям“, как говорили Оригену. Стало быть, и при высших нравственных требованиях христианства вопрос о пище не слишком ничтожный вопрос, по Тертуллиану. И далее он указывает на другое влияние поста, важное для чисто нравственной жизни: сокращение жадности к деньгам по мере сокращения пожеланий роскошной еды. Отсюда—„все ветхозаветные тягости жертвоприношений и (священных) действий (ветхозаветная дисциплина) и сложную точность приношений—пусть никто не порицает и не мыслит, как будто бы все это Бог для себя желают! Пусть лучше всякий признает особую заботливость Бога, с которой Он народ, склонный к отступничеству, хочет удержать в Своей религии, налагая на него обязанности такого рода, которыми (только) суеверие века воспользовалось для того, чтобы отвлекать народ от религии, представляя эти, предписанные Богом, обязанности в таком виде, как будто они были чужды для Самого Бога“, а не для дисциплинирования человека. То есть, и самые злоупотребления, к которым люди приходили, по-видимому, вследствие ветхозаветной дисциплины (на что, вероятно, в век Тертуллиана ссылались в отрицании потребности дисциплины,) не служат доказательством излишества и вреда ее для свободы человека Нового Завета. Вообще цель дисциплины, по Тертуллиану, заключается не в том же в самом деле, чтобы человек необходимо имел известные внешние свойства—облегченное чрево, остриженные или длинные волосы, а в чисто нравственном благоустройстве, достигаемом при посредстве внешних средств,— тогда как отрицатели, дисциплины, не видя цели, разумеется, отрицали и необходимость средств. Посему и ветхозаветные дисциплинарные предписания в конце концов
— 111 —
были лишь выражением смотрения Божия о нравственном благоустройстве людей сообразно с Откровенным нравственным законом, а не выражением одной заботы о том, чтобы люди не отступалиот буквы обрядового закона. (До крайности эта мысль, как мы видели, развита была у Оригена). Поэтому Тертуллиан, как мы отчасти указывали, сущность ветхозаветной дисциплины выражает так, что „Бог, стесняя людей этой дисциплиной закона всюду, где бы они ни были, имел целью то чтобы они ни на один момент не были вне смотрения Божия“ 8). Все эти рассуждения, разумеется, одинаково приложимы и к дисциплине христианской.—Кроме Тертуллиана того же вопроса отчасти касался Ириней. То, что иными называлось „свободой христианина“, называлось также и „свободой Нового Завета“. Совместима ли дисциплина с свободой Нового Завета? Конечно, по рассуждению Иринея, в Новом Завете вера во Христа составляет собою совершенный путь к достижению последних целей обетования, тогда как в Ветхом Завете и закон обрядовый служил пестуном во Христа. Вот эта ненадобность для Завета Нового ветхозаветного культа—жертв, омовений и прочего (legalia)—по Иринею и есть „свобода Нового Завета“. Такое понимание существа христианской свободы удовлетворяло тогдашнюю богословскую мысль: известно, что во времена Иринея, наряду с отрицанием необходимости дисциплины, между христианами еще обращалось и то мнение, что с одной верой Нового Завета, без исполнения legalia, спасение невозможно, и потому ветхозаветный закон, думали тогда, в некоторых по крайней мере своих частях, будто бы должен быть соблюдаем: припомним рассуждения об обрезании, встречаемые у Иустина Мученика. Впрочем, говоря и безотносительно в богословствовании Иринея, нельзя, разумеется, не видеть, что и
8) „Ветхозаветный закон, говорил в другом месте Тертулиан, создала не суровость Творца, а Его наивысшая благосклонность (ratio summae benignitatis) к народу“, всюду окруженному божественной дисциплиной и охраняемому ею в религиозной жизни. „И что удивительного, говорит Тертуллиан в книге против иудеев, если дисциплину (т. е. постановления дисциплинарные) умножает Тот, Кто установил ее, если усовершает ее Тот, Кто положил начало?" (Adv. jud. 2. Migne, II, 600).
— 112 —
вера Нового Завета не имеет своим следствием отрицание дел порядка, благоустройства, как вере споспешествующих, не говоря уже об исполнении требований нравственного закона Откровения. Очевидно также, что истинная свобода Нового Завета ни в каком отношении не могла давать поощрения для жизни сепаративной, иначе— для жизни всецелого личного понимания, подобно тому как этой сепаративной жизни не допускал и Ветхий Завет с его точнейшей определенностью культа.
Требование подчиненности известному порядку уже установленному или установляемому в церкви на будущее время, как совершенно совместимое с идеей свободы Нового Завета, в истории церкви с раннейших времен всегда имело свое выражение не только в том, что индивидуальная христианская деятельность получала определенное направление, по даже и в том, что в определенном направлении она имела и определенную меру или определенные пределы. Вследствие этого и признаком сепаратистического отрицания дисциплины признавалось не только то, против чего боролся, например, Тертуллиан—отвержение установленного поста, im даже и самое наблюдение того же поста в некоторых случаях было предосуждаемо церковью в качестве нарушения начала дисциплины, потому что такое соблюдение вносило рознь в общецерковную жизнь, если даже оно но было ни в каком отношении тенденциозно, рознь, конечно, внешнюю, но известно, что и внешняя рознь часто влечет потом разделение внутреннее, или свидетельствует о возможности наступления такою разделения. Отсюда—неодобрение еретикам даже со стороны такого толерантного богослова, как Ириней, и неодобрение за то, что они „не твердо идут по многим и различным дорогам (Varie, multiformiter), не всегда согласны между собой относительно одних и тех же вещей“: следовательно—неодобрение за отсутствие единообразия даже в средствах, что, по-видимому, не важно при единстве и верности цели. Из многих примеров, показывающих то, что—нарушающий дисциплину сепаратизм в глазах церкви одинаково потерпим, является ли он в уклонении от известного порядка, или в упорстве сохранять порядок уже оставленный, можно отметить следующие.
— 113
Известно, что ограничение телесных потребностей в принципе одобряется церковью, как одно из средств достижения чисто внутренней, нравственной благоустроенности. Но и здесь церковь не признавала за каждым из ее членов право безграничного распоряжения собою,—право, которое как будто бы оправдывалось конечною целью дела, именуемого подвигом,—и подчинение руководству церкви поставляемо было выше личного понимания своих расположений. Епифаний, например, как мы знаем, на подвижников, надевавших цепи на шею (что может быть выше этого!), смотрел, как на поступающих „вопреки постановлению церкви“, и, следовательно, церковь налагала запрет на этот тяжелый способ ограничения потребностей тела, способ, без сомнения однако казавшийся избирающим его наиболее отвечавшим их индивидуальным расположениям. И Епифаний, строгий ревнитель подвижничества, вполне сочувствует внесению ограничения даже в такую исключительную область. Как в свое время мы увидим, даже совершенно естественный способ выражения известной настроенности души — выражение состояния сокрушенного сердца в преклонении колен в молитве — не был все-таки вне регламентации: преклонение колен было иногда строго обязательным. Ио иногда ставилось в прямую обязанность и не преклонение колен, преклонение же, наоборот, считалось прямым нарушением порядка. Это показывает, насколько некоторые стороны в порядках церкви были самою церковью признаваемы условными, если уже одно и то же действие сказывается то обязательным, то не только не обязательным, но даже запрещенным, вследствие чего и нарушение дисциплины может являться двумя противоположными способами—то совершения известного действия, то но совершения его. И, однако эта условность ни с какой стороны не служила к поощрению принципов сепаратизма, ибо, как увидим также, высшее выражение индивидуальной благоустроенности в применении к жизни церкви состояло в том, чтобы находиться в единении с церковью не только по вопросам веры, по и по вопросам порядка церковной жизни 9).
9) После Тертуллиана значение дисциплины в жизни Церкви весьма
— 114
Итак, уже на основании сказанного должно будет прийти к тому положению, что существо церковной дисциплины может быть выражено понятием порядка. Поэтому и в историческом прошедшем выражение: порядок, или же выражения производные по отношению к этому термину, или, наконец, выражения логически ему равные были са-
отчетливо определял Златоуст, указав вместе с тем и то, каким образом дисциплина (как „строгое соблюдение" установленного порядка совместима с свободой христианина. Это в третьем слове против Иудеев (русск. перев. Слова, т. III, 493 и дал.) и по тому же частному вопросу о посте. Как видно, во времена Златоуста не улегся еще окончательно спор о времени празднования Пасхи, последствием чего было разногласие и о предпасхальном посте; были люди, желавшие оставаться при порядках до-никейских, то есть желавшие следовать в праздновании Пасхи, по своему усмотрению или привычке, римскому обычаю или малоазийскому. Поэтому, по свидетельству Златоуста, при церковном требовании соблюдать никейское определение, иным казалось странным, что теперь почитается запрещенным то самое, что прежде почиталось безразличным; „вы сами, говорили, не так ли постились прежде?“ то есть, до определения Никейского собора. Да, отвечает Златоуст, „однако же мы предпочли согласие наблюдению времен“. Ibid· На то же соображение, что неудобно „переменять обычай, когда уже столько времени“ поступали иначе, Златоуст отвечал: „потому-то самому и перемени: стыдно коснеть в неуместной настойчивости!“ (ibid. 511). Ведь „мы постимся не для Пасхи и не для креста, но ради своих прегрешений, потому что намеревается приступить к тайнам; Пасха же есть предмет не поста и плача, но веселия и радости!“ В ответ на столь употребительную мысль, что „Бог не обращает внимания на соблюдение времен" (ibid. 508), Златоуст предостерегает „но обвинять в невежестве и трех сот отцов“, которые делая точное постановление о времени, как „будто бы не знали хорошо того, что учредили“, или же „если и знали, то лицемерили“, то есть показывали вид, будто придают значение подобным вопросам, не придавая его в действительности. Хорошо известно, конечно, что „церковь не знает строгого наблюдения времен“, и что „поститься в то или другое время не предосудительно“ (ibid. 514— 115). Но вывод отсюда, по Златоусту, следует еще не тот, чтобы каждый по-своему решал вопросы, сюда относящиеся: „не будем наблюдать дней, времен и годов, но (все-таки) во всем неуклонно последуем церкви, всему предпочитая мир и любовь! Пусть бы даже и погрешала Церковь, и в таком случае не столько было бы похвально точное наблюдение времен, сколько осуждения достойно разделение и раскол“, и по Златоусту тогда-то и будет значить: «возвращаться к прежнему, когда настало совершеннейшее состояние“, когда из вопроса времени будем „жить в раздорах“, предпочитая свое пониманье вопроса пониманию общецерковному.
115 —
мыли употребительными как для обозначения потребности дисциплины в какой-либо отдельной стороне церковной жизни, так и для обозначения того, что в этой области дисциплина вошла уже в должной мере в свои права 10). Если же таково существо дисциплины, то, очевидно, по другой стороне своей, именно—по своей цели, дисциплина должна получить такое определение: она есть совокупность постановлений и правил порядка, имеющих своим назначением—или а) противодействие наклонности к безразличию в образе внешней жизни христианского общества (эта наклонность, как мы упоминали, у древних отрицателей дисциплины характернее всего выражалась в их учении, будто соблюдение какого-либо неизменного порядка в христианской жизни есть дело ничтожное!), или же б)—устранение и предупреждение сепаратизма в тех сторонах христианской жизни, которые по мысли церкви непременно подлежат объединению 11). Но опять является новый вопрос: эти цели, лежащие в основе существования дисциплины, исключают ли совершенно цели другие, может быть, и второстепенные по сравнению с первыми? В ответ на это нужно сказать следующее: нельзя утвердить,
10) У Климента Римского, следовательно, в ῖο время, когда еще многие стороны в жизни церкви не имели неизменного порядка, или же когда каждая церковь имела свой поря цок, мы встречаемся с наказом о том, чтобы священные действия совершались не «без порядка», следовательно, имеем указание по крайней мере на одну область, где не было места индивидуализму, именно область литургическую.
11) Мы упоминали о правилах древней церкви, по которым христианин, без достаточно уважительной причины не приходивший на христианские молитвенные собрания три воскресных дня сразу, привлекал на себя внимание как нарушающий обязательный порядок церковной жизни. Это показывает, что по понятиям церкви христианин обязуется не только к исполнению долга молитвы (ибо возможно предположить, что не являвшийся в общие собрания этого долга, однако не нарушал), но и к исполнению в общении с церковью, следовательно—к исполнению в известном общеобязательном порядке. Конечно, позднее стала допускаться как законная форма жизни и жизнь в разобщении с церковью (обычаи анахоретов), находившая оправдание в том, что уединение само по себе составляет нравственный подвиг; но первоначальная дисциплина церкви, очевидно, сепаратной жизни не допускала, или по крайней мере, такой жизни не доверяла в отношении безопасности ее как пути спасения,
116 —
что в церкви дисциплина мыслилась исключительно как средство, или как выражение порядка полезного: несомненно, что иногда порядок был и считался условливающим лишь благообразие (εὐκοσμια), был украшением, но не необходимостью, и, следовательно, существовал отчасти и самодельно 12). Но нельзя не заметить и того, что обе эти цели были неравноценны для церкви: принцип пользы, как основа порядка, был преобладающим. Уже в послании Варнавы дается предстоятелям такой совет: „исследуйте, что прилично и полезно всем возлюбленным“, т, е. христианам. Это сочетание порядка и пользы, очевидно, дает важное дополнение к понятию о существе дисциплины и ведет к важным заключениям относительно свойств церковной дисциплины. Поэтому мы долее, чем с первого взгляда может показаться надобным, остановимся на фактах, свидетельствующих, прежде всего, о понимании существа дисциплины именно как порядка, а затем, если существо дисциплины есть порядок, посмотрим факты, указующие, что это есть, так сказать, порядок пользы, откуда уже само собой следует, что идеал церковной дисциплины — не только устойчивая дисциплина, или неизменный порядок, но и лучший порядок!
12) В богословской литературе как православной, так и в римско-католической, употребительно выражение: „вопрос чисто дисциплинарный (quest merae disciplin.)». Это и значит, что данный вопрос составляет исключительно вопрос порядка, церковного устройства с той его стороны, которая не соприкасается ни с чем таким, что относится к вере, прямо или косвенно нарушает положение вероучения и т. п. В одном из католических изданий „чисто дисциплинарным определением“ Церкви называется: „определение, касающееся таких вещей, кои внутренне не составляют собою ни добра, ни зла“ (Theoî. ours, compl. t. 28, p. 1418). Такой класс дисциплинарных определений действительно существует, и к нему должно отнести все определения в целях большей благоустроенности или благопристойности, каково, например, хотя бы встречающееся в древних канонах запрещение пресвитерам присутствовать на браке, то есть на брачном пиршестве. Разумеется, присутствовать пресвитера на браке не само по себе будет предосудительным, а как обстоятельство не удобное но тогдашним только свойствам брачных пиршеств. Сравн. Лаодик, пр. 44. Но, очевидно все-таки, что этот класс определений не может обнимать собою всю область дисциплины: в предыдущем примечании указан пример определения, которое уже не может быть названо касающимся предмета, не имеющего отношения пи к добру, ни к злу в смысле понятий завета Нового!
— 117 —
Сборник порядков церковной жизни уже в ІV веке видели в так называемых Апостольских Постановлениях: по выражению Епифания, здесь был заключен „весь канонический порядок“ (πᾶσα κανονικὴ τάξις) 13) и, как кажется, нет никакого другого памятника древности, который всего точнее и всего справедливее обозначается именно как памятник церковной дисциплины. Ибо Апостольскиτ Постановления в полном смысле заключают в себе порядки (διαταγαί) всевозможных сторон церковно-общественной и индивидуальной жизни, начиная от сторон незначительной важности и оканчивая такими, которые, не составляя по существу вопросов области догматической, однако-ж теснейшим образом соединены с теми или другими чисто догматическими понятиями 14). Так, сделав постановление о том, чтобы крестили одни только епископы и пресвитеры, Постановления прибавляют такое заключение: „таков чин и строй церковный“ 15) относительно того, что кто должен делать и что не делать, давая ряд литургических постановлений в восьмой книге, Постановления озаглавливают их „как распорядки относительно всего церковного устройства (τύπου)“, иначе—о том, что должно быть относительно образа бытия церкви видимой. Но подобно тому, как наше выражение: чин и порядок
13) Русский перевод. Творен. Епифания, т. VI; 256. В выражении Епифания характерно также разделение веры и управления (πίστις καὶ διὴκησις), канона и веры.
14) Так известно, что многие из канонистов нового времени и в церкви, подобно тому, как это есть в государстве, пытаются выделить управление (администрацию) от суда; следовательно—διὴκησις древних, имеющее целью достижение порядка и благоустройства, не должно будто бы включать в себя суд над нарушителем порядка, приведение к подчинению порядку посредством соответствующего наказания (конечно, в церковном смысле) т. п.: это почитается функцией отдельной от администрации. В древности же было, однако не совсем так; в Апостольских Постановлениях изложен образ (тин) не только администрации, но и суда, как функций единых в общем высшем понятии: церковной дисциплины, порядка в церкви. И это понятно: Церковь ведет ко спасению и, конечно, может привести и по началам, не тождественным с началами, лежащими в устройстве отношений среди человеческих обществ, и потому может, решительно без вреда для ее конечной цели, допустить нераздельность суда и управления.
15) Lib. III, с. II.
— 118 —
подразумевает в себе добрый порядок: так и в памятниках христианской древности τάξις бывает синонимом εὐταξία и противоположно ἀταξία. В тех же Постановлениях, например, встречается такое выражение: «церковь есть училище не беспорядка (ἀταξίας), но благочиния“, иначе—Церковь есть не произвол, но порядок 16). Таким беспорядком авторизованный уже церковью памятник— Апостольские Правила называют выход из церкви прежде окончания богослужения (пр. 9), неуважение одного епископа к административным действиям другого (пр. 16). Антиохийского собора правило 2-е называет «беспорядком“ уклонение от общих молитв с народом и другие нарушения литургических установлений. Сопоставление этого последнего правила с одним из выше нами упомянутых как нельзя более подтверждает даже лексическое соответствие греческого τάξις с латинским дисциплина. Именно: антиохийское правило литургические беспорядки называет по гречески делом κατὰ τινα ἀταξίαν (Книга Правил: „по некоему уклонению от порядка“), а первый арелатский собор по-латыни выражается, что действовать против порядка значит contra disciplin. agere (прав. 6). Это говорится о беспорядках среди известной категории лиц, обязанных крещением, но поступавших по обычаям языческой жизни. Антиохийское правило 25-е представляет пример того, как вводится точно определенный порядок в область до этого времени существовавшую вне определенного порядка: дело идет об имущественной стороне церквей. Лаодикийского собора—27-е называет „оскорблением церковного порядка“ (ἐκκλησιαστικὴ τάξις), даже такое обстоятельство, как уношение на дом чего-нибудь от трапезы любви.
В памятниках Вселенских соборов одинаково с соборами поместными, термин „порядка» употреблялся для обозначения дисциплинарных действий, целей и т. п. как, например, на III Вселенском соборе—в применении к ведению судебного процесса о Диоскоре, в правилах Трульского — в применении к вопросу о единообразии
16) Ibid. VIII, 31.
— 119 —
поста, нарушавшемся в армянской стране (прав. 56, ср. прав. Соб. Двукр. 17). В пример же того, как идея дисциплины, как равносильная идее порядка, выражалась в действительных (практических) определениях соборов можно указать на следующее. Трульский собор „узнает“, что в некоторых местах „боголюбезнейшие предстоятели“ и по рукоположении своем не оставляют брачного сожития, „полагая тем претыкание и соблазн“, и, следовательно, причиняя вред ближнему. И вот собор, „имея великое попечение, дабы все устрояти к пользе (πρὸς ὠφέλειαν) порученных паств, признал за благо“, чтобы впредь этого не было. Но это, прибавляет собор, „не к отменению или превращению апостольского правила“ (запрещавшего изгонять жену под видом благочестия, апост. 5), но единственно „из попечения о преспеянии на лучшее“. Иначе сказать: прежний порядок отменяется для замены его другим, при данных условиях лучшим, именно потому лучшим, что им устранялся один из элементов беспорядка, притом „с выгодою для мало разумеющих“, как выразился Августин. Того же собора правило 31-е запрещает священнослужителям литургисать (в обширном смысле) или крестить в молитвенницах, находящихся внутри домов, без позволения местного епископа. Но спрашивается: потеряло ли бы свою силу крещение, совершенное в молитвенном доме? Никак, ибо крещение — не от места.
Последнее из правил нужно признать типичнейшим среди других правил, показывающих, что дисциплина равносильна порядку, при котором дело совершается лучше, нежели оно иногда совершается, будучи предоставлено делу случая. Нужно прибавить еще, что 59 правило того же собора, по-видимому, безусловно повторяет запрещение крестить в молитвенном доме. Но толкователи разумеют это так, что запрещается собственно без позволения епископа—дабы все это не имело вида самочинного сборища, следовательно, опять не в интересах сакраментальных, а единственно в интересах порядка, нарушение которого скорее возможно в последнем случае.—О соборах западных, то есть с официальным латинским языком, как мы также отчасти упоминали, должно сказать, что
— 120 —
дисциплина у них совершенно равнозначуща с порядком жизни. „Мы имели рассуждение о полезном распорядке нашей жизни“: так говорил о себе Арелатский собор 314 года. Карфагенский собор 398 года вере противополагает „церковный порядок“ и т. п.
Взгляд на дисциплину как на порядок в смысле ли общего свойства церковной жизни, или в смысле цели, чрез дисциплину достигаемой, развивался также в древности и богословами теоретиками, то есть писателями, коих писания не имели официального значения. Так мы уже знаем, что у Тертуллиана встречается мысль, что ношение венков на голове есть дело противное „естественному порядку“ (De coron. Cap. VII), disciplina naturalis, и что „сама природа указала надлежащее употребление цветов, и потому ношение венков на голове должно почитать запрещенным не религией, а предписанием природы“. Когда он же говорит, что „дисциплина управляет человеком“ (discipt. homin. gubernat); то это, конечно, указывает на порядок как цель, дисциплиною достигаемую. Сочетание понятия дисциплины с понятием „древняя“ (pristina) явно обозначает мысль о порядке древнем по сравнению с порядком новым. Тоже он хотел обозначить выражением: „особенная христианская дисциплина“. Эту особенную (propria) дисциплину христиан, в смысле порядка исключительно свойственного христианам, он видит, например, в моногамии. Признавая, как мы знаем, дисциплину предметом установления (institutionis) в противоположность вере, как имеющей своим источником единственно Откровение, Тертуллиан, конечно, подразумевает тоже самое,—что установление в Церкви дисциплины имеет целью достижений известного порядка, „дисциплина Божия“ у него обозначает: порядок, установленный Богом; accepta а Christo disciplina он противополагает дисциплине ex suo arbitrio, порядок, данный Господом— порядку от своего произволения. Даже порядок чисто государственный Тертуллиан называет „дисциплиной страны“ (Аполог. § 6) 17). должно отметить также случай явной
17) Сравн. также discipl. orandi, порядок установленный для совершения молитвы.
— 121 —
замены слова порядок словом observatio, а это последнее, в свою очередь, служит для выражения понятия дисциплины. Так все учение о процессе преподания и принятия крещения в церкви христианской Тертуллиан называет учением о том, „что наблюдается при преподании и принятии крещения“ (de observiatione dandi et acciepiendi baptismum) 18), как и вообще, нужно заметит, observatio есть довольно древний термин для выражение какого-либо факта из области существующего порядка. — Из писателей до-никейских в этом же смысле порядка дисциплина понимается еще у Оригена и Киприана. Говоря о том месте Евангелия Мф. XVIII, 15—17, которое, как известно, считается основоположением дисциплинарного суда в Церкви, Ориген рассуждает: „евангельское правило является совершеннее (ветхозаветного) в том отношении, что установляет (иной по сравнению с ветхозаветным) способ обнаружения греха и (иную) дисциплину в отношении к согрешившему. Ибо не требует того, чтобы ты, когда увидишь грех брата твоего, тотчас же и объявил о грехе, что было бы делом но исправляющего, а скорее бесславящего“. „Часто бывает, что желающий исполнить заповедь (эту, об обличении согрешившего), представляется клеветником, если доносит Церкви о преступлении, а свидетелей не представляет. Чтобы этого не случалось, для этого и установлена такая дисциплина по отношению к согрешающим, какая, дается в указанных словах Господа“ 19). Этот „образ обнаружения греха“ (modns indicandi peccati) Ориген в другом случае называет порядком (ordo), правилом действия в тех обстоятельствах, когда усматривается, что брат согрешает 20). Понимание существа дисциплины Киприаном обнаруживается уже в том, что,
18) Migne II. 1218.
19) Орр. Orig. edit. Lomm. p. 200. В другом случае Ориген выражается: „апостол грозит палицею тем, кто нарушает благочиние“ (disciplinam). Ibid. t. XI. p. 291.
20) In Levit, hom. III. 2. То же самое по отношению к церкви Ветхозаветной. „Мы имеем законы праздников, и посему теперь тщательнее исследуем, каков был порядок (ordo) празднеств, чтобы из этого порядка и из обрядов (ritus) жертвоприношений узнать, каким образом каждый в своих действиях и в своем поведении может уготовать празднество Господу», и проч. In Numer. ХXIII, 3.
122
как мы упоминали, по Киприану принцип дисциплины есть: изыскание лучшего и полезнейшего — на основании рассуждения что именно таково и что этому требованию в данное время удовлетворяет. В споре с епископом Римским о крещении еретиков и во многих своих письмах, в ответ на желание как его собственных сторонников, так и римского папы доказывать, будто одна из двух различных дисциплин непременно будет неудовлетворительной или (в своем смысле) ложной, Киприан всегда неизменно доказывал, что вопросы, подобные спорному, как вопросы исключительно порядка, могут существовать двойственно: не только оба порядка могут быть хороши и потому приняты, но может быть принят еще и некоторый третий порядок, если он полезнее двух прочих (о чем подробнее сейчас ниже).—Из писателей после-никейских понятие о порядке, как свойстве всей жизни в церкви, встречается у св. Григория Богослова,— причем ясное дело, что порядок в церкви совершенно равпозначащ понятию дисциплины. В слове о соблюдении доброго порядка в собеседовании Св. Григорий указывает, что порядок есть как бы душа всего существующего и он же есть свойство Христовой Церкви, и потому—должно уважать и соблюдать порядок в Церкви, по требованию которого и бывает то, что „один учит, другой учится“, „иной делает добро собственными руками, чтобы подать требующему“ и т. п. Порядок есть матерь и ограждение всему существующему. Но — „и в порядке никто да не будет законнее закона, ни прямее правила, ни выше заповеди“: припомним отношение церкви к произвольному усилению поста и к отягчению средств, служащих и назначаемых к порабощению плоти духу. И во всяком деле человеческом, по мысли св. Григория, существует своя дисциплина (ср. Оригенову discipl. naturalis), выражающаяся в том факте, что не у всех членов один и тот же образ действования. „Порядок и в церквах распределен так, чтобы одни были пасомые, а другие пастыри, для устройства и пользы целого“ и пр. 21). У Епи-
21) Слово „о соблюдении нового порядка в собеседовании“ ч. III.— Митр. Филарет, по употреблявший почтя чужеязычных слов для бого-
— 123 —
фания Кипрского, как мы знаем, дисциплина обозначается, как полития; но по существу эта полития трактуется также как церковно-общественный порядок, общественное благоустройство. Епифаний, например, рассуждает о посте монтанистов, что они установляли новые посты не ради благоустройства (οὐκ ἔνεκα πολιτείας), но потому что считали скверным сотворенное Богом, то есть пищу. Он же упоминает о должностях, учрежденных в Церкви для охранения благочиния (εὐταξίας).
По если здесь достаточно твердо установлено нами, что в воззрениях церкви на существо дисциплины всегда господствовала та идея, что существо дисциплины выражается в порядке, пли—что дисциплина есть порядок: то, как было замечено, дополнительным к этому вопросом будет: какой порядок достигается церковью в дисциплине: порядок как украшение, следовательно, до некоторой степени порядок самоцельный, или порядок пользы, следовательно, порядок служебный? Различие между тем ц другим не составляет собою предмета, требующего особой речи; ибо известно, что существует много порядков, в которых от перемещения двух отдельных звеньев никто ничего ни приобретает, ни теряет, но нарушение порядка бывает неприятно потому только, что оно не привычно. Мы уже сказали, что идея порядка в смысле благолепия, порядка, удовлетворяющего эту последнюю потребность, была, конечно, не чужда церкви. Из многих фактов, свидетельствующих о сем, укажем на то, что церковь нередко поступала во многих делах по началу единообразия, которое, конечно, есть самое первоначальное выражение идеи красоты. О единообразии в дне празднования Пасхи мы встречаем такие рассуждения в_ древности: „общим мнением (на первом Вселенском
словской терминологии, в обозначении существа и свойств дисциплины был близок к Св. Григорию Богослову. Так, в одной из проповедей, изложив наставление для тех, кто хочет пользоваться споспешествующею молитвою ближних и всей церкви, Филарет обозначает это наставление именем ,,порядка действования в молитве“, „законов общественного духа молитвы». „Кто по подчиняется сим законам, не обращает внимания на сей порядок», тот напрасно будет жаловаться на скудость плодов молитвы. Слов., изд. 1848, 1, 304.
—124-
соборе) признано за благо всем христианам, в какой бы стране они ни жили, совершать спасительный праздник Пасхи в один и тот же день. Ибо, что может быть прекраснее и торжественнее, когда праздник, вселяющий в нас надежду бессмертия, совершается всеми неизменно по одному чину и установленным порядкам“ и проч. (Ср. выше мнение Златоуста). Но тем не менее нужно будет утверждать, что главным началом установления того или другого порядка в церкви было начало пользы или необходимости: души человеческие, для которых и предназначается порядок и на которых должно было отражаться то или другое требование церкви, были слишком драгоценным предметом, чтобы дисциплинарные требования или установления могли быть соображаемы единственно с потребностями симметрии или единообразия! А отсюда и достижение лучшего порядка понимаемо било собственно как достижение порядка только наиболее соответствующего своим целям, но не порядка, так сказать, наибольшей красоты. Ибо никогда не упускалось из виду конечная цель всей дисциплины: содействие жизни по вере. Мысль, что такой именно порядок был первостепенной задачей церковной дисциплины, доказывается уже тем, что к понятию дисциплины в древности было весьма соприкосновенно такое понятие как salus ecclesiastica, во имя которого нередко в древности слышался призыв к соблюдению порядка и к нерушимости церковных установлений. Понятным становится также и очень раннее употребление, при разных недоумениях или спорах, того аргумента, который выражается, как ratio disciplinae, интерес дисциплины, потребности дисциплины, соображения дисциплинарные и т. п., как можно передать этот термин. Подобно тому, как у юристов было ratio juris (юридическая необходимость), без которого но мыслилось возможным устройство и существование общества человеческого, иначе—признавались некоторые аксиомы, лежащие в основе бытия человеческого общества: таково же было в церкви и признавалось значение ratio disciplinae (выражение, употребляемое, например, Киприаном),—вследствие чего дисциплина называлась, как мы говорили, спасительным кормилом во время бури, как охраняющая
125 —
salus ecclesiae, равно как и на оборот — тот кто действовал противно дисциплине, почитался противодействующим saluti ecclesiae. С точки зрения того, что дисциплина в церкви христианской не есть нечто самодовлеющее, в древности нередко оценивалось как самая ревность по охранению дисциплины, так иногда и нарушение дисциплины. У историка Евсевия читаем: некто Алкивиад принял на себя подвиг строгого поста. Но когда оказалось, что подвиг его был не полезен для братий („своим образом жизни он подавал соблазн“), он для пользы братий отказался от принятого на себя подвига. И вот усвоенный порядок приносится в жертву ради большей пользы для других, ожидаемой от изменения порядка. Как известно, некогда возникал вопрос о падших в том смысле, как относиться к тем из них, кои приняты в общение с церковью не лицами иерархии, а исповедниками? Основной порядок церкви явственно нарушался; по трудно было бы утверждать, чтобы не было пользы и в том, что раскаявшиеся падшие были принимаемы хотя вне порядка или вне установленной нормы. Поэтому естественно, что св. дионисий Александрийский задавался вопросом, как поступить: „остаться ли в согласии и единомыслии“ с нарушителями дисциплины? „Или признать суд не справедливым“? Иначе—„оскорбители милосердие“ или „восстановить порядок?“—вот какие вопросы возникали, когда приходилось определить значение нарушений в области дисциплины. С точки зрения начала пользы предметы, по-видимому, но заслуживающие даже того, чтобы уделять им внимание, в истории церкви привлекали таковое, если они могли иметь какое-либо отношение к порядкам христианской жизни. Что такое, например, „идоложертвенное“, если идол есть ничто? И что особенного может значить какое-либо “яство, если „всякое произведение природы, как дар Божий, но оскверняется никаким употреблением?“ рассуждал древний апологет. Однако же христиане но вкушали идоложертвенного и видели в этом, по выражению того же апологета, „доказательство свободы христианской“,—потому именно, что здесь, в вещах безразличных, следовать известному порядку требовала общая польза, ради которой, в свою очередь, создавался
126 —
единообразный способ действий, то есть, порядок. „Что мы но едим жертвенного мяса,—рассуждал апологет, это но есть выражение страха, а доказательство нашей свободы“ 22), которая ставит вред или пользу других выше сознания правоты своих действий, именно: „мы воздерживаемся от языческих жертв (т. е. от безразличного употребления в пищу того, что пред этим служило у язычников жертвою), чтобы кто не подумал, что мы уступаем демонам, которым те были принесены, или стыдимся нашей религии“: вот причина этому! Иначе сказать: такое, по-видимому, не имеющее важных оснований ограничение себя полезно в интересах других соображений, а отсюда является введение известного порядка, нормы и в область, по-видимому, совершенно безразличную. Что полезность была таким началом, которое в церковной дисциплине принимаемо было во внимание, это еще явственнее проходит во всей последующей истории дисциплинарной теории. Тертуллиан некоторые определения дисциплины называет прямо „средствами“ (remedia), а средства, разумеется, оцениваются, по крайней мере, прежде всего, по степени их полезности, а не красоты. Вопрос о ношении венка (de corona) Тертуллиан хочет решить прежде всего чрез снесение его с „естественной дисциплиной“, или с законами природы (de coron, с. 5). И он, действительно, решает вопрос на основании того, требует ли сама природа ношения на голове венка из цвет. в, или же она указывает на какое-либо другое употребление цветов,—и признавая последнее, заключает, что венок из цветов, надетый на голову, есть своего рода non sens! Следовательно, бесполезное употребление вещи, по сравнению с свойствами ее природы, по Тертуллиану, есть дело, противное даже натуральному порядку жизни. В сочинении о посте (de jejun. 13) совокупность тех средств и того образа действования, при которых достигается состояние трезвенности и воздержания, он называет discipl. sobrietatis et abstinentiae, а пост, сухоястия и стояния суть remedia ad exercendam sobrietatis et adstinentiae dis ciplinam, иначе сказать-это дисциплина полезная для, до
22) Минуция Феликса, Октавий § 28.
— 127 —
стижения известной цели. Опять по вопросу о ношении венка Тертуллиан спрашивает своих противников: „ужели ты не признаешь, что позволительно принимаешь и нечто (новое), лишь бы это было приятно Богу, сообразно с дисциплиной и полезно для спасения, когда Сам Господь говорит: зачем вы и по самим себе не судите, чему быт должно (Лук. XII, 57)“? Иным выражением того же принципа, что порядок церкви должен быть не столько орнаментальный, сколько утилитарный, было и другое начало, которое можно проследить и о котором мы упоминали. Это-что во всех случаях и во всех областях христианской жизни желателен не только порядок вообще, но и порядок лучший в смысле соответствия его своим целям, следовательно, порядок полезнейший. В этом отношении и мнения Тертуллиана уже сделавшегося монтанистом оказываются согласными со всеми кафолическими тенденциями. Ссылаясь на Иоан. XVI, 12, Тертуллиан находит, как мы знаем, что усоворшение дисциплины есть одна из тех целей, для которых обещан Дух Утешитель. Оп говорит: „Господь предвозвестил о духе Утешителе. Но в чем будет действие (administratio) Духа Утешителя, как не в том, чтобы дисциплина получала (надлежащее) направление, чтобы все совершалось к лучшему“ Будем ли мы здесь переводить слово дисциплина, или нет; но из этих выражений явствует, что из факта постоянного пребывания с церковью духа Утешителя, Тертуллиан выводит прежде всего возможность усовершимости всего того, что составляет область дисциплины. Эта мысль Тертуллиана особенно иллюстрируется как самым предметом, который и составляет содержание его трактата, в котором он высказал эту мысль, именно de virginibus velandis, так и поводом, по которому это сочинение написано. Этим поводом к сочинению послужил обычай в некоторых церквах как на западе, так еще более на востоке, по которому девицы, когда они находятся в церкви, были с покрывалом. Но это было соблюдаемо не всеми; многие христианские девицы ходили и с открытой головой: обязательно
23) Письма по русск. пер. 50, 43. Migne t. III, р. 408, 787 и др.
— 128 —
покрывались только замужние женщины. Тертуллиан с своей стороны находил, что порядок или обычай покровения девиц будет лучше, не запрещен в священном Писании, подкрепляется многими примерами святых и наконец в пользу этого же порядка указывают самые опасности, которым подвергаются девицы непокровенные. Словом—вопрос о том, какой порядок должен быт признан наилучшим и наицелесообразнейшим со всяких точек зрения, и составляет собою, как характерно Тертуллиан выразился, вопрос disciplinae velaminis, или иначе: вопрос об употреблении покрывала.—Точно такое мы видели, что и у Киприана принципом дисциплины полагалось изыскание лучшего и полезнейшего. В письме к Квинту Киприан рассуждает: „никто (из епископов) не должен упрямо отстаивать то, чего он сам держится (в отношении к вопросам дисциплинарного свойства), но—если ему будет предложено (другим кем) что-либо лучшее и полезнейшее, всякий должен“ благодушно смотреть на предложение. И вообще, по мысли Киприана, желание порядка полезнейшего делает законным такое положение: „если хранится нераздельным таинство т. е. вера кафолической церкви, то каждый епископ имеет право действовать по своему усмотрению“ в отношении ко всему, что составляет вопрос дисциплины 23). Но с другой стороны у Киприана не считается противным дисциплине беспорядком и применение такого правила: что раз допущено как дело полезное; то во имя самого факта существования должно быть и удерживаемо. Ибо иногда факт существования составляет сам по себе лучшее доказательство того, что известная дисциплина не имеет нужды в изменениях. Следовательно, насколько порядок у совершим в интересах ожидаемой пользы, настолько он требует и охранительного отношения к себе 24). По взгляду Августина принципом дисциплины должна быть действительная польза ее, хотя бы даже в ущерб последовательности. Августин говорил: „относительно того, что в разных церквах соблюдается по-разному, должно быть принято следующее
24) Нельзя не согласиться, что обычно употребляемая в спорах по вопросам дисциплины ссылка на практику предшественников, рассматриваемая в качестве аргумента, имеет силу именно с этой стороны.
129 —
спасительное правило (Valuberrima regula); все не противное вере и добрым нравам, но если оно заключает в себе что-либо споспешествующее доброй жизни: все таковое, где бы мы ни усмотрели, где бы не услышали о нем, мы не только не должны порицать (потому, что оно разнится от наших порядков), но можем даже и сами следовать сему, — если только, вследствие слабости некоторых, не окажется, что отсюда (из этого следования чужому, самому по себе хорошему, установлению или обычаю) выходит более вреда“, сопровождающего всякую перемену, нежели пользы, ожидаемой от введения лучшего установления или порядка 25). Вообще, по Августину, церкви чуждо как то, что он называет indisciplinatio, так чуждо и упорствование в порядке, как скоро польза требует изменения данного порядка на иной.—И эта теория многократно была применяема церковью на деле: всякий порядок соизмерялся и ценился с точки зрения того, насколько он был полезным порядком, а не исключительно с точки зрения того, насколько он мог быть и был нерушимым порядком: дисциплина полезна для спасения, но еще не от нее зависит спасение. Поэтому-то дисциплине иногда, по мысли Василия Великого, как известно, во многих отношениях сторонника благолепия, „нужно сообразоваться с слабостью самых слабых и все сообразовать с их немощностью и (даже, ср. Августина) с правами их разума“. А отсюда и многочисленные случаи, когда соблюдение требований дисциплины поставляемо было в зависимость от частных условий, в данном случае существующих. На-
25) Epist. ad Jannuar. Орр. t. II, edit, 1641; pp. 65, 186. Нужно заметить, что оговорка Августина касательно опасности при изменении дисциплины, возможной вследствие слабости (подразумевается в разумении) некоторых, имеется возможное значение, ибо косвенно показывает все то же,—что лучшая (идеальная) дисциплина не есть только дисциплина единообразия, симметрии и внешнего благолепия, а вместе и дисциплина такая, которая не создает с какой-либо стороны затруднений. Поэтому оговорки, подобные Августиновой, встречаются и у других древних писателей. Так, папа Иннокентий I, хотя и преувеличивал дело, но справедливо рассуждал, что при чрезмерном разнообразии дисциплины может быть соблазн для народа, непонимающего обыкновенно причин разнообразия и, должно прибавить, не всегда способного различить веру от дисциплины.
130 —
пример, пост, конечно, очень рано в истории стал предметом дисциплины. Но, однако, в какой мере строго была проводима в церкви дисциплина поста? В ответ на это можно сказать, что в церкви не было культа поста, а был пост как дисциплинарное средство, значимость которого заключалась далеко не в нем самом, как известном физическом состоянии, отчего и заслуга поста самого в себе признавалась относительною. Ибо мы видели, что в истории был отмечен похвалою человек, отказавшийся от разборчивости в пище „ради пользы братии“, следовательно, человек, отказавшийся от строгого поста ради избежания соблазна, хотя лично он чувствовал расположение к посту. Апостольские Постановления, предписывая в страстную седмицу с понедельника до пятницы употреблять в пищу только хлеб, соль и овощи, прибавляют: „в пятницу же и субботу совершенно поститесь, кто только может (οἷς δύναμις πρόσεατι), а если кто не может поститься два дня к ряду, тот пусть соблюдает по крайней мере субботу“ (кн. V, 18). Кроме того, в древних определениях обыкновенно оговариваются немощи тела как законное основание ослабления или прекращения поста 26). Тимофей Александрийский рассуждает: „пост установлен для усмирения нашего тела. Итак, когда тело находится в смирении и немощи“, то нет надобности в посте, и потому он находит, что женщину, родившую на страстной неделе, обязывать к общему посту не должно. Эти изъятия в целях согласования дисциплины поста с индивидуальными условиями постящегося с древних времен одинаково принимались как на востоке, так и на западе. В начале четвертого века Эльвирский собор делал исключение для двух месяцев в году (июля и августа) в том смысле, что посты, случающиеся в эти месяцы, не имели так называемого superpositio, т. е. не состояли в абсолютном невкушении пищи, и причиною этого было: infirmitas quorumdum, которая обусловливалась климатическими условиями Испании в эти месяцы 27). Ав-
26) Ан. 69. Гангр. 19.
27) Hefele, Ooncil. I, s. 163. Правило это понимается и иначе, в зависимости от того, что принимать под оловом superpositio. См. Eisenmayr, Entwickel. dor kirchlich. Pasten disciplin. Münch. 1877, s. 70. Пo-
— 131 —
густин к причинам, дающим право на ослабление поста, прибавляет даже и известный образ жизни: „кто не может воздерживаться от пищи по причине какой-нибудь необходимости своего тела и вследствие образа своей жизни (consuetudo), тот пусть отдаст бедному то, что у себя не истрачивает“. Один из западных соборов конца VIII столетия подтверждая клирикам соблюдение в среду и пятницу воздержание от мяса и вина, допускает исключение, сверх телесных болезней, еще путешествие и приезд друга 28). Хотя указания на последнее определение мы не встречаем на востоке; но едва ли это обозначает, что западное определение не могло быть и мыслимо на востоке. Известен, например, рассказ Созомена о Спиридоне Тримифунтском (Ист. кн. I, гл. 11), который, не имея ничего для угощения приехавшего во время поста друга, кроме свиного мяса, предложил эту последнюю снедь с замечанием, что святое Писание учит нас: „чистому все чисто“.—Взгляд на дисциплину поста, подчинение которой полезно бывает лишь при известных условиях, резко выражен и у Златоуста 29), откуда, ко-
следний автор думает, что правило имеет такой смысл: испанская Церковь каждый месяц года строго соблюдала пост в течении одной недели; принимая же во внимание нестерпимые жары и лихорадки, господствовавшие в указанные месяцы, собор отменил эти посты в указанный период года. Но, может быть, собор подтверждает только неопустительность поста в прочие недели года, а исключение недель Июля и Августа было уже и до него.
28) Hefele, ibid. В. III, s. 862.
29) „Везде потребна жизнь и явление дел“, говорит Златоуст. „Что же составляет жизнь нашу? Явление ли -чудес или заботливость о благоустройстве поведения?“ Очевидно, что последнее. „Жизнью же называй не то, когда ты постишься, когда постилаешь вретище и пепел; но то, когда избыточествуешь в любви, даешь хлеб неимущему“ и проч. „Такой урок преподан нам от Христа, ибо Он сказал: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, Итак, не говорит, „поститесь потому, что я постился хотя мог бы упомянуть о сорокадневном посте; но умалчивая о сем указывает только, что (Он) кроток есть и смирен сердцем. И, посылая учеников, не сказал: поститесь, но—ядите предлагаемое вам. Говорю же сие не в охуждение поста: да не будет сего! Напротив, весьма одобряю ноет. Скорблю только, когда вы, презрев все прочие добродетели, достаточною для вашего спасения почитаете ту, которая занимает последнее место в чине добродетелей. Важнейшие же из них суть; любовь, кротость и милостыня, превосхо-
132 —
нечно, нельзя не заключать и о том, как Златоуст мог понимать значение точных определений относительно времени и способов лощения, указуемых церковными правилами. Что касается до разнообразия поста, нарушающего, конечно, принцип внешнего единства или церковного декорума, а для немощных в разумении могущего даже служить предметом смущения (ср. мнение Василия Великого); то Августин одному из таковых смутившихся (именно Казулану, обеспокоенному тем, что в Африке одни постились в субботу, другие нет) указал на надежный принцип, которому в известных случаях надлежит следовать: это—не противление усмотрению и практике местного епископа, причем, декоруму и единообразию естественно отводится меньшее место, по сравнению с началом пользы.
Но это предпочтение, оказываемое потребностям пользы по сравнению с потребностями чистого единообразия, выразилось, разумеется, не в применении к одному только вопросу о посте и не в постановлениях только западных соборов, а и в применении ко многим другим вопросам, равно как и в канонах греческого востока. Примеры этого последнего рода можно видеть в следующем. Антиохийского собора правило 23-е представляет факт того, что „прежнее определение“ смягчается „новым определением“ по вопросу о продолжительности епитимии для невольных убийц. 21-е правило того же собора представляет указание на то, как понималось в древности более полезное в дисциплине. Это именно: изыскивая нечто более снисходительное“ (подлинник: более человеколюбивое), собор сделал новое определение в покаянной дисциплине. Следовательно, в этой области полезнейшим может быть то направление к строгости (Ср.. Дионисия Александрийского),—то направление к снисхождению. Лаодикийский собор как будто бы без всякого повода издает запрещение: „никому не петь в церкви, кроме певцов канонических“ (прав. 15). Почему, однако, это так?
дящая даже девство.... И если хочешь сделаться равным Апостолам, довольно для тебя выполнить сию одну добродетель (милостыню), дабы ни в чем не быть скуднее Апостолов“, Бесед. на Еванг. Матф. 46. Русск. Пер. Москва 1864 г. Ч. II, стр. 298—299.
— 133 —
Ради пользы начавшей портиться гармонии напевов 30): пример того, что польза в дисциплине преследовалась и такая, которую можно назвать пользой благолепия, причем, однако, не нужно упускать из виду, что для этой последней не были жертвуемы другие интересы, если они могли приходить в соприкосновение. Относительно вселенских соборов в этом отношении можно сказать, что на Никейском соборе, как мы замечали, основанием установленного здесь единообразия в дне празднования Пасхи, сверх интересов декорума, была и такая мысль, что „тот порядок лучший и благоприличный, который соблюдают церкви“ западные и северные. Трульского собора правило 12-е в известном нам мотиве своего определения („польза порученных паств“) ссылается даже и на апостола, 13-е правило того же собора находит, что принятое в римской церкви правило о разлучении с женами лиц рукоположенных во пресвитера или диакона хотя, по-видимому, способствует достижению высшего совершенства, но в действительности оказывается только неполезным стеснением, или иначе — что правилом достигается один лишь декорум без действительной пользы. Правило 29-е дает пример того, как полезное в одно время может быть не признано таковым в другое. Именно, Карфагенский собор допускал принятие Евхаристии в день установления Евхаристии людьми уже ядшими. Трулльский собор не считает это дисциплинарной ошибкой: „святые отцы (карфагенские) может быть по некоторым местным причинам, полезным для церкви, учинили такое распоряжение“. Но так как во время Трульского собора пользы от такого распоряжения уже не виделось („ничто не побуждает оставите благоговейную строгость“, которую ослабили карфагенские отцы): то правило карфагенское Трульским собором было отменено.
30) Один из археологов об этом рассуждал: „это было временной мерой, имевшей целью восстановить поврежденную гармонию, но не то, чтобы уничтожить древнюю свободу народа“. Если же допустить, что канон настаивал и на чем-либо большем, то это было все-таки правилом нигде более (кроме Лаодикии) не имевшем силы, потому что в древности народ несомненно участвовал в псалмопении. Biugh. Origin. Vol. VI, p. 22.
134
III. Вопрос об изменяемости церковной дисциплины.
Дисциплина в церкви христианской не могла быть и не была на всем пространстве церковной истории совершенно неподвижною,—без количественных и без качественных изменений, как нечто однажды на всегда данное для хранения в одном и том же виде и объеме: в числе ее постоянных свойств было то, что не иначе можно назвать, как ее развитие. И это свойство дисциплины с очевидностью обнаруживалось всегда, с самого начала существования церкви. Не противно будет понятию об истинной церкви, „допускавшей это развитие со стороны дисциплины“ (преосв. Сильвестр), признавать, что и в будущей исторической жизни церкви окажутся необходимы дисциплинарные изменения, если только не предположить невозможного: — наступления, так сказать, омертвения жизнедеятельности церкви, или же если допустить, что все частные церкви, все возможные церкви будущего решительно не могут и не будут иметь никаких местных особенностей, требующих соответственного приспособления. В то же время — это развитие церкви со стороны дисциплины нельзя представлять себе так, как будто оно ранее совершалось и всегда может совершаться путем простого умножения количества определений дисциплинарных, то есть, введением в практику церкви новых определений без какого-либо изменения дисциплины существующей, и без изменения церковного строя в той его части, которая не составляла учреждения богоустановленного. Изменений дисциплины совершившихся в течении всей истории церкви, как факта, невозможно отрицать, и эти изменения, притом, как увидим, не были такими, что допуская их, или при них, церковь была безучастной зрительницей изменявшегося строя,—это изменения постепенные, незаметные, непроизвольные и непредотвратимые: нет, они часто совершались при прямом и непосредственном участии церковной власти, очевидно прилагавшей здесь ясно сознаваемое право. И право это счита-
— 135
лось одним из драгоценных прав церкви, дарованных ей в самом ее божественном установлении, обеспечивающих ее истинную свободу, содействующих достижению ее целей и охраняющих ее истинные интересы. Поэтому „новые каноны“ в церкви были и будут не свидетельством о произволе, по временам вкрадывавшемся будто бы в церковь, и не свидетельством изменения коренных начал ее существования, а выражением полноты жизни церкви,—жизни, которая выражается, между прочим, и в заботе церковной власти о соответствии дисциплины наличным потребностям верующих, живущих в постоянно, но конечно не в противность воле Провидения, изменяющихся внешних условиях, которые создают часто и новые вопросы, имеющие соприкосновение с вопросами чисто церковной жизни 1). Поэтому попытки некоторых католических ученых одной крайности, именно — принципиальному отрицанию всякой твердости в дисциплине (как это у протестантских обществ), противопоставить идею необходимости, так сказать, закрепления дисциплины чрез признание дисциплины первых веков не только в своем роде совершенною, и потому могущею служить образцом,
1) Русские богословы за немногими исключениями (одно из таковых будет указано: это преосв. Иоанна Соколов † 1869), не обнаруживали наклонности представлять дисциплину как нечто, и в прошедшем и в будущем, абсолютно и ни в каком случае неизменное. „Еще самими апостолами — говорил А. В. Горский—даны были некоторые правила, до устроения внешнего порядка церкви относящиеся. Но поелику ни внутреннее, ни внешнее состояние церкви не могло быть всегда одинаковым: то и устройство внешнего порядка церкви с течением времени требовало большей полноты и определенности“. Это достигалось в общих совещаниях и определяемых, вследствие тех, постановлениях соборов. — История церкви апостольской, стр. 395 (Прибавлен. к Творен. св. отц. ч. 31-ая). Ср. Сильвестра, учение о Церкви, Киев, 1872 г. стр. 35); Макария, Слова, изд. 1891 г., стр. 456 (приведено было прежде); Филарета, Собрание отзывов и мнений, т. VI, стр. 40.—Филарет видит одно из условий развития дисциплины уже в том, что дисциплина соизмеряется „с крепостью церкви" как общества христиан: что невозможно было требовать от христиан в одно время, то било требуемо во времена, „когда церковь прияла большую крепость“. У Филарета здесь имелась в виду только одна из разнообразных сторон дисциплины, именно, когда предмет ее составляет индивидуальная жизнь христианина. Но мысль Филарета приложима и к другим сторонам дисциплины общественной.
— 136
и единственно законною 2) для церкви всех времен, должны быть признаваемы следствием недостаточного разумения самого существа дисциплины: твердая дисциплина не исключает возможности нетождества дисциплины последующих веков с веками раннейшими: тождественны только задачи и цели дисциплины: охранение истинной веры и истинной нравственности и способствование достижению спасения (ибо оно достигается в земных условиях существования церкви и человека); средства же охранения— естественно разнообразились, почему законна будет и признавалась таковою всякая дисциплина, церковью данного времени признанная отвечающей своим целям, как это увидим далее 3).
И вопрос об изменяемости дисциплины был также предметом обсуждения древних христианских богословов. Сюда опять прежде всего нужно отнести рассуждения Тертуллиана. Они замечательны в том отношении, что склонившись окончательно на сторону
2) Из числа западных исповеданий изменяемость дисциплины, без отрицания ее важности, есть тезис настойчиво поддерживаемый так называемым галликанством, признанным выражением которого, как известно, служит: declaratio oleri gallicam, 1682. Тезис, сюда относящийся, выражен так: „в кафолической церкви значение веры и дисциплины — не одно и то же. Во всех (частных) церквах вера одна и та же, и она не подлежит никакому изменению, никакой реформе. По отношению же к дисциплине иначе:—она может разниться и в действительности разнилась в отдельных церквах, не причиняя сим вреда единству веры и общения» и т. д. См. по изданию Dupin'а, р. 286.
3) Среди русских богословов, как было замечено, сильная тенденция к тому, чтобы закрепить дисциплину, замечается у преосв. Иоанна Смоленского, в курсе церковного законоведения. Правда, он не отрицает нрава поместных церквей на издание своих дисциплинарных постановлений (например, в суждениях о 2-ом правиле VІ-го Вселенского собора), но все право церкви времени позднейшего по отношению к дисциплине сводит исключительно к праву дополнения древней дисциплины. В какой же однако мере должна быть признана обязательной древняя дисциплина в случаях, если бы буквальное применение ее теперь не оказалось полезным или даже возможным?—В этом вопросе Иоанн, кажется, близок к крайним католическим писателям, и это особенно выражается в вопросе о монашестве епископов, где наш канонист прибегает даже к тому положению, будто обычай в принятом порядке церковной жизни даже сильнее писанных (т. е. унаследованных от древней церкви) правил! О воззрениях Иоанна см. также далее».
137
монтанизма и полемизируя уже против кафоликов, отвергавших дисциплину монтанизма, основываемую будто бы на непосредственных внушениях Духа Утешителя, Тертуллиан в этой полемике защищал монтанистическую дисциплину между прочим тем, что доказывал и право и необходимость для церкви постоянного усовершения дисциплины, и этим хотел оправдать те нововведения в дисциплине, которые кафолики усматривали в некоторых обычаях вводимых, или по крайней мере защищаемых, монтанистами, как-то: в моногамии, в особых постах и некоторых других. Но такая теория, конечно, не была создана лично Тертуллианом—монтанистом: им она была только, так сказать, утилизирована: ибо все аргументы его за защищаемую им дисциплину монтанизма не заключают в себе ничего непримиримого с чисто кафолической точки зрения, за исключением, разумеется, той мысли, что руководствование церкви Духом Утешителем будто совершается чрез Монтана и выражается в его откровениях. Так мы знаем, что Тертуллиан особенное свойство веры по сравнению с дисциплиной видел именно в том, что первая есть immobilis et irreformabilis; „те же предметы, кои касаются дисциплины и образа жизни 4), могут допускать некоторый вид обновления и исправления под непрерывным воздействием благодати“, — конечно, если оставить язык монтанистических фантазий, той благодати, которая дарована церкви и пребудет у нее до конца ее земного существования. Мы упоминали также, что Тертуллиан отличием церкви кафолической от еретических обществ ставил именно то, что в церкви есть твердая дисциплина (pressior disciplina), тогда как еретическия общества склонялись к теории и практике mollissimae, laxissimae disciplinae. Но твердая дисциплина, по Тертуллиану, не исключала „новой дисциплины“. Как известно, в числе возражений против моногамии, в смысле единственности дозволенного брака, проповедуемой монтанистами, было то, что это,—говорили, —есть новая и отяготитель-
4) В подлиннике это выражение читается: lege fidei manente, caetera jam disciplinae et conversationis admittunt novitatem correctionis, Migne, p. 889, B.
— 138 —
ная дисциплина, — новая в смысле того, что она не имеет оснований для себя в Св. Писании. Но этому возражению Тертуллиан с своей стороны противопоставляет такое соображение: пусть это есть в самом деле новая дисциплина. Но ужели дело церкви, дело Божие, когда-нибудь может как бы приостановиться в своей жизни и перестанет усовершаться, когда для этого усовершения послан Дух Святой? Напротив—говорил Тертуллиан—„для того Господь послал духа Утешителя, чтобы при содействии Его дисциплина постепенно была приводима к совершенству“ (ut ad perfectum adduceretur disciplina), так как человеческое малосилие (иначе: церковь, если принять ее состоящей из людей, предоставленных лишь самим себе) не может все привести раз навсегда к надлежащему состоянию 3). Поэтому руководящий церковью дух Утешитель „будет совершать и то, что может быть признаваемо и новым, как никогда прежде но указанное, как может быть и несколько отягчительным“, как несогласное с привычными слабостями человечества. И вообще, Тертуллиан приходит к выводу, что столь правдоподобный, по-видимому, принцип непозволительности новшества, ложно применяя который, как думал Тертуллиан, противники монтанизма считают монтанистические нововведения в дисциплине еретическими, этот принцип не может быть признан дисциплинарной аксиомой в церкви, иначе сказать „новшество“ само по себе не есть еще доказательство беззаконности. „Вы утверждаете, говорил он, обращаясь к своим противникам, что церковные торжества (solemnia) установлены или Писаниями нашей веры или преданием от предков, и что ничего более в области преданного (nihil observationis) не должно будто бы прибавлять по причине непозволительности новости; стойте на этой ступени, если можете! Я же скажу вам, что вы нарушаете свой собственный закон, сами преступая за черту преданного, поелику вы совершаете то, что не установлено в Писании. Чему же это подобно, когда ты предоставляешь своему произволению то, что не предоставляешь власти Бо-
5) De virgin. Veland. с. 1. Migne, ibid. 889.
— 139 —
жией 6)“? То есть,—по теории Тертуллиана оставаться на одной точке состояния дисциплины невозможно, этого в действительности нет в церкви и новость, в смысле введения чего-либо доселе не употреблявшегося, не может быть признана сама по себе вредным началом или чем-то несовместимым с прочими истинными началами существования церкви Христовой. Но вместе с признанием естественной необходимости развития дисциплины Тертуллиан признавал и необходимость известного консерватизма по отношению к установленной дисциплине, а не одной беспрерывной смены. Это видно из следующего его замечания: „Древнее соблюдение (observatio) должно быть удерживаемо, хотя бы никакое Писание его не определило, хотя бы никакой обычай не утвердил, лишь бы только соблюдение было предано издавна 7)“. Изменение и совершенствование дисциплины Тертуллиан допускал в такой мере, что даже дисциплинарные определения Нового Завета понимал как данные лишь pro conditione temporum, применительно к условиям той жизни, которая окружала новозаветных писателей, и потому относил эти предписания к области изменяемых. Такая именно мысль высказана им опять в его защите монтанистической „дисциплины Моногамии“. Когда ему указывали на то, что даже само Писание не воспретило ведь вступать во второй брак и указывали на Апостола Павла, который рассуждал о браке, но не высказал неодобрения второму браку, то Тертуллиан отвечал, что если Апостол и не запретил второй брак, то здесь он поступил так же, как поступал и в других случаях, когда ему приходилось что-либо делать вопреки своему убеждению, но делал в ожидании большей пользы при данных обстоятельствах от ослабления строгости закона, нежели от его соблюдения; и Тертуллиан ссылается на обрезание Тимофея как на один из других примеров того, что Апостол часто поступал как требовали обстоятельства, дабы для всех быть всем. Но тем не менее—прибавляет Тертуллиан— „иное дело снисхождение и иное повеление“. Аналогию по-
6) De jejun. конец 13 и начало 14 глав. Migne II, 971.
7) De jejun. с. 10.
— 140
ведения Апостола в отношении к дисциплинарным вопросам Тертуллиан усматривал в Моисее, который позволил развод по жестокосердию людей: „так и Апостол дал сообразное с временем позволение второго брака ради немощи плоти“. Ио —говорит Тертуллиан— „если Христос отменил, то, что позволил Моисей: то почему невозможно, чтобы дух Утешитель воспретил то, что по снисхождению допускал Павел“? В этом и будет выражение у совершения того, что существовало в дисциплине единственно pro conditione temporum 8).
Из других до-никейских писателей укажем на Иринея.— Мы знаем уже, что у Иринея есть свидетельство того, как относились к вопросу о дисциплине многочисленные еретики первых веков. Здесь именно было то, что характеризуется как полный разброд в понятиях, начиная принципиальным отрицанием необходимости какой бы то ни было дисциплины до признания обязательности иудейской дисциплины. Например последователи Василида „почитали себя превосходнее Петра и Павла и прочих апостолов“: следовательно не могло быть и речи о признании дисциплины апостольской в качестве прототипа для последующего времени; некоторые другие—„отрицали спасение плоти, отвергали ее возрождение“. Этим последним началом, очевидно, упразднялась целая обширная область дисциплины, касающаяся телесных, вообще внешних, условий бытия человека как христианина. Иные учили, что „таинства не должно совершать при помощи тварей видимых“: следоват. сразу отстраняли от всякого обсуждения все вопросы, которые можно назвать вопросами дисциплины таинств. И вообще некоторые из еретичествующих утверждали, что они—„непременно спасутся, но не посредством каких-то дел“: а это составляет полное отрицание даже потребности в какой-нибудь дисциплине! (см. также что выше было замечено касательно безразличного отношения еретиков к идоложертвенному). Но зато замечалось и обратное направление: иные „старались ввести в дело веры мелочность и тонкость вопросов“, а эвиониты „соблюдали обряды закона и образ жизни иудеев“:
8) De monag. 14, Migne, II, 949.
— 141 —
это есть то, что, как мы указывали, Тертуллиан называл disciplina legalis, которой было подчинено каждое движение иудея.—Что же думал об этим Ириней - несомненно один из величайших богословов Церкви? С одной стороны он категорически утверждал: многие вопросы должны быть смиренно предоставлены Богу, ибо между ними есть таковые, „которых нам никакое Писание не открывает“; но мы „веру нашу (основание спасения) соблюдем“ одинаково и в том случае, „если некоторые вопросы предоставим Богу“. Но с другой стороны—по учению Иринея—у всех принадлежащих к церкви не только одна вера, но они „соблюдают одни и те-же заповеди и содержат один и тот же образ устройства церкви“. Что же за единство в образе устройства Церкви: есть-ли оно, это единство, нечто не допускающее самой возможности возникновения когда-либо и каких-либо вопросов, как и возникновения новых решений их? Нет, Ириней не только допускал возможность возникновения таких вопросов и указывал должный способ решения их, но он показал пример и того, что образ устройства Церкви Христовой не противоречит тому, чтобы вопросы дисциплины решались в иных случаях применительно к частным обстоятельствам и условиям, иначе показал, что дисциплина Церкви в известных пределах не только разнообразится, но даже «и нужды пет в том, чтобы она была приведена к единообразию, или в своем роде к неподвижности. В первом отношении, т. е. в отношении к возникновению новых вопросов, Ириней учил, что при всяком возникающем споре „должно искать у древнейших церквей, что есть достоверного и ясного касательно возникшего вопроса“; следовательно изменение дисциплины может последовать и от одного приведения к ясности вопроса, сообразно данным для сего, сохраненным древнейшими церквами. Во втором отношении— известен образ поведения Иринея в споре о праздновании Пасхи, в каковом споре обращает на себя внимание ясно выразившееся его нежелание признать за кем-нибудь право безапелляционного решения подобных вопросов и притом единожды на всегда одинаково. — Об Оригене в рассматриваемом теперь отношении должно
— 142 —
сказать следующее: если у Оригена нет прямых речей о развитии дисциплины в смысле развития исторического, о развитии параллельно движению времен и изменению условий бытия Церкви внешних и внутренних, вообще — так, как это развитие понималось у других и понимается теперь: то все-таки при сопоставлении его разнообразных рассуждений, несомненно становится, что по его воззрению дисциплина должна обладать свойством развития в смысле, с одной стороны, приспособительности к нуждам христианского народа, так как дисциплина в Церкви не самодовлеюща, а с другой—идеальная дисциплина должна обладать возможностью возвышения до степени наибольшей духовности в ее средствах, так что идеальная Церковь по Оригену может существовать и без каких-либо принудительных отношений, иначе—без всякой регламентации, одною силою индивидуальных расположений среди ее членов к благоустроенности внешней и внутренней. Так, мы видели, что Ориген пост исключительно полагаемый в различении снедей и пост, приурочиваемый к одному неизменному времени, подвергает критике и находит, что такой пост „не может быть приятен Господу“. Но из этого не следует, что Ориген принадлежит к тем отрицателям поста, которые отрицали его по принципу: „пища не приближает нас к Богу и пустое-чрево не есть заслуга“: он хочет лишь привести в сознание христиан, что ноет, совершаемый исключительно по-иудейски, для христиан, как он думал, будет дисциплиною низшего порядка, которая должна быть приводима к дисциплине более соответственной целям христианского поста,—хотя конечно Ориген не утверждает, что дисциплина порядка высшего, более совершенная, может быть достигаема минуя внешнюю, подобную иудейской, дисциплину в качестве ступени приуготовительной. Этой высшей ступенью дисциплины поста будет соединение его „с постом от худых дел“, а не воздержание от одной пищи. Το-же самое значение имеет и мысль Оригена, что народ должен усовершаться в ведении того, „что он исполняет как повеленное, но оснований чего он не разумеет“ (примеры таких действий вошедших в состав церковной дисциплины, но
143 —
основа существования которых не всем известна, приведены были выше, например, обращение в молитве на восток). Выходит по Оригену, что дисциплина в церкви не должна быть дисциплиною в смысле пассивного подчинения христианского народа установленной у порядку (observantia): ее высшая ступень есть, так сказать, Дисциплина разумения.—Наконец мнение Киприана о развитии дисциплины выражается, кроме уже указанного выше и им защищаемого начала усовершения к лучшему, как начала существу церкви но противного, еще и в том, что Киприан несомненно, если употребить выражение нашего времени, допускал критику раннейших дисциплинарных установлений: критика же, разумеется, опять предполагает возможность изменения критикуемого порядка. По известному вопросу о растворении в Евхаристии вина водой, Св. Киприан выразил мнение, что „надобно обращать внимание не на то, что почитал нужным делать кто-нибудь прежде нас“ (принцип безусловного сохранения уже данного в дисциплине), а надлежит проверять прежде соблюдавшееся чрез сопоставление с другими началами 9). Как известно, Киприан оспаривал также обязательность обычая, к какой бы области дисциплины он не относился, и наоборот, защищал право епископа поступать в области дисциплины независимо от других и даже не согласно с другими, а в основе этого, конечно, лежит мысль о том, что вся вообще дисциплина в какой бы то ни было мере, но должна развиваться pro loco et tempore. Фактические доказательства развития дисциплины Киприан представляет в его свидетельствах об осложнении богослужебной дисциплины и в этом осложнении, в его уже время совершавшемся, он совершенно не видит какого-либо и чьего-либо преступления против основ существования церкви, 10). Подобно Киприану, позднее св. Василий Великий „дела церковные“ признает требующими
9) Письмо к Цецилию, Migne, IV, 373 и д.; по русскому переводу: Твор. I. 346.
10) Упоминая об издавна соблюдаемых временах молитвы (legitima tempora), Киприан замечает: „но у нас, кроме часов от древности, преданных, умножились ныне часы (spatia)“ молитвы, и проч.; р. пер. стр. 216.
— 144
прежде всего распоряжения епископа, как то, за что он подлежит ответственности. Одно из средств разрешения подобных дел 11) Василий В. выражает так: „разсмотрети и привести на память аще что слышал от старейших (традиция) и что от себя примыслил (самостоятельное отношение к традиции)“. Иногда самый факт существования известного порядка, по Василию В., есть уже свидетельство и о его праве на существование: отсюда и общее встречающееся в церковных канонах положение, что в известных случаях „подобает последовать обычаю каждой страны“, не изыскивая других оснований. Однако для права факта, или для неприкосновенности уже принятой дисциплины по мысли Василия В. существует и известный предел, указуемый такими рассуждениями: „не должно подражати неправильному“ в существовавшем порядке, почему Василий В. „по своему мнению“, то есть по внутреннему убеждению в своей правоте, отступает от порядка принятого даже таким авторитетным лицом как великий Дионисий (Александрийский) 12). В пример того, как иногда оказывалась нужда применения правила Василия В. „не подражать неправильному“, можно указать на такой факт: известно, что Неокесарийский собор желая „следовать правилу“ (то есть, известному порядку, указание на который он думал видеть в Деяниях Апостольских) ограничивает число диаконов семью, „аще весьма велик был бы город“. Трулльский же собор нашел это неправильным (прав. 16), и неокесарийское правило отменил. Но в свою очередь и своим мнением Василий Великий готов поступиться, если „общее благо-
11) Что αὐτίαι ἐκκλησιατικαὶ есть именно вопросы дисциплины, об этом было уже сказано.
12) В первые три века дисциплинарные решения лиц авторитетных рассматривались лишь как их мнения, которые они и сами не почитали неизменными. Любопытны в этом отношении понятия того же Дионисия, которому не следовал Василий Великий. Давая ответы епископу Василиду, вопрошавшему его о некоторых предметах дисциплины, Дионисий в заключение писал: „сии вопрошения ты предложил яко почитающий нас.... Я же не так как учитель, но так, как прилично беседовати друг другу со всякою простотой, мое мнение на среду предложил. Рассуди об этом и напиши мне, аще что представится тебе — справедливейшее и лучшее“.
— 145 —
созидание“ требовало бы следования какому-либо третьему порядку (ср. понятие о salus ecclesiastica). В известной 29 главе о св. духе, описывая, между прочим то, с какою настойчивостью жители одного города (Неокесарии) в течение целого столетия блюли богослужебные порядки, получившие начало от знаменитого предстоятеля неокесарийской церкви, св. Григория, Василий В. говорит: из уважения к св. Григорию „в тамошней церкви не прибавляли ни действия, ни слова, ни таинственного какого-либо знака сверх тех, какие он, Григорий, оставил“. От этого дисциплина неокесарийцев во времена Василия перестала уже удовлетворять потребностям церковной жизни: „многое из совершавшегося у них при давности своего установления, кажется недостаточным, потому что преемственно (Григорию) домостроительствовавшие в церкви не соглашались принять в дополнение что-либо“, возникшее после Григория 13). Итак по мысли Василия В. дисциплина требует иногда дополнении; необходимость коего условливается исключительно разностью времени первоначального установления.—Равным образом и такой ревнитель неприкосновенности установленного порядка как св. Епифаний в области дисциплины, относящейся к образу внешней жизни, однако признавал почти невозможным руководиться исключительно даже богооткровенными началами дисциплины (о них ниже подробнее): и по взгляду Епифания приходится иногда идти вне этой области (Св. Писания) и обращаться к личным соображениям, а это потому уже, что не все предписано в Писании с полною подробностью и на все времена так предусмотрительно, чтобы никогда не возникало новых дисциплинарных вопросов. В примере того, как в самом деле может оказаться невозможным на основании одних данных в Писании дисциплинарных указаний разрешать вопросы, создаваемые течением церковной жизни, и как на такие случаи смотрел сам Епифаний, можно напомнить его замечание, которое он сделал при описании (см. выше) разных родов жизни монашествующих: „некоторым угодно было носить на голове длинные волосы, конечно, ради особенного рода
13) Творения св. Василия (русск. пер. изд. 1846 г.) часть ІII, стр. 347.
— 146
жизни, по собственному соображению, так как ни Евангелие этого не предписало, ни апостолы не приняли. Св. Апостол Павел отверг даже этот обычай“ и проч. 14). Епифаний не осуждает допущения в этом деле „собственного соображения“, ибо видит здесь только необходимость как бы дополнить то, что не установлено Писанием, но что иным казалось полезным при условиях вновь возникшей формы жизни; но если он подвергает критике это соображение, то не потому, что оно дает собою нечто новое, а единственно потому, что дает в результате нечто не совсем удачное и стоящее уже в прямом несоответствии с Писанием (срав. приведенное прежде его соображение о ношении цепей в виде монашеского подвига).
Наконец, если посмотреть на дисциплинарные определения известных в истории соборов, то должно будет сказать: едва ли существует хотя один собор, который между всеми постановлениями не имел бы такого, целью которого было изменение существующей дисциплины, установление нового факта, поправку к действующей дисциплине и т. п. 15). И это было в приложении к предметам разнообразного достоинства,—начиная от предметов важности совсем незначительной до предметов важности бесспорной. Из практики западных соборов можно указать на Эльвирский собор 306 г.: уже этот собор поправлял существовавшие до него некоторые богослужебные порядки, именно: правило 43 говорит: „надлежит исправить неправильное (pravum) установление сообразно тому, как требует св. Писание (juxta avtoritatem scripturarum)“, именно:—„чтобы день Пятидесятницы праздновали все (cuncti)“ тогда, как очевидно, его праздновали не все 16). Правило 48: „надлежитисправить и то,
14) Твор. рус. пер. V, стр. 355.
15) Наша Книга правил даже к одному из апостольских правил, именно 85, имеет такое замечание: „относительно Постановлений Апостольских (которые это правило, как известно, признает подлинными) время и провидение Божие открыли нужду в новом правиле"—разумеется 2-ое правило Трулльского собора. Это, конечно, яркий пример дополнения к правилу почитающемуся авторитетным.
16) См. у Hefele, Conciliengeschichte, объяснение этого канона, изд. 1855, В. I. SS. 173 и далее.
147
чтобы крещаемые, как то обыкновенно бывало (ut fieri solebat) не клали монет“ в церковную кружку (in coneham)—„дабы не казалось, что священники преподают за плату то, что сами туне прияли. И ноги крещаемых не должно мыть священнику или другим клирикам“. Арелатский собор 314 года дает указание на то, что на соборах дисциплина рассматривалась главным образом в тех ее вопросах, какие вызывались нуждами тех поместных церквей, от которых на соборе были представители. Известно, что указанный собор составился по воле императора Константина для решения донатистического вопроса. Но собор взял на себя задачу гораздо шире и рассудил таким образом:... „однако мы убедились, что нужно обсудить не только то, для чего мы собраны, но позаботиться и о нас самих“, то есть—о наших местных делах. „И так как мы собрались из различных провинций, то различны и предметы, которые, мы думаем, нам нужно обсудить“.—Пример исправления дисциплины но причине вкравшегося беспорядка, как этот беспорядок понимается в данное время, укажем хотя бы в одном из канонов Толедского собора (589 года). Собор признает беспорядком то обстоятельство, что согрешавшие обращаются к пресвитерам когда им угодно во всякое время—для того, чтобы получать от них отпущение грехов (reconciliari); тогда как порядок, но мнению собора, будет тогда, если всякий согрешивший и кающийся сначала будет лишаем общения и потом уже по усмотрению епископа получит „возложение рук“, т. е. примирение 17). Стало-быть собор действительным порядком в деле покаяния признает единственно древнюю дисциплину публичного покаяния после предварительного отлучения от церкви, что в это время уже выходило из употребления. Из многочисленных случаев практики африканской церкви, укажем хотя бы на случай, из которого становится ясно, что здесь, в Африке, признаваемо было право пересмотра дисциплины установленной одним собором на другом соборе, и этот пересмотр не почитался как бы осуждением деятельности пересматриваемого
17) Mansi, t. II. 469, ср. Hefele В. I. S. 207.
148
собора. Так, представители Мавритании на карфагенском соборе заявили, что они не могут долго оставаться на соборе. Поэтому епископ Аврелий предложил—прочитать на соборе грамоты этих представителей, с которыми они явились от своих доверителей, „дабы то, что здесь окажется неугодным (конечно, по не соответствию интересам благоустройства и порядка), исправить сколько можно тщательнее и привести в лучший вид“.—Что касается до примеров изменяемости дисциплины, которые можно было бы найти в практике восточной церкви, то здесь нельзя но согласиться с замечанием одного исследователя относительно содержания столь спорной восьмой книги Апостольских Постановлений. В этой книге, представляющей собою изложение дисциплины, развитой до значительных подробностей и притом дисциплины разных сторон церковной жизни, обыкновенно различают много интерполяций и прибавок к первоначальной редакции памятника. Так определение числа епископов, нужных для рукоположения епископа, считается прибавкой, так как до конца третьего века это число не было определено. Но относительно усилий точно отделите основной и прибавочный элементы Постановлений один исследователь (Пробст) замечает, что часто оспариваемые места в действительности не составляют собой ни прибавок фальсификаторов, ни вставок переписчиков, „ибо Постановления составляли собою руководство, устав, бывший в руках епископа, и потому—то один, то другой из епископов изменял его, или же прибавлял к нему то или другое, что казалось необходимым или полезным сообразно с изменявшимися обстоятельствами дисциплины“; на что но понятиям древности и имел право каждый из епископов: вот истинные причины всяких наслоений, замечаемых в памятнике 18)! И в самом деле, припомним только свидетельство Василия Вел. о св. Григории чудотворце, чтобы признать справедливость этого замечания. Как наиболее осязательные примеры изменения дисциплины, в целях усовершения церковного быта, из позднейшей практики можно указать: известное уже нам 12-е правило Трулль-
18) Probst, Sacramente und. Sacramentalien, Tubing. 1873. S. 45.
— 149 —
ского собора „не отлагает или превращает“, как оно выражается, существовавшее уже но тому же вопросу апостольское правило, но несомненно прибавляет к нему некоторый оттенок еще не даваемый апостольским правилом и в нем неусматриваемый. Прибавление, дающее изменение, прямо было вызвано обстоятельствами времени Трулльского собора, когда понятия о надлежащем совершенстве в качествах епископа стали включать в себя и черту безбрачия. Следовательно, трулльским правилом давалась как бы некоторая новая подробность, прямо не указываемая правилом апостольским. В самом деле: 5-ое апостольское правило запрещает всем — епископу, пресвитеру и диакону— „изгонять“ (μὴ ἐκβαλλίτω) жену свою „под видом благоговения“. В Африке несомненно до самого Трулльского собора правило и понималось как не воспрещающее брачное состояние даже для епископа. Трулльский собор, установив факт, что брачное состояние производит „претыкание“, разумеется не дал правила епископу принять жену, но выразил желание, чтобы отныне по рукоположении епископы оставляли купно-жительство с женами, не возбранив сего прочим степеням, и даже осудив, в следующем правиле, излишество церкви римской, еще ранее принявшей такое обыкновение в отношении ко всем степеням иерархии, хотя, конечно, римская церковь, так сказать, только еще ярче провела ту черту, будто в безбрачии заключается совершенство, а не одно удобство. Если сравнить также 11 правило VII вселенского собора с одним из правил Гангрского собора, то окажется, что в истории дисциплине иногда следовало некоторое такое изменение, которое было следствием изменения в самых понятиях о вещах: Гангрский собор признал безразличной в нравственном отношении „одежду принятую обыкновением“,—в том числе и дорогую шелковую одежду (пр. 12); VІІ-й вселенский собор дисциплину одежды, хотя косвенно, но все-таки изменял уже в том смысле, что запрещал „разноцветные из шелковых тканей одежды“ для лиц священного сана на основании того рассуждения, что „все что не для потребности, но для убранства, подлежит обвинению в суетности“. Но ужели последнее рассуждение не могло иметь места и в эпоху Гангрского
— 150 —
собора? Очевидно могло; но тогда эта суетность выражалась тем, что некоторыми осуждаема была дорогая одежда, воздавалась особая цена рубищу и высшая степень нравственности полагалась в ношении исключительно бедной одежды, „как бы от нее получалась праведность“: здесь же суетность проявлялась в противоположном, и потому— дисциплинарное определение направляется в противоположную сторону.
Но здесь необходимо должен возникать вопрос: может ли быть изменение дисциплины безграничным? Или же изменение ее может простираться только до известных пределов, преступать за которое ни при каких условиях невозможно, а следов. должно ли будет признать, что в церковной дисциплине есть нечто абсолютно неизменное, отношение к чему может быть исключительно охранительное? При рассмотрении этого вопроса мы необходимо должны будем коснуться и другого более общего вопроса о значении древнего канона, древних правил для дисциплины времен позднейших.
Что с вопросом о пределах изменяемости дисциплины можно встретиться в практике, примеры этого были, как и теперь есть. Так в греко-болгарской распре, принципиально возникал вопрос: что есть в дисциплине абсолютно неизменного и следовательно—абсолютно обязательного, и что здесь необязательно даже в том случае, если оно и могло бы быть основано на каком-нибудь древнем каноне? Если греческая патриархия ссылалась в противодействие болгарам на древние каноны: то и болгары, в свою очередь, старались указать на „изменяемость сообразно нуждам и обстоятельствам“, по крайней мере того, что в канонах древних подробно не определено 19). В истории католической науки встречается пример, что в круг предметов дисциплины изменяемой вносился даже вопрос об иконопочитании: в этом смысле рассуждал небезызвестный католический историк Ал. Наталис (А. Natalis) 20). Многие из католических писателей разных
19) См. Православное обозрение, 1871 г., т. I, стр. 538—9.
20) Но поводу известного канона собора Эльвирского, который по мнению одних—заключает в себе прямое запрещение делать иконные изображения
— 151 —
эпох к вопросам дисциплины относят вопрос о причащении под обоими видами (sub utraque), и важное, по сравнению с древностью, в католичестве изменение—причащение под одним видом — считают, наоборот, не важным именно потому, что рассматривают образ причащения как вопрос дисциплины, „которая (и без того) в настоящее время неодинакова с дисциплиной древности по столь многим вопросам, что и перечислить было бы трудно“ 21). лютеранское Аугсбургское исповедание необязательность древних дисциплинарных постановлений для времен позднейших видело, между прочим, в том, что эти определения и прежде, в течение всей истории церкви, в действительности никогда не были соблюдаемы,
в храмах, а по мнению других—такого смысла в себе не имеет (с. 37: placuit picturas in ecclesia esse non debere, и прочее), Наталис рассуждал, что—нельзя отрицать пи подлинности этого канона, что делалось иными из историков, ни его запретительного смысла: „отцы Эльвирского собора—говорит Наталис—действительно запретили, употребление икон, но сделали это по потому, что отрицали учение об иконопочитании, а потому, что употребление икон в первые три века было бы скорее вредно, нежели полезно, если бы оно вошло в обычай во всех церквах» или сделалось общим правилом. Иначе сказать, запрещение это, по мысли Наталиса, на Эльвирском соборе действительно было сделано, но по принципу экономии, а не по каким-либо догматическим воззрениям на иконопочитание. Тот вред, которого в первые три века, будто бы можно было опасаться, если ничем не ограничивать употребление икон, мог быть от того, что „тогда язычники стали бы думать, что христиане только переменили, но не оставили идолов“. Поэтому в вопросе об иконах, по мысли католического ученого должно различать две стороны, при различении которых определение Эльвирского собора и становится понятным: почитание икон и употребление их. „Первое — относится к догмату; второе — только к дисциплине, поелику церковь может существовать, если у нее нет ни одного изображения святых и если вследствие отсутствия изображений нет фактического иконопочитания..» Церковь всегда веровала, что должно воздавать почтение святым иконам; но употребление икон (то есть, образ религиозного пользования изображениями) подлежит изменению, как и прочие части дисциплины“. Natalis, Histor. ecclesiast. Paris, 1730, t. III, p. 740. Сравн. Трулльск. собора прав. 73. 89 где представляются примеры того, какие ограничения и по каким соображениям иногда вносимы были церковью в практику иконопочитания: запрещение начертания Честного Креста на земле (пр. 73), — И. Христа — в образе Агнца „показуемого перстом Предтечевым» (пр. 89).
21) Таково мнение, высказанное в богословской энциклопедии Миня: Cours de droit-canon. 1844. p. 997.
— 152
как не соблюдаются и ныне: стало быть, подразумевается, они никак не составляли собою необходимой стороны в жизни церкви, а потому всегда и впредь также могут быть несоблюдаемы. „Апостолы — читаем в исповедании—повелели воздерживаться от крови: но кто ныне соблюдает это? Однако же не грешат и те, которые не соблюдают, потому что и сами Апостолы вовсе не хотели отягчать совести таковым рабством, но сделала это запрещение — применительно ко времени, во избежание соблазна... И теперь едва ли какие-либо каноны неизменно соблюдаются, а многие все более и более выходят из употребления даже и у тех, кто самым прилежнейшим образом защищает их“: разумеется, конечно, латинская церковь. В пример этой вышедшей из употребления дисциплины указываются так называемые покаянные каноны, особенно развитые, как известно, в латинской церкви 22). Что касается до вопроса о значении древних церковных постановлений для последующей жизни церкви Христовой, то связь его с вопросом о пределах изменяемости церковной дисциплины состоит в следующем: если древний канон абсолютно обязателен для всех времен, то этим самым уже намечаются пределы изменяемости дисциплины по крайней мере в одну сторону, именно: дисциплина, очевидно, тогда может быть только дополняема в целях ли усовершения, или простого приспособления, но не может быть изменяема за пределы норм прямо установленных древним каноном. Наконец — специально для русского богословского сознания с этим же вопросом связывается и так называемый вопрос о законченности канона, или о том, как должно понимать 2-е правило Трулльского собора, по-видимому сделавшего некоторые правила греческих соборов и греческих отцов абсолютно не допускающими какого-либо отступления от них, и по-видимому признававшего свойство истинной каноничности за теми только решениями многих дисциплинарных вопросов, какие давались восточными соборами,—чем как будто бы решительно исключается возможность принятия многих дисциплинарных решений также древнего времени, но
22) Confess. August, edit Francke, II, Avt. VII, 33.
153 —
западного церковного происхождения.—В этом отношении прежде всего должно сказать; существуют весьма обоснованные теории, по которым указываются пределы изменения дисциплины. Но в тоже время должно будет признать, что теория абсолютной обязательности древних канонов, и, следовательно, неизменности канона древней церкви, встречает сильные возражения в том факте, что множество древних канонов действительно, как утверждают католические ученые, не только фактически, но нередко и с теоретическим обоснованием, теперь уже оставлено. Если же действительно оставлено и заменено новыми началами, то ясно, что—древняя дисциплина изменена, а изменена потому, что стало быть может быть изменена! Это отчасти, как мы видели, ставило возражением против соблюдения всякого рода преданий и Аугсбургское исповедание. Но оно выводило отсюда лишь то заключение, что будто бы уже в дисциплине и нет, и не может быть ничего постоянного, тогда как в действительности это указывает лишь на необходимость различения в самой древней дисциплине элементов разной степени обязательности, как и на то, что древность сама по себе еще не составляет доказательства обязательности, ибо не все же теперь несоблюдаемое не соблюдается по злоупотреблению или по небрежности. В числе оставленных канонов можно найти каноны различного происхождения, и стало быть различной силы обязательности. Так—древнее правило о непереходе епископов, пресвитеров и диаконов из одного города в другой — очевидно оставлено (1 Всел. соб. прав. 15), и „после вселенского собора (его постановившего) правило это никогда не соблюдалось, хотя и никогда не отменялось“, но замечанию одного исследователя 23). Это очевидно одно из важных правил иерархической дисциплины. Но едва ли уже соблюдается и правило менее существенное, например, запрещение диаконам „сидети посреди пресвитеров“ (того же собора пр. 18, с запрещением, однако, в случае нарушения правила, самого диаконства: „да прекратится его диаконство“).
23) Покойный профес. Чельцов, в Протоколах С.-Петербургского Общества Любителей духовного просвещения, год 1, стр. 341.
— 154 —
Запрещение сотых для клира, т. е. взимание с даваемого в долг процентов, самым категорическим образом выражено в очень многих канонических постановлениях (Апост. 44; I Всел. с. 17; VI Всел. с. 10; Лаод. 4; Карф. 5; Васил. В. 4 и другие). В пример того, как разнообразны области, которых касаются несоблюдаемые каноны (вследствие какового разнообразия нельзя будет делать заключение, что это несоблюдение касается только какого-нибудь определенного круга дисциплинарных предметов), к указанным примерам можно прибавить: VI Всел. собора пр. 52 для Великого поста узаконяет совершение литургии преждеосвященных даров, за известными только исключениями в пользу других литургий. Однако же митрополит Филарет, всего менее склонный к разрушению церковной дисциплины, разрешает Златоустову литургию и в пост—для особых причин, но по рассуждению, что „совершение Златоустовой литургии в постные дни в существе дела не есть важное изменение порядка. В древности не так на сие смотрели в некоторых местах, как ныне вообще в христианской церкви“ 24)! Следовательно, Филаретову теорию изменяемости дисциплины можно представить так: изменяемость или неизменность зависит не от качества памятника древности, свидетельствующего о форме известной дисциплины, а от степени важности самого предмета. Однородно с указанным правилом и правило VI, —55 но и с тем не безважным различием, что прототип его заключен даже в одном из правил Апостольских. Однако, как прототип, так и последующее ему пра-
24) Филарет, Письма к Антонию, № 1490. Указанное правило неодинаково применялось даже богослужебными уставами: по Студийскому уставу Литургия преждеосвященных даров должна быть совершаема в Великий пост ежедневно. Так было, по-видимому, и у нас в древней Руси, как несомненно было и в Константинополе до ХІV-го века. По Иерусалимскому уставу назначалось быть так, как теперь у нас бывает, но так же некогда было и в Александрии. Должно прибавить, что истинный смысл VI, 52 правила выражал Студийский устав, давая понять, что правило это не запрещает совершения литургии преждеосвященных каждый день, тогда как Иерусалимский устав видел здесь, кажется, запрещение каждодневной преждеосвященной литургии. Ор. Филарет, Обзор песнопевец, стр. 78.
— 155 —
вило—имеют одну и туже судьбу: они вышли из употребления. Правило VI, 55 свидетельствует, что „в Риме во святую четыредесятницу, в субботы ее постятся — вопреки преданному церковному последованию“. Упоминаемое церковное последование правило видит в 64 апостольском, которое указало вообще „единую токмо субботу“ для поста — Великую, следовательно не сделало изъятия и для времени четыредесятницы. Оба правила по ясности своей едва ли дадут возможность иного вывода, кроме того, что—никакая суббота, кроме одной, не подле^ жит соблюдению поста. Вне всякого сомнения также, что в древности (затруднительно сказать, до какого времени) это именно таким образом и было, откуда и произошла известная затруднительность в исчислении количества дней древней четыредесятницы, так как число это всегда окажется более „четыредесати“, если не принимать во внимание, что суббота и день Господень исключаются из дней поста. Существует правило, запрещающее „архиереям, нисшедшим в монашеский образ пребывать в высоком служении архиерейства“. Фактическое отменение этого правила даже указывать излишне, между тем собор, оное правило издавший, (Софийский собор. 879 года, прав. 2) считается в числе руководственных соборов православной церкви 25); притом, определяя это правило, собор считал его только „возвращением к церковным порядкам“: уже ли же порядок церковный столь условное дело?—Можно указать затем древние правила, которые теперь не возможно исполнять, ибо теперь нет уже тех самых условий, при которых издание их имело место, а потому и современное применение могло бы иметь таковое место. Сюда относим правило Апост. 59—о епископе
25) См. Православный Катех. о количестве соборов. Конечно, правило истолковывается так, что оно говорит не вообще о состоянии в монашестве, но и о принятии так называемой схимы, следоват. греческое выражение: ἀπιωντες εἰς τῶν μοναχῶν σχήμα понимается уже с применением современных нам понятий, где различается монашество и схима. Но можно указать на случай, в котором в такое понимание не почиталось нарушением древнего правила дисциплины. Покойный митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров † 1857) был в схиме с именем Феодосия.
— 156 —
не подающем потребного нуждающемуся клирику. Здесь, конечно, подразумевается существование в древности церковного имущества, полновластным распорядителем которого и был епископ (по которому впрочем не запрещалось иметь и собственное имущество, Антиох. 24). Таковы еще правила:—что епископ призванный в другой город не должен там долго оставаться и много проповедывать (VI Всел. соб. пр. 20; Сард. пр. 11);—что епископ должен заботиться о своих детях (Карф. 44). Правила касательно времени крещения (только в Пасху и Пятидесятницу), правила регулирующие установления уже исчезнувшие, как например агапы древней церкви, или правило запрещающее—того, „кто хотя единожды читал в церкви“—принимать в клир другой церкви (Карф. 10), по нашей книге правил). А одно из карфагенских же правил требовало, „чтобы епископы, пресвитеры, диаконы и какие бы то ни было клирики, не имевшие прежде ничего, по постановлении же своем во время своего епископства или пребывания в клире, купившие на свое имя поля или какие бы то ни было угодия, считались сделавшими вторжения в господни имения, если только не отдадут этого церкви“ (по кн. Правил, пр. 41). Это не скрытое недоверие к чистоте источников тех средств, на которые могло быть приобретено имение клириков, основывается конечно на свойствах тогдашнего быта клира: этот быт не допускал возможности того, чтобы во время служения церкви клирик мог приобретать и иметь средства, раздельные от средств собственно церковных, а приобретения до—служения в клире, например, епископов приводились в известность уже при самом вступлении в епископское звание, по 40-му апостольскому правилу, так что степень достаточности, по крайней мере епископа как главного распорядителя собственно церковного имущества, всегда была ясна и отсюда—недоверие к клирику „прежде вочтения в клир убогим бывшему“, а потом разбогатевшему. — Очень естественно, что подобные сим правила de facto отменены, ибо совершенно не нужны,— а если бы исполнять их, то нужно прежде всего восстановить те самые отношения, при которых эти правила были изданы. В настоящее время, например, епископ
— 157 —
не переходит в иной город, а переводится властью, которой в эпоху I вселенского собора не было еще, или она не проявлялась так: разумеем власть митрополитальную, в основе которой лежит начало неравенства епископов, власть преобразовавшуюся в патриаршую и т. д. Точно также и относительно других правил: епископы не имеют семьи, следовательно правило о воспитании детей отменено за ненадобностью; точно также—не епископы снисходят в монашеский образ, а монашествующие восходят на епископскую степень и т. д. Очевидно таким образом, что является прежде всего один род нарушения или отменения древней дисциплины: отменение тех канонов которые отменены так сказать самою природою вещей, или иначе—тех, для соблюдения которых должно восстановить условия исчезнувшие. В этом смысле, очевидно, никак нельзя утверждать, что древняя церковная дисциплина должна признаваться и есть нечто абсолютно неизменное. Она изменяется безразлично в степени важности авторитета, её создавшего. Й должно здесь прибавить, что изменение касалось также не каких-нибудь исключительных определений, которые по самой редкости обрекаются на редкость применения: то, что исключительно, то „не закон для церкви“,—такая мысль высказывалась и в древнее время 26): нет, в последствии нарушившееся в свое время было предназначаемо считаться и быть постоянной нормой действования. При чем нужно иметь в виду, что это несоблюдение канонов не составляет также какого-нибудь знака повреждения церкви Христовой во времена настоящие, или упадка церкви исключительно восточной: это случалось и в древности, это случается и теперь с вероисповеданием совершенно явственно признающим обязательность для жизни церкви начал в известном смысле единых с первенствующими временами церкви Христовой. Так, правило о непреклонении колен в дни воскресные (всел. соб. пр. 20) можно думать уже и в древности не везде всегда соблюдалось 27). Правило о непереходе епископов из одного города в
26) Так выражается св. Григорий Богослов, твор. III, 265.
27) Чельцов, ibid.
— 158 —
другой, правда, ІІ-ым вселенским собором применено было к св. Григорию Богослову, но по его собственному свидетельству оно — „было давно уже умершим и позабытым“, и вообще после Никейского собора правило никогда не соблюдалось, хотя никогда и не отменялось 28). Даже нормы апостольской дисциплины и в древности не всюду были соблюдаемы. Например, о ядении крови и удавленины Августин уже свидетельствовал, что в Африке его времени запрещение этого ядения совершенно потеряло силу: по его свидетельству был бы осмеян тот, кто для употребления этой снеди видел бы каноническое препятствие. Можно догадываться, что даже и каноны Никейского собора некоторое время по их появлении не соблюдались в Африке: иначе не было бы нужды читать их и подтверждать о всемерном соблюдении их по Африке, как это сделано было на одном из африканских соборов. Точно также, вероятно, как было отчасти упомянуто, в Африке не имело буквального исполнения апостольское правило о наименьшем числе епископов, долженствующих
28) Августин, a.d Jann. II, 32 говорил: „чтобы во дни Пятидесятницы и во все дни воскресные — молились мы стоя, соблюдается ли это и где соблюдается — я не знаю». Кассиан положительно утверждает, что в монастырях Сирии это соблюдалось не строго, тогда как в египетских монастырях—строго. Bing. vol. р. 123. Замечательно, что Кассиан рассказывает, что „он тщательно исследовал причину такого обычая, и нашел, что не преклоняли колена потому, что эти дни суть дни радости, тогда как пост и преклонение колен есть выражение печали“, то есть, причиной этого установления (не—преклонение) почиталось не то обстоятельство, что указание на не-преклонение имеется в канонах, или—не происхождение его от Вселенского собора, а внутренний смысл, или естественное соответствие установления внутренним потребностям: радование во дни празднования и соответствующее внешнее выражение радования. Внесение же собором этого обстоятельства, т. е. запрещение коленопреклонения в день Воскресный и проч., в правила понималось вероятно, как одобрение только природе соответствующего обычая, но не введение его в абсолютно неизменный закон, по силе которого действие противоположное—преклонение колен могло бы быть почитаемо важным нарушением порядка. Вследствие такого, очевидно, понимания дела, патриарх Никифор Исповедник впоследствии давал такое правило, в котором он различает „торжественные коленопреклонения“ и коленопреклонения „ради приветствия": последние он определяет совершать даже „и в день Господень и во всю Пятидесятницу“ См. Cotelier'a, Patres apostol. p. 270.
—159 —
поставлять епископа: ибо 60-ое карфагенское не точно следует апостольскому. Тоже самое замечается относительно этого предмета в двенадцатом каноне Арелатского собора 314 года: нормальным количеством рукополагающих епископов определено семь и лишь только в крайности три епископа.—И так, где же граница изменяемости, когда, по-видимому, ни один канонический источник не был обеспечен по крайней мере от забвения, иногда равносильного отменению, а иногда не был обеспечен даже и от того, чтобы появилась дисциплина прямо противоположная?
Существует несколько таких теоретических посылок, следствием которых, как представляется, должно служить по крайней мере то, что некоторые древние постановления действительно должны быть отменены. И наша Книга правил, прежде всего, признает существование в древнем каноническом порядке временных и местных правил. Вывод из такового признания ясен: они совершенно не обязательны, если только еще могут быть предметом исполнения при изменившихся условиях. Примечание к 37 апостольскому правилу в этой Книге признает, что это правило отменено I и VI вселенскими соборами „по особым причинам“: следовательно, и апостольские правила законно могли быть отменяемы— кем, это будет другой вопрос. Такой же характер временности Книга правил признает за 45 апостольским правилом: правило запрещает принимать крещение еретиков; примечание книги относит это только „к тем еретикам, каковые были в апостольские времена“, иначе сказать—признает отмененным это правило в его неограниченном смысле: крещение иных еретиков должно быть принимаемо (ср. также указ. выше замечание Книги о 85 апостол. прав.). чисто местными правилами здесь, в Книге, признаются, например, карфагенские: 43, 50. В факте поправления первого из сейчас указанных правил вселенским собором усматривается основание для той мысли, что это „не есть общее правило для всех церквей“, что признавал и произнесший его собор. Из этих замечаний во всяком случае следует такое положение: в древнем каноне есть некоторые правила, соблюдение которых или
160 —
явно отменено, или может быть признано необязательным, как изданных условно, и отчасти уже ограниченных в употреблении даже и в древности. Но собственно в богословской русской не официальной литературе появляются и другие теории тех отношений, коими современность обязывается к древней дисциплине. Так а) проф. Чельцов (†1879) рассуждал: только догматы имеют безусловно-обязательную силу для всех мест и времен; распоряжения же церковных властей касательно вещей средних (так называется вся дисциплина но примеру терминологии Скрижали патр. Никона, каковая терминология, впрочем, имеет основание в христианской древности) „имеют только условную силу в известных пределах времени и места“. Ибо—что особенно важная черта такой теории— „не старым хартиям и номоканонам заповедал нам апостол повиноваться, но действительным наставникам нашим, которые заботятся о нашем спасении, зная именно наши духовные нужды и имея долг удовлетворить их“. Едва ли нужно говорить, что в таком случае никакая дисциплина не может быть признаваема абсолютно неизменной: она может существовать исключительно для данного времени, для живого человека, и власть над нею также будет принадлежать не книге, а человеку живому, б) Выражается и мнение противоположное, что церковь по крайней мере может (следовательно, это ее право, если и необязанность) во все последующие времена обязывать своих членов некоторой неизменной дисциплиной: „церковь может утверждать за известными, хотя бы и частными, правилами церковной дисциплины авторитет неизменности на последующие времена“ 29). в) Преосв. Иоанн Смоленский признает, что в церковной дисциплине существует нечто pro loco et necessitate, — вследствие чего существовало „различие частных прав и обычаев в поместных церквах“; признает также, что в церкви было по крайней мере развитие дисциплины, ибо „апостолы, давая правила предстоятелям, предоставили им самим дополнять и развивать эти правила“. Но при этом в воззрениях знаменитого канониста явственно проходят идеи, что аа) все
29) Прот. А. М. Иванцов-Платонов, Душепол. Чтен. 1868, II. 317.
— 161
частное в церквах существовало не как нечто правомерное и законное, а только как бы необходимостью вынуждаемое и бб) только до тех пор существовало, пока не представлялось повода и возможности для уравнения всеобщего: — тогда наступает конец всякой особности в дисциплине, и следовательно для богословия возникает вопрос не о пределах изменяемости в дисциплине, а о пределах, до которых может достигать особенность местная и временная пред всеобщим уравнивающим принципом дисциплины церкви. Поэтому — в теории Иоанна, собственно говоря, является некоторая несогласованность: с одной стороны истинно канонический принцип есть: должно „преданием проверять разности, замечаемые в церквах поместных“, после чего „все имеющее основание в предании или несогласное с ним должно быть признано неканоническим, или принадлежащим церкви вселенской, а потому и истинным“. Следовательно то, что древние называли novitas disciplinae, основание которой в новом рассуждении, в свою очередь основывающемся на новых условиях жизни.—не должно иметь места; как и истинно каноническим, т. е. согласным с началами церкви может быть только то, что действительно всеобще, чем дисциплина, разумеется, в некотором отношении уравнивается с доктриной. Со всеобщностью, как признаком истинной дисциплины, но взгляду Иоанна, совпадает древность истинной дисциплины: „древний канон—по его рассуждению—остался неприкосновенным (после X века) и сохранился как образец (норма) церковного управления“; задачей же последующих православных церквей было: „соображать с определениями древнего канона свое внутреннее устройство, или применять к местным условиям своего быта“, но очевидно — ни в каком случае не изменять, ибо иначе древний канон перестал бы оставаться и нормой. И действительно, „никакую власть отдельную или местную—церковь не признавала выше канонов (древних, вселенских), а от всякой духовной власти требовала только точного их соблюдения“ ”). даже на древние факты какого-нибудь
30) Опыт курса церковного законоведения. Ч. 1. стр. 9. 22. 190 и пр.
— 162 —
разногласия в какой-либо области дисциплины Иоанн обычно смотрит не более как только на произвол, ускользавший от законного преследования. Так смотрел он на разность в продолжительности предпасхального поста: здесь „разногласие может показывать не больше как произвольные отступления от общего апостольского правила“, ибо „апостольское установление четыредесятницы не подлежит никакому сомнению“ 31). Вообще „каноны сохраняют (т. е. должны сохранять) действующую силу и в настоящее время“, так что, очевидно, о каком-либо изменении их не может быть речи. С другой стороны, у нашего знаменитого канониста встречаются суждения, из коих как будто бы следует, что абсолютной неизменности каноны не могут иметь даже и в теории—по принципам, лежащим в основе бытия церкви христианской. Сюда относим его замечание о возможности составления новых правил 32), требовавшихся временем. Он не отрицает, что „разнообразие в исполнении“ канонов было там, где, по-видимому, оно всего менее могло бы иметь место, и притом—это было не произвольным отступлением, а следствием, мыслимого тогда как законное, права—вносить в некоторых случаях, так сказать, индивидуальный элемент и в область установленного. Так, Иоанн не видит какого-либо нарушения церковной дисциплины в том случае, когда монастыри следовали своим правилам по некоторым вопросам о пище 33). Тем не менее все вопросы как о дисциплинарном развитии, так и о пределах изменяемости Иоанном понимаются, и по его теории должны быть понимаемы, таким образом: а) творческую деятельность в области дисциплины церкви древнего времени „не должно понимать так, будто в каждый
31) Ibid. стр. 219—219. Для сравнения здесь можно привести одно замечание митрополита Филарета. Однажды (но поводу одного сочинения о посте православной церкви) Филарет замечал: „говорить, что пост есть учреждение апостольское, и что он утвержден Димитрием и Виктором на соборе, значит противоречить себе, если не объяснить сего тем, что апостольское учреждение было в примере, а не в писанном правиле, и потому подвергалось разнообразию в исполнении“.
32) Ibid. I. 65. 71. II. 260.
33) Ibid. I. 203.
— 163
век церковь составляла новые правила и отменяла древние: напротив, попечение церкви всегда было обращено на то, чтобы сохранять древние правила и на них утверждать новые, какие требовались временем“ 34). б) Но как же должно понимать каноническую деятельность церкви последующих времен? По взгляду Иоанна—только как деятельность дополняющую или комментирующую начала древней дисциплины, ибо „канон“ в подлинном смысле закончен и признан общеобязательным для всех мест и всех будущих времен. Теория законченности канона не только Иоанном, но и другими основывается на известном понимании 2-го правила Трулльского собора, которым определялось: „никому да не будет позволено (исчисленные здесь) правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил принимать другие“. Этими словами, по взгляду многих канонистов, определительно указан состав неизменного канона, то есть: вторым правилом, говоря вообще, христианская церковь в дисци-
31) Ibid. 1. 65. Недовольно понятно, как примирить это с тем общеизвестным фактом, что иногда при новых правилах не только не сохранялись древние, но даже и сущность нового правила состояла в том, что давалось определение противоположное древнему, и давалось именно потому, что так „требовалось временем". Становится еще менее понятным то, что рассматриваемый автор признает несомненное несогласие в правилах разных соборов и объясняет это разновременностью происхождения правил и разными местными условиями: если это так, то понятнее становится не сохранение правил, а именно их изменение. Ср. также взгляд Иоанна на деятельность соборов древних: «постоянный образ действования древних соборов был таков, что они рассматривали и утверждали постановления прежних отцов— (речь идет о IV всел. соб.) и ими руководились в составлении своих новых правил, какие требовались по нуждам времени. Ни о чем так сильно не заботились отцы и соборы, как о сохранении единства и в учении веры и во всем церковном управлении — единства с первыми веками церкви, и ничего столько не страшились, как отступления от этого единства», и т. д. II. 260. - Впрочем, нужно сказать, это преувеличенное представление о степени единства в древней церкви у Иоанна несколько умеряется той его мыслью, что единство, противное нововведениям, должно понимать более как единство по духу, но не по букве. II. 343. Но мысль, будто бы постоянный образ действования соборов был именно таков, как он здесь Иоанном формулирован, будет не совсем справедлива: припомним отношение Трулльского собора, прав. 40, к правилам Василия Великого; потом увидим и другие факты с сим однородные.
— 164 —
плинарном отношении как бы объявила себя абсолютно удовлетворившей свои потребности тем, что уже сделано было для дисциплины до времен Трулльского собора и что получило выражение в перечисленных в этом правиле памятниках; уничтожила значимость всех других памятников, здесь не перечисленных, и низвела эти последние на степень не имеющих никакого обязательного авторитета в вопросах дисциплины, и потому как бы излишних для нее. В каком же отношении к обязательному канону будут определения позднейших и даже определения Трулльского собора, запретившего „принимать кроме предложенных правил другие“? Допускается как бы некоторое, говоря относительно, единократное продолжение авторизованного уже канона: правила самого Трулльского собора по этой теории обязательны потому, что приняты седьмым вселенским собором, а правила этого последнего, по выражению Иоанна „пересмотрены и утверждены(!)“ на Константинопольском пятом соборе, то есть, на поместном Софийском: „тем закончился основной кодекс законов кафолической церкви“, и след. во всяком случае „общий основной канон“ закончился в IX веке 35). Но эта теория законченности канона, как она предлагается нашим канонистом, но будучи чужда, впрочем, и другим богословам, может встретить разнообразные возражения, как и встречает их действительно,—не говоря уже о том, что и у самого Иоанна она оказывается не без ослабляющих ее толкований. Например, так называемая верность основному канону у него означает согласие допускаемого им, кроме „общего древнего“, законодательства местного и позднейшего „с древними и коренными началами церковного законоположения“,—согласие в духе и основаниях; а такого рода согласие будет критерием, подверженным настолько широкому толкованию, что на практике может получаться верность местного законодательства—древнему весьма не явственная.—И в
35) „Канон, или положительное церковное законодательство, составлялся в продолжении тысячелетия и тогда заключился, представив в себе общие коренные начала вселенского законоположения“ (ibid. 62). Но из чего он составлялся:—вот еще более важный вопрос.
— 165 —
самом деле, прежде всего должны сказать: если 2-е правило Трулльского собора содержит в себе указание на такую значимость древнего (до—Трулльского) канона, что— исключительно правила перечисленных здесь соборов и отцев должны составлять руководство „для всей церкви“ (Иоанн) в отношении к дисциплине; если это правило не может быть понимаемо как содержащее в себе указания для одной лишь греческой церкви применительно к условиям того времени, когда составился Трулльский собор; и если, наконец, правило уничтожает руководственное значение всего, что было определяемого до этого собора, но что в правиле однако не указано; если—так, то является вопрос: уже ли вся дисциплинарная деятельность, во всех решительно областях бывшая в западной церкви до этого времени, не заключала в себе ничего достойного духа, пребывавшего с церковью каждой провинции? ни даже просто достойного целей церкви, или служащего выражением непрерывности священства, хотя известно, что законодательно-дисциплинарная деятельность и здесь, на западе, не была слаба по сравнению с востоком? Утверждать противное значило бы осуждать всю западную церковь предшествовавшего Трулльскому собору времени 36). И действительно—другие богословы (напр, преосв. Сильвестр) в канонической деятельности западной церкви до времени Трулльского собора признают существование фактов, выражающих собою жизнь истинной церкви Христовой, верной апостольским началам. Вследствие этого нельзя не согласиться с воззрениями некоторых, что смысла „законченности канона“ указанное трулльское правило не имеет 37); и молено прибавить—не имеет не только в приложении к прошедшему до собора времени, но и в приложении к будущему. Ибо в последнем случае — этому
36) Нынешние старокатолики, между прочим, учат: „мы признаем и ценим семь вселенских соборов как для всей церкви обязательные. Но и в западных соборах есть многое, что хотя не определено на вселенских соборах, однако же не противоречить им и заслуживает сохранения и внимания всей церкви, а это требует прежде всего самого тщательного и многотрудного исследования“. Протоколы Общ. Люб. дух. Просв., С-Петерб. отдел, год 1. стр. 35.
37) Проф. Суворов, в своем курсе церковного права.
— 166 —
правилу будет принадлежать и тот смысл, что оно как будто предрешало, что вся будущая после его появления деятельность церкви будет деятельностью безблагодатяой, скудной тою мудростию, которая преизобилует в канонической деятельности до Трулльского собора,—так как не перечислены же в том правиле многие соборы первых трех веков, но значимость которых для salus ecclesiastica бесспорна. Непонятным становится также: какая власть могла включить в состав „законченного“ исключительно руководственного канона такие после-Трулльские соборы как Двухкратный или Софийский, хотя по отношению ко второму возникал и другой вопрос о причислении его к категории вселенских соборов 38a). При-
38а) Что такое „хиротония“ диаконисс в 15 правиле Халкидонского собора? Перевод Книги правил, по-видимому, уклоняется от того, чтобы χειροτονεῖσθαι подлинника передавать словом: рукополагать, а употребляет слово: поставляти,—в той, как можно догадываться, цели, чтобы не подавать мысли о приобщении женщин служению священническому. Но если с понятием хиротонии соединять мысль о молитве, сопровождаемой возложением рук на хиротонисуемую, молитве, в которой испрашивается божественная благодать, вспомоществующая поставляемой в исполнении ее назначения в церкви, которое определялось как служение при некоторых таинствах, когда служение диаконов было бы неудобно, а вне таинств—вспомоществование церкви при совершении дел милосердия и просвещения неофитов светом веры Христовой; то не будет причин, почему в 15, IV следует разуметь поставление только как административный акт, а не как акт вместе с тем и литургический. — Под хиротонией диакониссы разумеем был акт литургический и в нашей богословской литературе, см. книгу „О чинах и учреждениях греко-российской церкви" СІІБ., 1792 года, изданную по благословению Свят. Синода, стр. 64. „В древней церкви обыкновение было посвящать диаконис..., но ныне освящение их не в употреблении“. Иное дело вопрос о том, тождественна ли хиротония диаконис по своему литургическому составу с посвящением диаконов, и каков был объем тех прав, которые диакониссы приобретали чрез их хиротонии. В молитве, в означенном сейчас издании приведенной в качестве заимствованной „из древних греческих книг", развивается такая мысль: „рождением Единородного Сына Божия от Девы освящен пол женский, и не точию мужем, но и женам Святого Духа благодать и пришествие дарованы». Посему „Бог и жен, посвящающих себя служить во храме Святых, не отвергает, но в чин служителей приемлет их“; для сего и испрашивается хиротонисуемой „ниспослание богатого и изобильного дара Святого Духа“ (ibid.). Нет причин полагать, чтобы и в древности хиротония диаконис понимаема была, так сказать малодейственнее в отношении благодатном, чем
167 —
том теория законченности канона едва ли согласна будет с пониманием вещей на самом Трулльском соборе,— пониманием, очень ясно выразившимся в 40-м правиле его. Правило это, как мы отчасти знаем, категорически признает усовершимость дисциплины и изменяет одно из правил Василия Великого именно потому, что находит это правило уже не соответствующим тогдашнему состоянию церкви; прецедент же такого изменения правило усматривает в деятельности четвертого вселенского собора. Вопрос идет о предельном возрасте, начиная с которого должно допускать к произнесению монашеских обетов. „Хотя—рассуждал собор—Василий Великий в священных его правилах законополагает сопричислять к числу дев“ лиц достигших семнадцати лет, „однако мы, последуя правилу о вдовицах и диаконисах, по соответствию (по аналогии, ἀναλόγως) определили“—допустить обеты в возрасте ином по сравнению с указуемым в правиле Св. Василия В., именно десяти лет. Но в чем заключается указываемая собором аналогия, которую он почитает основанием к изменению правил Василия Великого, собором же внесенных в каталог неприкосновенных правил, как обычно это понимается, то есть в перечисление, данное в 2 правиле собора? Аналогия эта не в каком-либо численном соответствии определяемых возрастов, а единственно в том, что собор здесь напоминает, каким образом получило свое начало другое, употреблявшееся в церкви, правило, именно правило о возрасте вдовиц, т. е. диаконис. Рассматривая же происхождение этого правила, собор и почитает себя в праве, при образовании нового правила, поступить точно так же, как при создании правил поступали ранее. „У Божественного апостола (Павла) предпи-
как она понимается здесь, хотя совершенное тождество приведенных здесь молитв с молитвами древними и подлежит сомнению. Равным образом, пусть восстановление литургического порядка древней хиротонии диаконис стало теперь делом малонадежным; но несомненно, что эта хиротония не могла же быть без возложения рук, когда такое действие совершалось и при первом обращении язычников к христианству, как хиротония не могла быть и без молитв, по содержанию своему отвечающих совершаемому чину.
168 —
сано: шестидесяти лет вдовицу избирати в церкви, а священные правила определили: диаконису поставляти четыредесяти (а не шестидесяти) лет“. Каким же образом могло случиться, что отцы четвертого вселенского собора (а 15 правило IV вселенского собора здесь и разумеется) нарушили совершенно явственную заповедь апостола? В причинах этого явственного нарушения Трулльский собор и усматривает то аналогичное обстоятельство, которое считает себя в праве принять за образец в том, как он сам поступил по отношению к существовавшему уже правилу Василия В. По мнению Трулльского собора, отцы Халкидонского собора позволили себе изменение апостольского указания потому, что было усмотрено „яко церковь благодатию Божией (в эпоху до Халкидонского собора) прияла большую крепость и преспеяние, и верные в соблюдении божественных заповедей—тверды и благонадежны“. Замечание это чрезвычайной важности. Оно показывает не только общий принцип изменяемости дисциплины в древней церкви, но в тоже время, так сказать, иллюстрирует и столь важное 2-о правило самого Трулльского собора. Из замечания этого, по нашему мнению, становится очевидно, что и сам Трулльский собор, передавая правило Василия Великого и в тоже время значительно изменяя его, неизменности предаваемых правил не разумел так, как эта неизменность теперь разумеется; а вследствие того едва ли должно будет утверждать, что и право рассуждения о том, подлежит ли изменению что-либо в порядке уже существующем, по праву усовершимости дисциплины, собор оставлял только за собой, и так сказать, почитал себя представляющим в истории церкви Божией на земле последний момент, когда органам церковноуправления принадлежало право обсуждения нужд и потребностей церкви. Наоборот, признавая это право за собою, Трулльский собор не оспаривал его и у другого собора Халкидонского, и это важно тем более, что сравнивая тоже правило Халкидонского собора с действующими порядками, Трулльский собор не мог не усмотреть и другой аналогии того же рода, т. е. случая отменения более древнего порядка, и замены его новым, признаваемым за более правильный. Например,
169 —
избрание в диакониссы IV вселенский собор рассматривает „как хиротонию в диакониссы“, (тоже правило: διάκονον μὴ χειροτονεῖσθαι γυναῖκα πρὸ ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ταῦτα μετὰ ἀκριβοῦς δοκιμασίας). Но уже Вальсамон замечал об этом правиле: „то, о чем говорится здесь, совершенно вышло из употребления: ибо ныне не рукополагают диаконис“. Вероятно и ранее Вальсамона, в эпоху Трулльского собора хиротония диаконис также не была уже в употреблены 38б).—Таким образом в глазах отцов Трулльского собора было уже слишком достаточно фактов изменения одного порядка на другой, чтобы им могла казаться необычайной мысль о законности этого, так сказать, кругооборота в порядках церкви,—иначе, чтобы Трулльскому собору естественно было „закончить канон“, и следоват. признать конец возможности какого-либо дальнейшего изменения в порядках церкви, кроме порядка, выражаемого в перечисленных во 2-м правиле памятниках.
Наконец, эта невозможность принимать 2-о трулльское правило как норму утвержденного канона в том смысле, что все, в нем не указанное, из области прошедшего, ео ipso признано неудовлетворяющим действительным потребностям церковной дисциплины, а
38б) Как известно, собор во храме Софии (так и называемый Софийский) сам называет себя этим именем. Например: правило первое „определил святый и вселенский собор: аще которые из клириков“ и проч. (прав. l-е). К правилам этого собора издатели Пидалиона сделали примечание, в котором напоминают, что на известном Флорентийском соборе Марк Ефесский в своем исповедании веры заявлял следующее „принимаю с любовию, сверх сказанных семи соборов, и собор после оных собравшийся при благочестивейшем царе Василие и святейшем патриархе Фотии, названный восьмым вселенским собором“ и проч. (Афины) 1841, стр. 208). Сами издатели Пидалиона не соглашаются назвать Софийский собор именем вселенского потому, как они объясняют, что на нем не было сделано какого-либо определения о вере (ср. близкое к сему мнение Святейшего Синода нашего по вопросу о греко-болгарской распре, приведенное выше). Но мнение Марка Ефесского, кажется, свидетельствует, что „законченность канона“ в смысле указанном не была еще принимаема и греческими богословами в эпоху Флорентийского собора: ибо им известно было, конечно, содержание 2 пр. VI всел. собора; но Марк Ефесский не усомнился признать, и даже называть в известном смысле вселенским, собор, авторитет которого не утвержден никаким действительно вселенским собором.
— 170
в отношении к будущему—в норму канона не должно входить ничего кроме некоторым особым образом вошедших сюда правил двух поместных соборов,—эта невозможность предуказуется, пусть хотя и косвенно, тем известным обстоятельством, что далеко не всегда согласно были понимаемы как количество, так и имена соборов, долженствующих входить в состав законченного канона. О количестве этих соборов обычнее всего в настоящее время у нас говорится, что число таковых соборов девять 39). Но в других православных церквах, православие которых не может быть подвергаемо и не подвергается сомнению, поместных соборов, имеющих руководственное в каноническом отношении значение, признается более. Так—греческая кормчая признает таковых соборов до одиннадцати; румынская православная церковь до двенадцати 40); причем—в это число вводятся и соборы после—Трулльские. Еще явственнее разногласие оказывается относительно того, какие именно соборы должны составить число девять поместных соборов: здесь наша древняя славянская кормчая вносила, например, собор на Павла Самосатского, но за то исключила то, что теперь составляет важный канонический памятник, известный под именем собора Карфагенского 41).
39) Из истории происхождения катехизисов митрополита Филарета известно, что когда составлялись им „начатки христианского учения, „то и в них, как и в пространный катехизис, внесено было указание числа только вселенских соборов, без указания числа поместных. Но при этом случае одно из лиц иерархии (Киевский митр. Филарет † 1857). предлагало „поместить девять поместных соборов“, как число, определяющее количество поместных соборов, обязательных для православия. Филарет не исполнил предложения. Что это значило? Педагогические соображения, или то самое, о чем теперь идет речь? Думаем, что Филарет не хотел возвести в катехизический член того положения, которое не было объявлено таковым в других источниках учения. Об этом случае см. у И. Н. Корсунского - Филарет в его катехизисах, М. 1883 г. стр. 139.
40) См. Пидалион, а также Каноническое право митр. Шагуны.
41) См. проф. Остроумова, Введение в церковное право, Харьков, 1894 г., стр. 198. Г. Остроумов справедливо обращает внимание на то, что даже наша Книга правил, изд. 1839 г., но оказывается в согласии с числом девяти, ибо если прибавить Константинопольский собор 394 года, как сделано в Книге правил, то окажется, что число помест-
— 171 —
Поэтому быть может, канонисты, желающие число соборов поместных, составляющих законченный канон, считать исключительно в девять, к основаниям исчисления присоединяют и предание церкви. Наименование же этих соборов основывается исключительно на 2-м правиле Трулльского собора: „когда говорится, что православная церковь признает девять поместных соборов, то эти утвержденные Трулльским собором девять соборов и следует разуметь“,—говорит один из новейших русских канонистов 42). Но что это по крайней
ных соборов, правила коих приняты в основной канон, есть десять.
42) Остроумов, ibid. 201. Между прочим проф. Остроумов говорит: „утверждение это подтверждено (!) первым правилом VII вселенского собора. И вследствие этого утверждения, правила этих соборов (т, е. перечисленных в 2-м правиле Трулльского собора) входят в состав действующего кодекса православной церкви и помещаются во всех сборниках действующего канонического права, за исключением правила собора при Киприане, за которым (правилом) самим Трулльским собором было признано только поместное значение" Ср. Иоанна, Опыт, 11. 342—2, по мнению которого „подтверждение правил поместных соборов Трулльским собором имело особенную цель: дать им значение всеобщих канонов и ввести в действие но всей церкви“. Но об этом заметим: что в действительности в первом правиле VII вселенского собора нет категорически выраженной мысли, что подтверждаются правила тех соборов, числом девяти, которые перечислены на Трулльском соборе,—подобно тому, как это, наоборот, совершенно явственно выражено о шести вселенских соборах. Указуемое здесь правило VII всел, собора говорит лишь следующее: „божественные правила с услаждением приемлем, и всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил изложенных (I) от всехвальных апостол, и (II) от шести святых вселенских соборов (III) и поместно собиравшиеся для издания таковых заповедей“. Но каких же именно поместных? Основной прием интерпретации законов заставляет ответить: не указано, каких именно, и следов. здесь нет и никакого подтверждения. Поэтому-то, конечно, преосв. Иоанн обращается к помощи умозаключений, чтобы точно также видеть здесь, в правиле VII всел. собора, подтверждение 2-го правила Трульсского собора. „Утверждая в общих словах все поставленное прежними соборами, VII собор в настоящем (первом) правиле не именует самых соборов, которых постановления принимает: следовательно он утверждает их в том самом виде и составе, как они были определены на предшествовавшем соборе, Трулльском“ (Опыт, II, 514). Удачно ли это умозаключение? Мы думаем, что сила умозаключения этого несколько ослабляется тем, что на самом VII вселенском
172-
мере не всегда почиталось действительно следовавшим и по этому можно сказать, что такое мнение не составляет всеобщеобязательного мнения церкви; это уже видно из того, что не один только автор Православного Катехизиса уклонился от точного определения количества поместных соборов, правила коих имеют исключительно руководственное значение; то же уклонение или желание удержаться от категорического указания числа поместных
соборе обнаруживается не одно только, так сказать, исполнительное и истолковательное отношение к правилам соборов, вошедших в перечисленные 2-м правилом Трулльского собора, а обнаруживается самостоятельное разумение предметов и независимость в канонических распоряжениях даже по вопросам, уже решенным соборами, давшими этот, почитаемый основным, канон. А такое отношение, в свою очередь, дает основание думать, что и VIІ вселенский собор 2-е трулльское правило не понимал так, как оно сторонниками законченности канонов понимается—иначе сказать: и на VI и вселенском соборе Трулльский собор не был понимаем как на всегда обязавший церковь последующего времени к неподвижному соблюдению всего, что авторизовано им. Примеры, в коих проявляется совершенно самостоятельное отношение VII всел. собора к (дисциплинарным, конечно) постановлениям соборов предшествующих, можно видеть в следующем: а) в своем четвертом правиле VII собор дополняет четвертое же правило I вселенского собора б) „возобновляет", по его выражению, постановление VII собора о том, чтобы в каждой области однажды в год был поместный собор (прав. 6). Правило начинается указанием на то, что существуют правила (Апост. 27 и многие другие) определяющие быть такому собору дважды в год, а „отцы шестого собора определили единожды в год быти собору: то и мы сие правило возобновляем (ἀνανευόμεν)“ и проч. Если бы дело было понимаемо так, что принятое на соборе ни в каком отношении не может быть пересматриваемо: то для чего „возобновлять“ то, что и без того считалось бы имеющим безусловную силу? в) Правило 11-е изменяет или, по крайней мере, дополняет 26-е IV вселенского собора, ибо предоставляет митрополитам ставить экономов в те церкви, епископы которых не сделали этого сами по себе, г) Правило 12-е яснейшим образом дополняет 38« е апостольское. О некотором изменении, которое заметно в 17-м правиле VII собора по сравнению с Гангрским, мы уже упоминали.—В виду таких фактов, повторяем, трудно допустить, чтобы VII вселенский собор понимал 2-е трулльское правило таким образом, будто оно обязывало церковь всех последующих времен к хранению дисциплины данной только в памятниках перечисленных им поместных соборов, и исключало все, что здесь дано не было или с данным было не вполне согласно, то есть, будто бы трулльское правило дало законченный канон в смысле современного понимания законченности.
— 173 —
соборов, давших законченный канон, заметно и в других памятниках русского богословствования. Нет, например, определенного указания на число поместных соборов в тексте архиерейского обещания 43); нет и в чинах присоединения иноверцев, начиная с чина по Иоасафовскому требнику и оканчивая этим чином издания 1849 года 44).
Остановив особенное внимание на мысли о законченности будто бы канонов, мы с одной стороны хотели бы показать, что эта законченность пока еще должна считаться только научным мнением. Но с другой стороны мысль о законченности, если принять ее, имела бы для вопроса о пределах изменяемости дисциплины то следствие, что все, вошедшее в состав законченного канона, должно навсегда оставаться вне области изменений, и самое большее, что здесь могло бы быть, это—только дополнение, не составляющее изменения. Тем не менее не составляет ни для кого предмета неизвестного факт двойственности в позднейших наших отношениях к канонам. В самом деле: некоторые правила открыто признаются „потерявшими силу“, „вышедшими из употребления“ и т. и. должно ли быть это признано равносильным изменению дисциплины? По нашему мнению—должно быть. Ибо если постоянство существования какого-либо факта признается, по крайней мере чаще всего, свидетельством, того, что существует и какое-нибудь право, лежащее в основе этого факта: то странно было бы утверждать, что постоянное отсутствие факта, пусть признаваемого существующим, хотя иногда в одной теории,—не было бы изменением самого права.
43) „Обещаюся блюсти каноны святых Апостолов и седми вселенских и благочестивых поместных соборов“ и проч. Чиновник—издания 1725 г.
44) Иоасафовский потребник 1639 года, листы: 535—549· „Покаряюся и прилагаюся благочестивому преданию св. отец, право исправльших слово истинное, иже на всех седьми святых соборех вселенских и поместных“ и проч. Ср.. чин 1757 г. стр. 93, 1849 г. стр. 31. Обещание присоединяемого но чину последнему, между прочим, содержит:—„апостольские и церковные узаконения на святых седьми вселенских и поместных (скольких?) соборех утвержденная,... уставы же и расположения приемлю“ и проч. стр. 47. Исключение составляет введение к печатной кормчей книге, о чем проф. Суворов, в рецензии на книгу проф. Остроумова.
— 174
И таких фактов весьма не малое количество (вспомним, что уже Вальсамон признавал некоторые каноны „вышедшими из употребления“). В отношении других канонов признается, что многие из них не только потеряли силу, но возымело силу нечто совсем с каноном несогласное, или—но крайней мере—нечто совсем иное по сравнении с содержанием канона; и основание того, что право как бы вытесняется фактом, и что последний сам становится правом,—полагается в так называемом обычае. Вследствие этого оказывается, что признанию неизменности канопа как сознательного произведения действительной власти противостает изменение, так сказать, несознательное („потеря силы“, в римском праве desuetudo, и т. п.), но почитаемое в известной степени jsce же правомерным изменением. Ио и признание безграничной и ничем не обусловливаемой изменяемости канонов как выражения и как нормы дисциплины поведет к тому, что все церковно-устройство должно будет признать вне действия каких-нибудь постоянных начал, и, следовательно, предлежит решить вопрос, если принять такую теорию, не о пределах изменяемости дисциплины, а о праве на существование каких бы то ни было норм в дисциплине. Какая же из разнообразных теорий должна, быть принята:— безусловной изменяемости (иначе теория „абсолютной власти церкви в дисциплине“), или теория — абсолютной неизменности установленного канопа? Выводом первой теории будет то, что в церкви все зависит от действительной, в данный момент правящей власти, а не от установлений и определений власти некогда действовавшей; выводом второй—что никакая церковная власть последующих времен не может преступать пределов некогда ранее установленных и по вопросам дисциплины давать решения не сходные с существующими: очевидно, она может лишь комментировать эти решения, приспособлять их к данному времени и т. п. Нельзя, конечно, отрицать того соображения относительно абсолютной неизменности дисциплины, которое высказано проф. Чельцовым. Бесспорно, в церкви всегда было и до скончания века будет достаточно сил не только для существования в качестве, так сказать, копии церкви греческой (ибо неизменный канон в большой его
— 175 —
части образовался в восточной греческой церкви) или вообще копии только прошедшего; но сил этих всегда достаточно и для того, чтобы церковь постоянно могла представлять собой живой организм, руководящие элементы которого могут целесообразно вести ко спасению наличных живых членов церкви: следов., во всяком случае в вопросе о дисциплине всегда должно отводить, по крайней мере, некоторое значение действующей власти каждого данного времени, признавая за ней право распоряжения дисциплиной (dispensatio), как признается же за ней гораздо высшее—право даяния благодати в таинствах. Ибо „божественное (т. е. в некоторой мере теократическое) управление церкви продолжается и ныне, и будет продолжаться до скончания века“. Иначе же, то есть, если управление церковью признать законным только в том случае, если оно совершается исключительно при помощи норм, которые даны в прошедшем; то каким образом должно быть понимаемо благодатное водительство, присущее каждой законной церкви, чрез законную иерархию? Оттого характеристика епископа в древности была та, что он должен быть между прочим „хорошим различителем, умеющим различать закон и вторазаконие, и указывать, что такое закон верных, что такое (только) узы неверных“ (апост. Постан. 11. 5); или, говоря вообще,различал бы требования дисциплины безусловной, чисто нравственной, и дисциплины внешней—имеющей условную ценность 45). Нельзя также не признать и того, о чем мы уже ранее говорили подробнее, что в Церкви есть положения дисциплины действительно неизменные, которыя
45) В распрях галликанства с папством галликане поставляли на вид, в доказательство противуцерковности папских притязаний на исключительное руководство церковью, точно также на то, что „по праву Божественному каждый епископ обладает полномочием на все епископские функции“, и в том числе, следов., и на управление чрез непосредственное распоряжение по собственному разумению, конечно, в известных пределах. Должно прибавить, что в существе дела и объем дисциплинарной власти православных епископов настоящего времени не так ограничен, чтобы приложение личного разумения не имело уже никакого места в современной церковной дисциплине, и чтобы можно было утверждать, что управление церковью совершается исключительно на основании канонов, если только это даже возможно.
— 176 —
вследствие их неизменности, по аналогии, конечно, можно называть догматическими канонами, существенное отличие которых от всех прочих канонов в том и состоит, что никогда в последующее время не может быть постановлено решение заключающегося в них вопроса противоположное, или несогласное с ними. Но при этом нельзя будет утверждать, что свойство неизменности принадлежит всем дисциплинарным определениям известного времени; примем ли, например, за неизменный канон только дофотиевские, поместные соборы, или прибавим сюда и еще несколько соборов, это не будет иметь значения; и фактическое отменение многих ранних дисциплинарных определений мы видели. Пределы изменяемости ь дисциплине намечает не время происхождения существующей дисциплины, а предмет ее определений и отношение его к залогу Откровения. При вопросе об отношении дисциплины к залогу Откровения, если принять это отношение руководящим началом для определения пределов дисциплинарной изменяемости, конечно, могут оказаться некоторые затруднения в том смысле, что церковная дисциплина не всегда совпадет с дисциплиной Откровения, на чем еще в древности богословствующая мысль останавливалась своим вниманием. Несовпадение это выражается в том, что дисциплина позднейшая— то а) довольно явственно вводит нечто такое, на что нет положительных указаний в Откровении, то, наоборот, б) уклоняется от того, что положительно дано в Откровении. В первом отношении мысли древних богословов не малого авторитета клонились к тому, что введение в церковную дисциплину того, чего нет в Откровении, не служит еще признаком изменения порядка данного в Откровении, а лишь развитием откровенной дисциплины, на что церкви и дано неоспоримое право. А во втором отношении — несомненно должно будет признать справедливой теорию, различающую в самом Откровении чисто канонические нормы, данные в руководство для церкви, от простых исторических фактов, которые могут служишь образцом подражания, во необязательно подряжаются вследствие того, что это суть факты исключительные, и вообще—вследствие особенности тех усло-
177
вий, при которых они совершались 46). Иначе, по мысли еще св. Григория Богослова, приходилось бы думать, например, так, что не должно креститься нигде, кроме Иордана, ибо первый и высочайший пример крещения дан нам чрез крещение в Иордане. Если же искать фактов для выведения умозаключений отрицательных, то приходилось бы думать, что участие в Евхаристии может иметь только один мужеский пол, ибо нет положительных указаний на то, чтобы при установлении Евхаристии допущены были к приобщению Тела и Крови Христовой женщины и дети 47). Невозможность руководствования в дисциплине тем принципом, что всякий исторический факт, заключающийся в Откровении, ео ipso составляет собою правило дисциплины,—становится очевидной из рассмотрения множества других подобных приведенным фактов. Точно также не все положения Откровения, заключающие в себе выражение нравственного идеала (в отличие их от прямых христианских заповедей), вследствие того только, что они выражены в Откровении, должны быть признаваемы как заключающие в себе законы церковной дисциплины. Подобно тому как в общем праве различаются право и мораль, так в Откровении уже сами по себе различаются изображения нравственного идеала и положения дисциплины. Ибо каким образом, в самом деле, мог бы существовать церковный суд в тех своих подробностях, в каких он теперь существует, если бы мысль Евангелия, Матф. VI, 34 принята была за норму дисциплины, а не как нравственный идеал христианских отношений к ближнему? Точно также каноны, регламентирующие вопрос о распоряжении церковной собственностью, каким образом могли быть примирены с заповедью о несобирании сокровищ на земле, если бы можно было все
46) Вопрос о том, до какой степени в церковной дисциплине обязательно сообразоваться с фактами Откровения, которые могли бы быть понимаемы, или уже и понимаются, как указания или прототипы христианской дисциплины, будет специально рассмотрен нами в своем месте, преимущественно в применении к вопросу об обряде.
47) Иринарх, епископ Рязанский, Поучительные слова, Москва, 1868 г., час. I, стр. 331.
— 178 —
заповеди Откровения отождествлять с заповедями 48) откровенной дисциплины? Сверх того, нельзя конечно не заметить, что в Священном Писании есть факты чисто исторические, которые—при желании устроить дисциплину исключительно по праву Божественному—могут быть принимаемы и действительно принимались за указания дисциплинарные, но, очевидно, принимались ошибочно! Например, какие-нибудь библейские коммунисты историю Анании и Сапфиры принимали за дисциплинарное указание для ежедневной христианской жизни в отношениях чисто имущественных. Поэтому, нужно признать, что факт, существующий в Откровении, сам по себе еще не может быть принят как определяющий собою порядок в какой-либо сфере жизни церковной или частной, иначе — за указания дисциплины в этой сфере. В противном случае вместо дисциплины Божественной может оказаться дисциплина произвола, на Откровении только мнимо основываемого. Поэтому же, должно здесь прибавить, нужно принимать с особенною осторожностью и то правило определения неизменной дисциплины, которое формулируется так: „всякое правило посредством верного заключения, извлеченное
48) Митр. Шагуна (Каноническое право, русск. перевод, СПБ., 1872 г. стр. 321—322) рассуждает: „учение Спасителя в истинном смысле слова— каноны, или лучше сказать—правила и предписания, с которыми церковь, клир и верный народ должны строго сообразоваться, и следовательно Евангелие Христа переполнено канонами“. Ио если так, то „но каким же побуждениям потом издавали с своей стороны каноны и апостолы и их преемники“?—Отвечает; „апостолы издавали свои правила потому, что они скоро увидели, что правила Христа недостаточны для руководства тех частных случаев, которые открылись между первыми христианами“. Например: „Христос дал народам правило о милосердии, именно, чтобы не творили милостыни пред людьми, чтобы левая рука не знала, что творит правая“ и проч. что указано у Матф. VII, 1—3. Но эти „правила о милостыни оказались недостаточными“ и вот апостолы вынуждены были дать более точные правила: это—правила о семи мужах (диаконах) „для удовлетворительного (более сообразного с наступившими обстоятельствами) способа раздачи даров". По аналогичным причинам каноны издавались потом и христианской иерархией.—Эти рассуждения Шатуны, однако, показывают, как легко могут быть смешиваемы два предмета: нравственные нормы Евангелия и каноны дисциплины в действительном смысле. Ибо какой же в самом деле канон может быть заключен в словах Спасителя о милостыне.
— 179 —
из Священного Писания, есть непременно“ (Филарет), то есть будет принадлежать к области дисциплины неизменяемой. Ибо тогда следовало бы, что вопрос о неизменной дисциплине есть отчасти вопрос чисто логической деятельности, и потому применение указанного критерия без предосторожности в результате может давать то уширение, то сокращение области непременяемого, смотря по степени способности к логическим абстракциям; а это иногда может повести и к произволу. Знала же история примеры того, что принудительная дисциплина в отношении к еретикам была основываема на аналогиях с некоторыми фактами Евангельской истории. Попытки если не всю дисциплину церкви, то многое этой области устроить исключительно на началах или прямо извлеченных из Откровения и принимаемых за начала законодательные, или по крайней мере — устроить по прямому подражанию историческим фактам священной истории, были уже в древней церкви. Уже Августин упоминает об одном из примеров такой попытки: была „ересь ходящих босыми ногами“. Это, по свидетельству Августина, были люди, которые думали, что не нужно носить обуви истинному христианину. Почему? Потому что Моисей приступал к купине, изув свои ноги. Но от древности же и до нового времени этот прием в устроении дисциплины был признаваем не правильным. Так митрополит Филарет слова апостола, с первого взгляда представляющие собою как будто бы прямой дисциплинарный канон, именно, что муж аще власы растит, бесчестие ему есть“ (1 Кор. II, 14—5),—понимает, как мы знаем уже, что это изречение апостола „не есть заповедь“, а только указание на природу и последующий природе обычай; а след. и ращение волос не есть отменение канона, заключенного в Свящ. Писании. Поэтому даже латинские писатели иногда соглашаются, по крайней мере в принципе, что в области дисциплины „praeceptum divinum не может заимствоваться из одного только факта совершения чего-либо (даже) Самим Иисусом Христом“ 49). Поэтому же нельзя еще думать, будто пределы изменяемости,
49) Perrone, Praefectiones, t. VI, p. 330—331.
180 —
или указание на неизменные положения в области дисциплины,—могут указывать признаки в роде следующих: когда известное положение имеет для себя какой-нибудь прототип в Св. Писании; или когда оно заключается здесь как заповедь чисто нравственная; или же когда существуют аналогичные факты, но факты имевшие место при исключительных исторических условиях. Если бы все подобное могло быть принимаемо за указания на неизменную область дисциплины: тогда эта область должна бы быть признана чрезвычайно обширною,—и вместе областью, дающею место для значительного произвола.
Вопрос относительно ращения или неращения власов составляет собою самый яркий пример того, в какие затруднения можно впадать в тех случаях, когда отношение между дисциплиной и Св. Писанием будет понято только что указанным образом. Ибо известно, что в христианской древности действительно были такие случаи, что изречение апостола о власах было принимаемо за обязательное дисциплинарное правило, и, следовательно, современное наше понимание этого изречения оказывается но согласным с пониманием древним. Так, например, Иероним отражение волос мужчинами на подобие женщин считал противным именно апостольскому повелению 50); и следовательно—если принять мнение Иеронима выходило бы, что каноны, допускающие ращение, должны считаться нарушившими даже то, что составляло собою правило не церкви, а самого Откровения.—Отношение дисциплины к залогу Откровения должно быть понимаемо так: если под „залогом Откровения“ разуметь, как того и самое дело требует, непременные истины веры и правила нравственности, данные в Писании: то для дисциплины, при решении вопроса о ее изменяемости или неизменяемости, в каждом данном случае прежде всего должно быть определено: состоит ли известная дисциплина в связи, как следствие с причиной, с какою-либо из умозрительных истин Откровения, или же нет? А если будет несомненно, что не состоит в очевидной связи: то не противоречит-ли
50) Творения, рус. перев. ч. II, стр. 128. Тоже запрещал один из позднейших греческих соборов так называемым пустынникам.
— 181
эта дисциплина истинам Откровения, во всей их совокупности взятым? Дисциплина, состоящая в связи с истинами Откровения, не может быть изменяема, как скоро факт этой связи установлен компетентной церковной властью (ибо могут быть и ошибочные заключения: припомним ересь „ходящих босыми ногами)“; и следовательно здесь-то и намечается первый явственный предел изменяемости дисциплины. Наоборот—все, что указанным критерием не устанавливается как неизменное, действительно может подлежать изменению, во, конечно, не по неограниченному произволу каждого, а по указанию потребностей общей церковной жизни. Наиболее общее выражение того критерия, который может указывать, изменяема или неизменна известная часть дисциплины, обычнее всего хотели видеть в том, существует ли прямое повеление Священного Писания для тех или других дисциплинарных актов, или же наоборот — существует для них прямое запрещение, ибо повеленное здесь уже не может быть воспрещаемо, так и запрещенное—не может быть совершаемо как безразличное. Но искание прямых повелений или прямых запрещений как признака, в известном смысле указующего границы изменяемости дисциплины и употребление этого признака для соответствующей цели, было вполне приложимо только в первоначальный период истории церкви, когда и объекты и определения церковной дисциплины были немногочисленны, хотя и тут могли возникать споры о том, какому критерию для решения дисциплинарных вопросов следовать: признавать ли, например, позволенным все то, что не запрещено в Писании, или считать запрещенным все то, что прямо не позволено; такой вопрос пытался уже решить Тертуллиан. Но с постепенным развитием дисциплины и умножением количества вопросов, получивших вселенское решение, образовалась, как мы уже об этом говорили, неизменная часть дисциплины, разноречие с которой в прочих частях не могло быть допустимо, как не допустимо это и по отношению к Откровению. И, следовательно, к вопросу о пределах изменяемости должно будет прибавить: неизменяема дисциплина, состоящая в прямой связи с догматическими канонами церкви. К при-
— 182
веденному ранее примеру этого, можно прибавить в качестве таковых же вопросы: о степенях иерархии, необходимых для существования церкви, вопрос о способе определения законности существующей иерархии и другие, в позднейшие времена сделавшиеся претыканием для соединения православной церкви с такими из западных, как англиканская, которая не имеет у себя особых погрешностей против никео-цареградского символа.—Примеры же предметов дисциплины неизменной, становившейся таковой вследствие или ясного самого по себе, или выясненного церковью, соприкосновения с залогом веры, могут взяты из разных областей дисциплинарных. В области нравственной неизменно и вечно останется осуждение человекоубийства, прелюбодеяния, хищения и тому подобных пороков. Отсюда никогда не может быть создано такого канона, который объявлял бы, например, безразличным в священнослужителе существование или несуществование целомудрия; и в дисциплине, определяющей качества священства, не может быть такого изменения, которое вело бы прямо или косвенно к отменению положения, вытекавшего как из общих начал Откровенного нравоучения, так и из частных определений качеств пастыря, данных в св. Писании 51); и наоборот прочие стороны дисциплины священства весьма разнообразились как такие, кои не связаны с дисциплиною Откровения (например, вопрос об обязательности брака или безбрачия). Поэтому
51) Однако и здесь время показало нужду решить так или иначе такой вопрос, который не возникал в эпоху установления специальной дисциплины новозаветного священства, но тем не менее который связан с вопросом об основных качествах священника, указанных Писанием. Сюда относим вопрос о не—целомудрии до—брачном, в тайной исповеди познаваемом, и о не—целомудрия, хотя бы и явном, но заглаждаемом чрез вступление в такие состояния как монашество, в которое, по древнему преданию (Василий В.), должны быть принимаемы лица „от всякого жития“, следов. и от жития явно не—чистого. В последнем случае предстоит решить: с какой точки зрения должен быть оцениваем кандидат на священство: как имевший житие нечистое, или же— оно должно быть почитаемо изглажденным чрез вступление в чин иноческий? Так и дисциплинарное положение, само по себе неизменное, впоследствии создает ряд вопросов, решение которых в неизменную по существу дисциплину может вносить некоторые изменяемые подробности.
183 —
еще Златоуст настаивал, что не должно забывать в дисциплине священства различия между стороной неизменной и стороной разнообразимой. В чем заключается первая? „Апостол заповедал—говорит Златоуст—епископу быть непорочну, целомудренну, честну“ и т. д. (разумеем 1 Тимоф. III, 2). „Вот чего требует апостол. Это и должно требовать от предстоятеля, а больше ничего, ибо ты знаешь не больше апостола или, лучше сказать, не больше духа Святого“. Выражение Златоуста, что не должно требовать от предстоятеля ничего более кроме требований, выраженных апостолом, означает: ничего более— в качестве неизменной дисциплины по праву Божественному, тогда как иные хотели бы в число неизменных дисциплинарных требований от предстоятеля ввести многое другое; порицали, например, предстоятелей и за удовлетворение обычным требованием жизни, как то—за пищу, отвечающую требованиям человека, за жилище, за разные неизбежные заботы о теле и т. и. Златоуст таковых спрашивал: „скажи мне, где это запрещается? Мы нигде (т. е. нигде в Писании) не видим, чтобы это осуждалось или похвалялось“, —а потому это и не безусловно неизменно, и только смешивается с неизменным. — Как другой пример и из иной области можно взять вопрос об иконопочитании. У римских богословов, как мы отчасти указывали, очень часто выражается мысль, что вселенско-соборное определение относительно иконопочитания не должно быть относимо к числу определений абсолютно неизменных, иначе,—что принятие или отвержение иконопочитания и в настоящее время будто бы состоит во власти церкви, имеющей распоряжаться этим вопросом pro varietate locorum et temporum, как вопросом не связанным с залогом веры, и вопросом чисто обрядовым. Так мы указывали на мнения об этом католического историка А. Наталиса. Знаменитый догматист Перроне, как и Наталис, не отрицает употребления икон и ранее второго Никейского собора, и опровергает возможные и действительно существующие возражения против иконопочитания как обычая древнего. Но самый вопрос об иконопочитании он все-таки считает исключительно вопросом церковной экономии: это, по его выра-
184
жению, „предание дисциплинарное (в противоположность догматическому) и потому долженствующее быть в распоряжении власти церковной“. „Иконы,—рассуждает Перроне,—к сущности религии не относятся, а относятся к тому роду предметов, которые для спасения абсолютно не необходимы. Вследствие чего церковь властна принимать или оставлять их сообразно тому, что она признает целесообразнее“; как и все прочее подобное подлежит власти церкви, которая может распоряжаться внешними оказательствами богопочтения сообразно с тем, что признает лучшим“. доказательство того, что по отношению к иконам этот принцип всегда имел применение в церкви, по мнению Перроне, можно видеть в том, что в истории „иконы—то были принимаемы (как предмет почитания;, то оставляемы, смотря по состоянию времен, лиц и мест“, то ость, сообразно условиям жизни церковной; как и вообще „мы знаем,—говорит Перроне—что в древние времена церковь иногда оказывала снисхождение тому, что в другие времена запрещала, хотя бы дело само по себе было правильным 52). Отсюда, по взгляду Перроне, очевидно, что церковь одного времени не имеет прав как бы связывать церковь последующего времени авторизованием тех или других положений дисциплины: иначе сказать, церкви в каждую данную минуту принадлежит неограниченное право распоряжения дисциплинарными постановлениями и, следовательно, неограниченное право изменения дисциплины. Единственное условие, которым это право ограничивается, или единственная основа неизменности какого-либо положения в области дисциплины, по мнению Перроне, есть существование „Божественного повеления“ (praeceptum divinum) и „необходимость для спасения“: только это может связывать свободу церкви в области дисциплины, а как скоро нет этих условий, в этой области все становится предметом диспенсации церкви. Понятно, что сфера неизменных дисциплинарных опреде-
52) Praeleetion t. IV, p. 406. Известные по своей оппозиции иконопочитанию libri carolini рассуждали в смысле еще большей свободы отношения к иконопочитанию: „существуют ли иконы или нет, это безразлично: ибо они не необходимы“. См. Hefele, Concilien, IIІ, 837.
— 185
лений при таком понятии о дисциплине должна будет сузиться весьма значительно. Но этот знаменитый поборник папства (1881+), в преувеличении власти, действующей в церкви каждого исторического момента, не замечал, что он чрез такую теорию почти сближается с протестантским пониманием значимости дисциплины церкви. Если бы, в самом деле, для самой церкви, в смысле власти, не существовало никаких пределов в распоряжении дисциплиной, кроме исключительно прямого Божественного повеления: то трудно было-бы предвидеть, что в конце всего могло бы сохраниться от дисциплины; мы уже видели, что и в древности признавали невозможность ограничить количество обязательной дисциплины кругом одних определительно повеленных предметов: данное в Откровении составляет неизменное, но не единственное содержание дисциплины.—В противоположность богословам ультрамонтанским, богословы галликанского направления к вопросу о пределах изменяемости дисциплины относятся таким образом, что кроме абсолютно неизменной дисциплины, которую составляют заповеди, дарованные в Откровении, признают возможность существования еще условно неизменной дисциплины, или— неизменной не вследствие ее внутренних свойств, а вследствие известных обстоятельств, сопутствующих установлению данной дисциплины. Так, относительно того же вопроса об иконопочитании рассуждения одного из галликанских канонистов сводятся к тому, что по существу, как это утверждал и Перроне, дисциплина иконопочитания не принадлежит к области неизменного. „Останкам святых—говорил один из галликанских канонистов— всегда, от первых веков христианства, оказываемо было величайшее уважение. Точно также существовала общая вера, что призывание святых есть дело благополезное; но изображения святых всегда считались в ряду тех предметов, которые одинаково могут быть и принимаемы и оставляемы без вреда для самой религии. Поэтому иметь изображения в храмах или не иметь—всецело зависит от (принятой в данное время) дисциплины. И в древности изображения иногда были удаляемы из священных здании для того, чтобы избежать даже отдаленнейшего
186 —
сходства с языческими обрядами“ 53). Но на этом пункте и оканчиваются сходства галликанской теории с ультрамонтанской: если в древние времена к вопросу об иконопочитании церковь могла относиться не тождественно во все времена, то в настоящее время, по теории галликанцев, уже ни одна национальная церковь не может отменить определений второго Никейского собора. Почему? Потому что пределы изменений всякой дисциплины в церкви христианской таковы: 1) „церковь никогда не отступает и не в праве отступать от той дисциплины, которая имеет своим источником право Божественное как естественное, так и положительное“. 2) „Хотя дисциплина не равнозначуща с догматом, однако она может быть связана с ним per accidens, как например это бывает в том случае, когда еретики упорно отвергают известную дисциплину из ненависти к самому догмату, к утверждению и как бы к освящению которого она служит“. В этих случаях, то есть, когда дисциплина хотя только per accidens бывает связана с догматом, „церковь или совсем не отступает от принятой дисциплины, или весьма трудно поддается уступкам, дабы чрез уступку не был подвергаем колебанию самый догмат и чрез снисходительность к еретикам не получала поощрения самая ересь“. Между примерами того, как догмат может быть per accidens связан с дисциплиною,—вследствие чего изменение дисциплины становится невозможным и недопустимым,—галликанский писатель указывает на отвержение крещения детей социнианами потому, что они учили, будто крещение детей не имеет другого действия (следоват. другой цели совершения), кроме возбуждения веры в крещаемом. Стало быть отменить обычай крещения детей значило бы признать истинность учения социниан. Но почему же должна быть
53) Ibid. t. VI, p. 237. Это рассуждение Перроном применяется ко всей области дисциплины, составляя характеристическую черту его богословствования вообще. Перроне возвышает власть церковной иерархии на столько, что христианские народы в его глазах являются буквально „подданными“ церкви, которым она, „как руководительница данная им Богом, не обязывается давать отчет в том, почему она в своих определениях следует тем или другим основаниям"; ibid. р. 249.
— 187 -
принята такая формула, что церковь или совсем не отступает от принятой дисциплины, если она per accidens связана с догматом, или „весьма трудно“? В ответ на это галликанский писатель говорит: „может быть изменяема дисциплина даже и этого рода, но в том случае, когда по крайней мере часть из тех, кои отвергали принятую дисциплину, отказывается от своих заблуждений, и когда отсюда, т. е. из изменения дисциплины, может последовать какая-нибудь новая и значительная выгода для религии“ 54). К сказанному должно прибавить относительно неизменной дисциплины следующее: не нужно упускать из виду важного различия между тем, что можно назвать неупотреблением однажды данной в качестве неизменной дисциплины, и тем, что есть действительное изменение дисциплины. Когда дисциплина получила авторитет неизменной, то отсутствие постоянного употребления ее не свидетельствует еще о том, что церковь изменила порядок, предназначенный быть неизменным: об этом последнем будет свидетельствовать лишь отвер-
54) Delort. instit. discip. gall. pp. 120. 371. Близкий к галликанскому взгляд на причину того, почему вопрос об иконопочитании, хотя он сам по себе есть вопрос дисциплины, однако теперь уже не может идти в сравнение с многими другими вопросами в отношении к изменяемости,—высказан также у В. С. Соловьева. „До восьмого века, рассуждает он, иконопочитание не было связано ни с каким обязательным догматом, а существовало как свободный обычай и притом не повсеместно". Если так, то казалось бы, что окончательное решение иконоборческих смут должно бы привести к формуле только невоспрешения почитать, а не повеления почитать иконы. „Но когда на VІІ-ом вселенском соборе было выяснено, что православные стояли не за благочестивый обычай только, а за скрывающуюся в этом обычае религиозную истину: тогда только собор определил и установил иконопочитание как догмат веры, неоспоримый для православных. (Мы уже пространнее говорили о том, почему, но нашему мнению, должно предпочитать здесь термину: „догмат веры“—термин: „догматический канон“). Представляющаяся же в утверждении неизменности иконопочитания новость, или переход от свободы к закреплению обычая, имеет последнее основание по мысли г. Соловьева в том, что здесь „отцы VII-го вселенского собора являются властными проводниками одного из тех поступлений или восхождений, о которых говорит Григорий Богослов“; иначе—если это есть умножение дисциплины, то в то же время и усовершение ее. „История и будущность теократии". Загреб, 1887 г., т. 1, 53. 56.
188 —
жение дисциплины и замена ее новой, с прежней несогласной. Когда известный Хомяков говорил: „можешь спастись и без иконы, но быть без иконы не полезно для тебя“; то очевидно это положение должно полупить следующее важное дополнение: „но не можешь ни воспретить другому иметь икону, ни утверждать, что икона есть дело суеверия, нечестия или невежества“. И церковь только в таком случае могла бы быть признана отменившей неизменную дисциплину иконопочитания, если бы можно представить себе ее сделавшей постановление в смысле указанном,—чего, конечно, никогда не будет, как и не было. Если же, представим себе, церковь признала бы возможность спасения и действительность спасения христиан, которые, по каким-либо причинам и условиям, никогда и не видели иконных изображений: то это не значило бы, что церковь объявила отменение иконопочитания. Если для показания этого различия между отмененном дисциплины и ее бездействием взять пример из другой области, то можно остановиться на следующем. В дисциплине древних манихеев было запрещение подавать милостыню, потому что, утверждали они, подавать милостыню материальную значит поблажать дурному началу— материи тела человеческого. По очевидно, что не всякий, даже и преднамеренно не подающий милостыни, будет последователем манихейства: основания этого—понятны. С другой стороны, если бы церковь издала канон, которым объявила бы подавание милостыни делом безусловно спасительным; то равным образом не всякий не подававший милостыни просимой будет отрицателем канона, а лишь только тот, кто будет доказывать, что определение церкви есть заблуждение, или основано на воззрении ложном и т. п. Подобное определение о безусловной спасительности милостыни было бы каноном дисциплины неизменяемой, от которого церковь никогда по существу отступить по может; а отступлением было бы лишь только уничтожение милостынедательства вследствие отрицания спасительности материальной помощи ближнему, но не фактическое неупотребление милостыни но каким-либо историческим условиям, равно как и не изменение той формы исполнения канона, какая принята была в эпоху издания
189
канона. Аналогичный пример, наконец, можно видеть и в сравнении безбрачия ради высших целей и манихейского гнушения браком по презрению к плоти. Примеры дисциплины, изменение которой, наоборот, не может иметь какого-либо значения с точки зрения согласия или несогласия с истинами Откровения, чрезвычайно многочисленны. В истории церковного права можно наблюдать, как такого рода дисциплинарные постановления, не взирая на то, что они прошли все стадии существования, начиная от простого благочестивого обычая до закрепления обычая вселенскими соборами, в конце концов совершенно забываются, и именно оттого забываются, что они не связаны с существенной стороной вероучения, и нарушение их как бы не заметно. Припомним опять непреклонение колен в день Господень и во дни Пятидесятницы (1 вселен, собор. пр. 20), что во времена Тертуллиана делалось, по его выражению, лишь по обычаю предшественников (de orat. 17), с тем еще разнообразием, что иные думали будто и вообще „не надобно становиться на колени во время молитвы“. В настоящее же время никто, конечно, не считает важным нарушением дисциплины отступление от ясного правила вселенского собора, так что правило собора скорее нужно признать практически совсем отмененным, чем только измененным, хотя к определению I вселенского собора нужно прибавить еще и напоминание Трулльского собора (пр. 90), по крайней мере относительно дня воскресного. Неизменная дисциплина, будучи неизменна в главном, однако же не исключает возможности возникновения разнообразия при осуществлении ее во всех подробностях. Так в иконопочитании возникает вопрос о способах выражения почитания икон (поклонение, лобызание, возжение свеч пред иконами и проч.);—вопрос об изображениях, изваянием доставляемых, и мног. друг. Известно, например, что латинская церковь употребляет, безразлично как живописные изображения, так и изваяния; православна же церковь, но мысли митрополита Филарета, только терпит статуи в церквах, и должно прибавить—едва ли не как украшение только, но не как предметы почитания. Точно также и тот элемент неизменной дисциплины, который
— 190
составляется из прямых указаний находимых в Писании, требует разграничения в отношении к силе обязательности. Есть указания, имеющие значение только свидетельства об историческом факте, и есть действительные указания на дисциплинарные нормы; а в указаниях второго рода должны быть различаемы — указания обусловливаемые состоянием первобытной церкви, и потому могущие служить в качестве только аналогии, и указания долженствующие быть принятыми как нормы. Иное дело, например, повеление о том, чтобы епископ был трезвон, целомудрен, и иное—чтобы он был единые жены муж. Первое повеление непременно во всяком смысле; второе непременно, но не в смысле обязанности каждого епископа быть в брачном состоянии. Равным образом и отменение дисциплины, данной в Откровении, в этом вопросе должно видеть не в том, что в настоящее время нет ни одного епископа, находящегося в брачном состоянии; но оно было бы в том, если бы брачное состояние было объявлено не достойным для епископа состоянием, не совместимым с епископством но существу, оскверняющим благодать хиротонии, а не просто неудобным но настоящему состоянию вещей, без отрицания того, что в иные времена это неудобство не будет существовать, а потому не будет признаваться тогда и законным препятствием к епископату, как это не признавалось ранее 55). Однако же к области неизменной дисциплины должны быть относимы не исключительно те каноны, которые связаны с истинами теоретическими, или правой верой, непосредственно основаны на этих истинах, служат к их охранению и т. д. Сюда же, к части неизменной в дисциплине, должны быть причисляемы и те каноны, которые состоят в прямом соотношении с практическими истинами, данными в Откровении,
55) Современное безбрачие епископов есть обычай. „По общим юридическим законам, при отсутствии писанного закона, обычай имеет силу правила“—говорил преосв. Иоанн Соколов. Но какого правила непременяемого, или равного с другими правилами изменяемой дисциплины—в ответ на это нужно припомнить слова Златоуста, приведенные выше относительно того, что мы в праве требовать от епископа и что— не в праве.
— 191 —
или выражают собою эти истины. Подобно тому, как истины теоретические нередко в течении истории были предметом неправильного понимания или искажения: так точно и истины практические, неоспоримые и неоспаривающияся в выражении, данном им в Откровении, бывают оспариваемы в приложениях, которые они должны бывают иметь в жизни (ср. например убийство и всякое причинение вреда человеку как предмет запрещений Откровения и убийство на войне; ложь и обман в обычных жизненных отношениях и pia fraus при обращении к вере, гонение за оставление истинной веры и т. п. применения обмана и насилия). Церковь обладает непогрешимостью не только в определениях относительно веры, по и в области практической; в последней—в том смысле, что она не может дать что-либо противное понятиям морали Откровения, как не может и охранять своей дисциплиной что-либо такое, что противно таковой морали. Церковь, как формулировал Августин, „не одобряет (non approbat), не установляет и не совершает ничего такого, что идет против веры или против доброй жизни“, а не против одной только веры. Отсюда к составу неизменной дисциплины должны быть причисляемы и многие из таких канонов, которые, по-видимому, не имеют никакой связи с основами церкви. Таковы каноны против отрицающих брак, как и каноны осуждающие тех, кои думают будто не действительно совершение Евхаристии женатым священником. В существе дела такие каноны суть непременные: ибо они хотя и не имеют отношения к истинам веры, но они исправляют искаженное понимание нравственно — практической истины, данной в самом Откровении; и потому церковь не допускает изменения дисциплины, охраняемой этими канонами, дабы идея святости брака, совершенного достоинства брачных священников и т. п.—не была заменена дисциплиной эту идею ослабляющей или же поощряющей идеи противоположного характера. Сюда, к этой дисциплине, которую мы сейчас назвали ослабляющей идеей Откровения о данном вопросе, можно относить, например, обязательное безбрачие священников, как дисциплину поддерживающую идею несовместимости брачного состояния с высо-
— 192 —
той служения пастырского и в дальнейших своих выводах искажающую коренные воззрения церкви на важные вопросы нравственной жизни. Канон Гангрского собора, воспрещающий детям „под предлогом благочестия оставлять своих родителей и не воздавать подобающей им чести“, также очевидно есть канон неприкосновенной дисциплины: ибо он охраняет нравственную заповедь, данную в Откровении 86). Но если в дисциплине существует такая сторона, которая никогда, ни при каких условиях не может быть изменяема, то теперь следует вопрос: что же и при каких условиях в дисциплине может быть изменено?
Поставляя себе этот вопрос, мы, однако должны оговориться, что при решении его будем изъявлять притязание не на то, чтобы указать идеальную схему церковной дисциплины, или то как должна быть эта дисциплина, а лишь попытаемся установить те правдоподобнейшие выводы, к которым, по нашему мнению, должно вести историческое наблюдение над ходом церковной дисциплины. Иначе сказать, какая-нибудь теория здесь может быть и будет только исторической теорией.—Прежде всего должно заметить, что в древности,—когда установления дисциплинарные подвергались, относительно говоря, большему колебанию, чем теперь,-весьма не одобрялось однако изменение дисциплины ничем не вызываемое, ни на чем не обоснованное. Блаж. Августин, например, считал „нестерпимейшиы неблагоразумием“ (iusolentissiwa insonia) оспаривать то, что соблюдает вся церковь“; отсюда вытекало и уважение к тому принципу, который в древности выра-
56) Прав. 16. Наша Книга правил, передающая подлинные выражения канона: προτιμωμένης δηλόνοτι παρ αὐτοῖς τῆς θεοσεβείας таким образом, что как будто бы канон указует случай, когда верные и освобождаются от почитания родителей („впрочем, правоверие да будет ими, детьми, соблюдаемо предпочтительно“), явно делает перевод неточный. О сем см. Hefele, Concîliengeschich. В. 1, S. 916. Грациан (Migne t. 187, ρ, 164—5) приведенное греческое выражение переводит: quod scilicet divinitus cultus apud ipsos omnibus rebus praeteratur - и этим показывает, что выражение это составляет мысль собственно евстафиан,—именно тот самый „предлог благочестия4', которым они оправдывались в нарушении заповеди о почитании родителей.
193
жался: „установления предков“ (Августин): «от отцов прияли“ (Василий Вел.) и т. п. Но тем не менее в древних дисциплинарных правилах совершенно явственно различимы: элемент обще-церковный и элемент частный. В свою очередь в этом последнем может быть различаем элемент поместный, обусловливаемый только не повторяющимися обстоятельствами места, и—элемент случайный. Соответственно атому может быть различаема и так называемая каноническая важность древних церковных правил: в ряду правил каждого, даже вселенского, собора можно намечать а) правила именно этого условного характера,—правила, которые поэтому имеют значение скорее как исторические факты, чем как законы вселенской церкви, и б) правила действительного законодательного значения 57). Существование в принятом каноне древности, а следовательно существование в древности вообще, таковых местных и условных правил, как мы упоминали, признается и в нашей Книге правил. Но дело в том, что таковых (местных и условных) должно будет при-
57) Известный о. Владимир Гетте рассуждает: есть „существенное различие между теми канонами (древности), которые возлагают обязательства всеобщие и постоянные, и теми, которые заключают в себе постановления лишь местные и переходные. Эти последние необязательны для всех церквей. Первые, напротив, должны иметь приложение повсеместно, и служить основанием для частных узаконений, которые епископы (всех времен и мест) имеют право установлять“. (Вера и Разум, 1887 г. № 19). Это мнение, что многие каноны древности — несомненно условны, оправдывается самой древностью; но условность эта все-таки видима лишь путем сопоставления одних канонов с другими и при помощи их чисто исторической интерпретации. К сожалению, до настоящего времени не сделано путем официальным того вывода, который делается упомянутым, поистине православным богословом, именно, что местные каноны древних церквей не обязательны для всех церквей последующих времен; - не обязательны конечно, если обязательность разуметь как употреблено по букве,—как ото большею частью и понимается,—а не усвоение канонов этих как указующих только, чрез свою условную букву, на общие нормы, или так сказать дисциплинарные принципы и идеалы древней церкви. В обязательности же, понимаемой в этом последнем смысле, едва ли когда кто сомневался, как едва ли можно сомневаться и в том, что из всякого древнего местного правила можно вывести какое-либо общее положение.
— 194 —
знать гораздо более, чем сколько их здесь отмечено, и, следовательно, область изменяемого в дисциплине возможно будет признать более обширною, чем сколько это у нас обычно намечается. К сему прибавим, что должно быть признаваемо и существование в древней церкви исключительных правил, которые поэтому на современном языке должны бы назваться административными распоряжениями в отличие от канона как нормы постоянной. Так митр. Филарет признает исключительный характер за 6 Сардикийским правилом, между прочим запрещающим ставить епископа в малый город, а также за некоторыми брачными правилами древности 58). Вопрос об изменяемости правил последнего рода стоит выше всякого сомнения, так как условность подобных правил совершенно очевидна. Ибо что такое, в самом деле, будет, например, малый город древности—решить это точно в целях руководствования для позднейших времен будет затруднительно. Образцы того, как бывает очевиден местный и временный элемент в древних правилах, можно видеть в следующем. Существовали правила запрещавшие совершать крещение в иные дни, кроме так называемых крещальных сроков, т. е. Пасхи, Пятидесятницы. Лаодикийское правило 45-е дает указание такого рода: „по двух седмицах четыредесятницы не должно принимать ко крещению“, а 46 определяет, что в пятый день седмицы ищущие крещения должны о своих познаниях в вере давать ответ епископу. Забудем на время условия крещения в древности, и мы можем принять первое правило так, как будто бы остальные дни недели четыредесятницы есть время, запрещенное для совершения крещения; между тем правило указует такой срок лишь в предостережение от легкомысленных обращений к вере людей, не научных в ней. Исполняется ли теперь это правило, а если не исполняется: то неисполнение его есть ли свидетельство о разрушении древней дисциплины? Очевидно, что правило даже не может исполняться, ибо прозелиты, если таковые окажутся, крестятся
58) Письма к Муравьеву, стр. 643.
— 195 —
во всякий срок. Второе правило могло быть осуществляемо только при прежнем порядке, когда распорядителем крещения был исключительно епископ; а подробность относительно пятого дня неделя есть подробность чисто археологическая, допускающая различные толкования, ни с чем действительно относящимся к дисциплине не связанная; и руководственный из этого правила вывод, возможный теперь, будет лишь тот, что должна быть уверенность в знании веры прозелитом. И этот вывод не будет выводом разрушительным по отношению к правилу древнему: ибо несомненно, что такова именно была цель правила. Но затем не все ли равно будет, если удостоверение в этом произойдет не чрез опрос прозелита в пятый день недели, а как-нибудь иначе? О 15 правиле Лаодикийского собора мы упоминали, и в понимании его как вызванного некоторыми условиями только Лаодикийской церкви и лишь этим условиям удовлетворявшего, должно будет скорее согласиться с археологами, чем с толкованиями древних греческих канонистов; и оно во ipsoуже теряло значение, как скоро перешло за пределы древней лаодикийской церкви. Как, однако легко неизменное и существенное в канонах смешивается с условным, пример этого можно было видеть в недавней попытке обратить это Лаодикийское правило в правило всеобщее, для ограничения вводимого у нас общего пения. Бывает, впрочем и наоборот: безусловное правило древности в последствии иногда обращается в условное, как это должно заметить о том из гангрских правил, которое заповедует неоставление родителей под предлогом благочестия: известно, что по духу последующих установлений обещание отречения от семейных связей, и следовательно родительских, не почиталось противным христианской дисциплине, если уже при вступлении в монашескую общину заявление об этом отречении подразумевалось или явственно выражаюсь. Каноны, подобные указанным из Лаодикийских, никогда не были отменены изданием церковного узаконения; но это было бы даже излишне.— Местный характер в иных правилах бывает чрезвычайно ясен, и вопреки всякой теории обязательности древнего канона, иные правила уже издавна tacito consensu мест-
—196 —
ными и признаны. Какой смысл, кроме исторического, могут иметь каноны Лаодикийские же — о том, что „подобает в субботу читать и Евангелие с другими Писаниями“ (пр. 16)? А также и правила 17—19, касающиеся порядка в богослужении, теперь уже измененного, ибо теперь оглашенных нет, кающиеся не составляют класса особого от верных и т. д.? И какое современное литургическое действие могло бы быть признано нарушением одного из помянутых правил, запрещающего „псалмы совокуплять непрерывно*, и рекомендующего прерывать их чтениями, когда теперь псалмы и чтения уже не составляют между собой заметного различия? — Отменения некоторых правил древней богослужебной дисциплины иногда должны бы казаться чрезвычайно удивительными, если бы можно было отвергать свойство условности, присущее вообще многим сторонам древней дисциплины, — условности с первого взгляда не всегда заметной. Так, апостольское 9-е правило повелевает отлучать от общения церковного всех, „не пребывающих на молитве и святом причащении до конца“. Но известно, что в наших монастырях лица, находящиеся в работных должностях, требующих срочного труда, слушают утреню только до кафизм: составляет ли это нарушение правила? Антиохийское 2-е запрещает уклонение от молитвы „вместе (ἅμα) с народом“; следовательно, правило это может считаться запрещающим всякую сепартную молитву, каковая однако считается позволительной теперь в некоторых родах отшельнической жизни. Временность указанных правил состоит в том, что тогда это отклонение от молитвы вместе с народом составляло беспорядок, неприличие, причем—очень возможно, что апостольское правило имело в виду исключительно день воскресный, как безусловно для всех обязательный день молитвы. Некоторые церкви в древности позволяли себе, по-видимому, такие отступления от ясно выраженных канонических положений, что эти отступления будут положительно не объяснимы с той точки зрения, с какой неизменность канонов стала пониматься в последствии. Такова, например, практика александрийской церкви после первого вселенского собора: как известно в Александрии пресвитеры лишены были права проповеди
— 197
вопреки ясному смыслу 58 апостольского правила. Таковы же два правила Карфагенского собора 390 года: одно из них воспрещает пресвитеру не только совершение мира, но и освящение дев, и открытое примирение кающихся с церковью (по Книг. прав. 6). другое узаконяет: находящегося в опасности болезни и просящего о примирении себя со святым алтарем в то время, когда епископ отсутствует,—не примирять пресвитеру без разрешения епископа (прав. 7). Ясное дело, что эти правила, вызванные быть может, особенными условиями карфагенской церкви, не могли уже держаться и не держались в те времена, когда стали образовываться церкви без постоянного личного присутствия епископа, с одним пресвитером: правило, говоря о примирении находящихся в смертной опасности, очевидно, предполагает возможность скорого сношения с епископом. Лежала ли в основе правила мысль о таком порядке, как о всеобщеобязательном? А второе правило Трулльского собора, „утверждая“ —как обычно выражаются— такое правило, отрицало-ли возможность иного порядка— даже обратного 6 правилу карфагенскому? Между тем этот, обратный карфагенскому, порядок почти одновременно существовал в Константинополе и явственно проявлялся в должности пресвитера духовника, который, конечно, и совершал примирение кающегося. В настоящее же время порядок 6 — 7 карфагенских правил, разумеется, абсолютно не исполним по причине совершенного изменения понятия о парикии, как об относительно полноправной части вселенской церкви с епископом во главе: таковой относительно полноправной частью теперь стала не парикия, где распорядитель дисциплины есть пресвитер, как предстоятель, а епархия. И в то же время должно прибавить, что в настоящее время, наряду с древним порядком обоих видов, существует третий порядок, с первыми имеющий мало общего. Так в окрестностях Афона поселяне исповедуются, и следоват. получают примирение, не у приходских священников, а ходят на Афон к монахам, так как священники почитаются не имеющими права исповеди. От этого большинство народа исповедуется очень редко, а иным и во всю жизнь не удается исполнить долг исповеди: это тем, которым нет воз-
— 198 —
можности быть на Афоне. Другие примеры временных канонических определений. Известно, что отцы VII всел. собора запретили под страхом анафемы всякое участие светской власти в назначении епископов на те или другие кафедры. Является вопрос: „ужели и это определение имеет обязательную силу для всех времен и мест, и все нарушители его подлежат анафеме“? 59). Дать на это
59) Соловьев, „История и будущность теократии“, L 18. Существует однако мнение, которое сводится к тому, что дисциплинарные определения вселенских соборов, даже такие, кои не связаны с догматом и истинами Откровения в отношении к силе их обязательности, должны быть оцениваемы не по их предмету или содержанию и не но тем историческим обстоятельством, которые их в свое время вызвали, а исключительно с точки зрения преимущественной важности вселенского собора пред всяким поместным, вследствие чего по-видимому никак не может возникать и поставленный вопрос; иначе—не может быть сомнения в том, относительно или безотносительно должно быты принимаемо указанное решение VII-го вселенского собора по вопросу об участии светской власти.—Так преосвящ. Сильвестр „значение вселенских соборов в церкви по управлению делами церковного благочиния“ определяет таким образом: „решения их имели значение законоположений не предполагающих уже какого-либо нового перерешения их“, в пример чего приводится решение І-го вселенского собора по вопросу о праздновании Пасхи (см. Труды Киев. Дух. Академии, 1887 г., Октябрь, стр. 173—176). Отсюда, разумеется, следует, что в области дисциплины все, что составляет явное отступление от определений вселенских соборов, существует только как злоупотребление, но не по праву на существование. — Но, по нашему мнению, и в дисциплинарных определениях даже вселенских соборов нужно различать также общий элемент от местного, или различать определение касательно вопроса относящегося ко всей христианской церкви, от вопроса для известного случая и места; и это тем более нужно, что на свою собственно дисциплинарную деятельность в тех, по крайней мере, предметах ее, которые не были связаны с догматами, и сами вселенские соборы обыкновенно смотрели как на деятельность дополнительную к догматической, о чем была речь в первой главе. Вселенские соборы, очевидно, совмещали в себе деятельность двух родов: деятельность собора чисто поместного (например, собора Константинополя, Никеи и всех тех мест, епископы которых собирались на собор, словом—как это было в эпоху до—вселенских соборов, когда каждый собор был местным, а постановления его—постановлением обязательным лишь для участвовавших в нем) и собора вселенского в принятом смысле слова; и потому всякий вселенский собор решал иные вопросы в качестве первого, а иные и в качестве второго. Так
— 199 —
ответ утвердительный значило бы признать незаконной иерархию всех почти православных церквей и потому признать их лишенными благодати священства. Но принятие этого соборного определения не создает никаких затруднений, ни теоретических, ни практических, если никогда не упускать из виду того обстоятельства, что это определение очевидно относится к категории временных, которые имеют значение только при тех же исключительных обстоятельствах, которые имели место прежде
думаем на том основании, что о некоторых вопросах, решавшихся на вселенских соборах, трудно было бы сказать, почему их не мог бы решить и всякий поместный собор, если бы они сделались предметом его обсуждения; а если иные вопросы и решались на вселенских соборах, то потому только, что представляли собой одинаковый интерес для многих местностей. Ужели, например, поместный собор не мог бы постановить такого правила в отношении к благоприличию пастырской жизни, как запрещение клирикам взимания лихвы и роста? Действительно, такое правило делали вселенские соборы I, 17, VI,—10; но делали и поместные (Карфагенский и Лаодикийский) и даже отдельные епископы. Правда, постановление на вселенских соборах в подобных случаях обыкновеннее всего рассматривается как утверждение правила, сделанного на поместном соборе, так что до этого утверждения правило казалось как будто бы не твердым. Но смотреть на дело так — едва ли справедливо: во-первых, Лаодикийский и Карфагенский соборы были уже позднее І-го вселенского собора, следоват. никакого утверждения здесь уже не было, и ранее подобное I, 17 правило встречается уже в апостольских Постановлениях и Прав. апост. 44, а во-вторых никакой вселенский собор даже не мог бы не утвердит такого правила, или поставить что-либо противное приведенному правилу относительно дисциплины клириков, ибо допустить противное тому, что запрещал уже Лаодикийский или Карфагенский собор, значило бы поощрять нечто несообразное с нравственностью по тогдашним понятиям. Если же действительно одинаковое правило относительно этого предмета встречается и на раннейших поместных и на позднейшем вселенском (VÏ, 10), и, следовательно, возбуждается один и тот же вопрос и тут, и там: то это потому, что, сделавшись вопросом одной местности и будучи решен как местный, тот же вопрос оказывается беспокоившим и многих других пастырей, собравшихся на соборе вселенском, и потому—он снова решается и на этом последнем. Невозможность же нового перерешения этого вопроса после вселенского собора происходила не от того, что этот вопрос о ростовщичестве рассматривался на вселенском соборе, а от существа дела, связанного с основными понятиями христианской этики.
200 —
в Византийской империи; и запрещение должно будет прилагать к участию светской власти в той самой форме, которая имелась в виду отцами, издавшими грозное запрещение. Особенно наглядно каноническая условность, как мы отчасти упоминали, проявляется в 29 правиле VI всел. собора. Отцы собора здесь признают и а) основательность, по которой ранее в другом месте действовало правило с противоположным смыслом: речь идет о причащении в Великий четверг людьми ядшими, как то допускалось в Карфагене и санкционировано прав. 48 Карфагенского собора. Вселенский собор допускает, что Карфагенский собор, „быть может по некоторым местным причинам, полезным для церкви, учинил такое распоряжение“. Но в тоже время отцы VІ-го собора признают и б) минование надобности в сохранении такого правила долее, по отсутствию причин к такому сохранению: в настоящее время, рассуждали отцы, „ничто не побуждает оставити благоговейную строгость“ в решении вопроса, которой (строгости) не держалось раннейшее правило. Но вводя теперь благоговейную строгость, отрицают ли отцы возможность возвращения к полезной снисходительности? Если судить по аналогиям, то должно сказать—нет: ибо мы знаем, что строгость того же собора относительно другого вопроса (совершения в Великий пост исключительно литургии преждеосвященных) понимается как не исключающая, при уважительных обстоятельствах, и полезной снисходительности (Филарет); и если в действительности, быть может, никогда не окажется места для приложения этой снисходительности: то только потому, что не может оказаться надобности в ней, то есть надобности в ядении пред литургией Великого четверга. Подобные случаи поправления предшествующей дисциплины уже сами по себе доказывают, что предшествовавшая дисциплина рассматривалась как во многом условная, не взирая на всю авторитетность, освящавшую эту предшествовавшую дисциплину: иначе, как бы например возможна явная поправка VІ-м вселен. собором (прав. 12) правила почитаемого апостольским (прав. 5) и притом поправка по таким соображениям, которые могут казаться соображениями уничтожающими достоинство правила апо-
201
стольского? Ибо, не будем упускать из виду, что поправление собором делается в попечении „о преспеянии людей на лучшее“,—в заботе о том, чтобы „не допустить какого-либо нарекания на священное звание“, как будто бы апостольское правило допускало нечто не совсем совершенное или нечто наводящее это нарекание! Ясно, что собор понимал дело так: при изменившихся условиях времени совершенно основательное для своего времени определение, заключенное в правиле апостольском, теперь стало, так сказать, не отвечающим иным воззрениям иного времени, ибо „изгнание жены“ в эпоху происхождения пятого апостольского правила было следствием проявившегося тогда ложного взгляда на благоговение,—вследствие чего и запрещение такого изгнания было лишь восстановлением взгляда правильного, долженствующего руководить верных. Но на основании того, что совершенно удовлетворительное решение вопроса в правиле апостольском сделалось не достаточным для эпохи Трулльского собора, едва ли можно будет утверждать, что последнее перерешение, т. е. Трулльского собора, уже принципиально будет исключать возможность нового возвращения к идее пятого апостольского правила. Ибо иначе оказалось бы, будто церковь когда-нибудь разделяет ту неправильную точку зрения на брак, которая вызвала 5-е апостольское правило, или что порядок древний (брачное состояние епископов) был каким то порядком ошибочным, если не прямо ложным и погибельным; что истинные свойства лиц епископского сана как будто были не поняты древней церковью; и что ее понимание, допускавшее возможность такого порядка, было противно тем основным требованиям от лиц епископского сана, которые ясно выражены в Писании, больше которых однако, напомним опять мысль Златоуста, в смысле всеобще обязательных норм, никто не в праве требовать от епископа (противное—означало бы как бы поправку самого Писания): словом—в таком случае, если бы с появлением 12-го правила трулльского считать этот вопрос ни при каких условиях снова уже не перерешаемым и вообще не подлежащим пересмотру, потребовалось бы признать множество таких положений, которые будут не согласны с
— 202
неизменными, действительно, началами жизни церкви. Если же, по-видимому, сами отцы собора признали порядок прежний несовершенным не относительно к потребностям их времени, а несовершенным безусловно: говорили, что новый порядок установляется „в попечении о спасении“, в заботе „о преспеянии на лучшее“; то самое же 12-е правило дает указание на то, как должно понимать это лучшее: как лучшее относительно ко времени, или лучшее безотносительно; оно заявляет, что делает нечто новое, однако же „не к отложению или превращению апостольского законоположения“, и следовательно старый порядок не признается худшим безотносительно. Но каким образом, однако установление какого-либо порядка, совершенно несогласного с прежним порядком, можно совместить с заявлением, будто и прежнее не отлагается? Очевидно это совместимо только в том случае, если прежнее изменяется, но не отменяется безусловно и навсегда, иначе— изменяется так, что признается потребность в изменении для данного случая, в известную эпоху времени, но без отрицания возможности существования и старого установления как не предосудительного. Конечно, установлением нового порядка иногда ео ipso отменялись и некоторые другие правила, косвенно связанные с правилами прежнего порядка, как правила уже излишние: например, с изданием 12, VI отменялось 44 прав. Карфагенского собора (о том, что епископ должен заботиться о своих детях). Но VI вселенский собор не налагая осуждения на это последнее правило как бы на какое-нибудь правило, выражающее противное церкви заблуждение, тем самым, нам кажется, еще более дает разуметь, что и его 12-е правило не есть канон неизменный, подобно определению, об иконопочитании!
Для сравнения можно прибавить: если бы всякое дисциплинарное определение, получившее или самое начало или только санкционированное на одном из соборов вселенских, нужно было понимать так, что в таковом, поелику оно есть определение вселенского собора, не заключается никакого временного или местного элемента; или иначе—если во вселенском соборе видеть только законодателя для всей церкви, отрицая в нем то, что им
— 203
делается одновременно как и собором поместным (с нравами поэтому принадлежащими собору поместному, следовательно ограниченными в некоторых вопросах); то приходилось бы, как мы отчасти упоминали, на основании, например, 59-го правила VI всел. соб. признавать в настоящее время множество случаев крещения недействительными, потому что правило это запрещает крещение вне храма. Самое же правило пришлось бы признать несогласным даже с требованиями Писания, не говоря уже о древней церковной практике; ибо где в Писании указано, что для крещения не всякое место, где найдется вода, годно? Или еще: VII вселен. соб. правило второе определяет, так сказать, образовательный ценз для епископа в такой формуле: „непременно знати псалтирь, а также и испытывать, имеет ли усердие с размышлением читати священные правила и все Божественное Писание“ и т. д. Если бы какая-либо частная церковь (как это, например, делает церковь российская) установила бы какой-нибудь иной больший ценз для образования епископа: то таковая должна ли быть признаваема нарушительницею правил вселенского собора? Если не позволительно рассматривать определение вселенских соборов иначе как законы вселенской церкви, то, конечно, ответ должен быть утвердительный. Но дело в том, что это последнее правило и может—по нашему мнению—служить типичнейшим показателем того, сколь много в правилах вселенских соборов заключалось на самом деле решений чисто поместных вопросов, и—следовательно—сколь много даваемо было местных правил, не назначавшихся к всегдашнему и неизменному приложению. Сюда же относим: 20-ое правило VI всел. собор., запрещающее всенародно учить епископу в ином граде, ему не принадлежащем. Правило это очевидно должно допускать некоторые исключения теперь, как например: пребывание на покое, по повелению власти; — не говоря уже о том, что форма этого соборного определения теперь не приложима и в том отношении, что епископу стали „принадлежать“ не город, а многие города. Правило, конечно, имело в виду тогдашние обстоятельства местные, когда случалось, что пришлецы проповедывали в ином городе к унижению учительских
— 204
способностей местного епископа, и с целью заявления своих способностей и талантов; а это составляет существенную разность от условий, например, современного нам проповедничества. Вообще, не опасаясь впасть в преувеличение, можно сказать: затруднительно даже и перечислить все каноны с этим явно временным назначением, то есть, назначением, которое заключалось в том, чтобы привести в порядок какое-либо явление созданное чисто историческими условиями или отдельными фактами, которые иногда явно даже и не могут повториться. Ясно, что все подобные каноны—отменены силою самых вещей, как более уже ни для чего не нужные, как не нужен становится мост, когда исчезла вода...
В отношении к вопросу об изменяемости канонов важна и любопытна история 64-го апостольского правила. Оно показывает, что и канон, по-видимому имеющий совершенно безусловное назначение неизменного закона, однако иногда претерпевал и отчасти продолжает претерпевать изменения именно потому, что в течение всей истории для всех было ясно, что канон этот составляет часть дисциплины изменяемой и назначения безусловного в действительности не имеет.—Правило это запрещает пост в день Господень и в субботу, кроме единой только Великой субботы. Ныне, как известно, много дней воскресных и субботних включены в число дней, не изъятых от поста, и допускается в иных случаях только ослабление поста; но во всяком случае не возможно отрицать, что теперь пост существует во многие из дней воскресных, в явное, по-видимому, нарушение указанного апостольского правила. Причиной положительного запрещения апостольским правилом поста в эти дни, с точным указанием исключения из правила, были еретические обычаи (например манихеев) поститься именно в эти дни, что в свою очередь у еретиков связывалось с их теоретическими заблуждениями 60),—тогда как но понятиям православных эти дни суть дни радости, а как выражение радости и понималась свобода от поста (ана-
60) Bingh. Origin. vol. IX, p. 37.
— 205 —
логия с непреклонением колен) 61). По апостольским Постановлениям, субботу и день Господень должно почитать днями празднования: первый—как день завершения творения, а второй—как день воскресения, что именно, как раз наоборот, некоторые еретики считали причиной для поста, ибо мир почитался началом зла, а в воскресение Господа манихеи не верили. Но как долго апостольское правило понималось буквально без возможности новых подразумеваемых исключений, или без такого толкования, что в указанные дни разрешается собственно строгая степень поста, и что обязательность апостольского правила должно почитать ненарушенной, как скоро суббота и день Господень становятся днями лишь и относительного разрешения от поста, а не днями полной свободы? В хронологическом порядке последнее историческое свидетельство, дающее разуметь о существовании буквального понимания апостольского правила, есть 55-ое правило собора VI вселенского: правило это осуждает римлян за то, что они „во святую четыредесятницу в субботы ее постятся вопреки преданному церковному последованию“. Правило слишком явно дает разуметь то, как вселенский собор понимал 64-ое апостольское, ибо на него-то он и ссылается как на запрещающее пост в субботу четыредесятницы. Отсюда можно заключать также, что дни воскресные и в Риме, отступившем уже от апостольского правила по отношению к субботе, в течении четыредесятницы однако не были днями поста. По в то же время нельзя не заметить, что отступления от буквального применения правила апостольского начались и очень рано. Так перечисляя дни поста и дни от поста свободные—в какие дни „пост не установлен“,
61) Что в древности понятие празднования считалось не совместимым с постом, это видно, например, из Постановлений апостольских: о Великой субботе здесь читаем: „одну только во всем году субботу вы должны соблюдать (выше речь шла о постах среды и пятка), именно ту, в которую Господь погребен; в эту субботу прилично поститься, а не праздновать, ибо доколе Творец находился под землею, пригоднее сетование о Ном, нежели радование о творении“ (ср. выше). Книга VI, 23, русск. перев. стр. 221.
206
или когда „поститься не позволено“, Епифаний Кипрский в IV в. говорил: „четыредесятницу церковь имеет обыкновение соблюдать, проводя ее в посте, но в воскресные дни не вполне, даже в самую четыредесятницу. Но по доброму изволению подвижники церкви постятся постоянно кроме воскресного дня и пятидесятницы, так как в воскресные дни церковь не постится“. Очевидно, что во времена Епифания понимание апостольского правила уже было несколько превышающее буквальный смысл этого правила: о субботе как о дне разрешающем пост—нет упоминания; и кроме того—в четыредесятницу день воскресный лишь только облегчался в посте, но не „вполне“ исключаем был из дней поста, а основанием отступления от буквального смысла апостольского правила было доброе изволение поститься постоянно. Ha основании одного канона Гангрского собора можно думать, что то, что Епифаний называл добрым изволением“, вследствие которого иными не признавалось, что суббота не должна быть обязательным днем поста,—еще более стало распространять круг своего действия в IV веке, перешедши и на день воскресный по тем побуждениям, что усиление поста до степени поста без всяких исключений было почитаемо за никому не воспрещаемый подвиг (διά νομιξομίνην ἄσνηαιν) 62); и вероятно указания апостольского правила принимались уже только лишь как указания наименьшего из того, каким постом обязуются все христиане. Но собор одинаково воспрещал отступления от дисциплины как в ту, так и в другую сторону — в смысле распространения поста (пр. 48), как и в смысле произвольного нарушения его (пр. 19) разрешением себя от постов „преданных к общему соблюдению“. Но является вопрос: каким же образом правило совсем не местного происхождения, основанное на древнем общем предании церкви,—если уже не разуметь под именем „апостольского“ правила правило постановленное самими
62) Русский перевод Книги правил: „ради мнимого подвижничества“— едва-ли совершенно правилен; нет причины не переводить и так: „потому, что это считалось подвижничеством".
— 207 -
апостолами, — могло быть нарушено отдельной церковью (разумеется римская церковь), бывшей в догматическом и иерархическом единении со всей церковью? а еще важнее вопрос: каким образом оказалось, что „личное произволение“, о котором говорит Гангрский собор, могло не следовать правилу с именем апостольского? К сказанному можно прибавить еще и то, что Иероним выражал желания, из которых явствует, что он как будто бы даже не знал, что произволение и в посте имеет уже свою регламентацию. Он, например, говорил: „о, если бы мы во все дни могли поститься“! и пример этого вседневного поста видит в апостоле Павле и верующих, постившихся с ним в день Пятидесятницы я в день воскресный.—Но объяснение такого раннего, сравнительно, отступления от того, что кажется не подлежащим изменению, скрывается в том, что в сознании христиан первых времен была совершенно ясна причина первоначального происхождения правила, безусловно запрещавшего пост в субботу и в день Господень, именно—что запрещение это обязано своим происхождением еретическим тенденциям времени появления правила. Этим мы не хотим, сказать того, что самая идея о дне Господнем как о дне радования, несовместимого с постом, как выражением печали (ср. выше апост. Постан.), выступила лишь в то время, когда появились люди проповедовавшие, что день воскресный или суббота не могут быть днями радования; иначе—не хотим сказать, что эта идея обязана своим существованием лжеучению манихейства. Но определение о не—пощении в эти дни явилось, несомненно, как одно из средств противодействия утверждению идей чисто манихейских. С ослаблением же самой произведшей правило причины, то есть ереси манихейской и ересей сродных с ней, постепенно забывалось и самое запрещение, причем стали выступать и оказывать влияние на церковную дисциплину другие идеи, тоже несомненно и чисто·—церковные (не еретические), которые в эпоху противодействия манихейству, однако, как бы отходили на второстепенное место; это именно та идея, что пост не есть только символическое выражение печали, но что он и сам по себе имеет великое педагогическое значение—
— 208 —
значение средства, ослабляющего греховные поползновения в человеке. Отсюда—мысль, что пост полезен постоянный, по крайней мере по возможности больший; и неудивительно, что при ослаблении причин появления апостольского правила последнее понимание происхождения и целей поста оттеснило в свою очередь идею о том, что известные дна должны быть непременно изъяты от поста как дни особенного радования. Трулльский собор, сообразно обстоятельствам и условиям своего времени, напоминал уже идею последнего порядка. Но и она, позднее, снова должна была уступить идее полезности возможно большего поста: разумеем то обстоятельство, что не смотря ни на апостольское правило, узаконявшее пост в единую только субботу, ни на трулльское правило,—позднейшая практика распространила пост и на многие другие субботы и даже на дни Господни (у нас Воздвижение, Усекновение главы Иоанна Предтечи, субботы и воскресения четырех годовых постов).—Но не колеблется ли однако этим дисциплина церкви и не обнаруживается ли здесь того, что церковь становится неравною сама себе? Нет, ибо как пост есть средство нужное лишь для человека (ср. замечание Августина), так и дни изъятия от поста опять нужны лишь для него же только. Церковь же издавая как правило, запрещающее пост в дни указанные в апостольском правиле, так и устраняя ослабление этого правила, очевидно сообразовалась с состоянием человека данного времени, ограждая его то от манихейства, то от возобладания телесной распущенности, которая могла сделаться угрожающей тогда, когда манихейство, наоборот, уже перестало быть таковым. Равенство же церкви самой себе обнаруживается в том, что как разрешение поста в известнее дни не означало теоретического отрицания педагогического значения поста, так и позднейшее обращение некоторых дней в дни поста не обозначало того, чтобы церковь в самом деле начинала поощрять идеи манихейства: истина теоретическая и тут, и там оставалась неприкосновенной и ложью не обладаемой. Ибо ни одно из сравниваемых правил не заключает в себе ни принципиального отрицания поста, ни обречения человечества на исключительное состояние голода, как состояния
209 —
для человека, по самому свойству его организма созданного Творцом,—вредного и потому ненужного. Введение голода в качестве чего-то самого по себе составляющего лучшее и спасительное состояние человека и его заслугу, если бы это вошло в дисциплину церкви, было бы притязанием внести поправку к творению Божию. Но введение поста было отвечающим цели средством борьбы с испорченной грехом природой человека. Таким образом история 64 апостольского правила давала довольно ясный пример того, как в категорических определениях дисциплины, исходивших из авторитетных источников, открывается тот элемент, который не только можно, но и должно назвать временным; и как явственно отношение к подобным определениям было иное, чем ко всякой дисциплине связанной с залогом веры. Как далеко иногда пришлось бы заходить, если бы следовать теории, что местного элемента в древних правилах не существует, а всякий канон есть статья всеобщего закона,—укажем еще на одно из правил Карфагенского собора 419 года (по Книг. прав. 41). Правило это категорически объявляет, что какие бы то ни было клирики до своего поставления никакого стяжания не имевшие, если по поставлении своем купят на имя свое земли, или какие-либо угодия: то „да почитаются похитителями стяжаний Господних“. „Аще же что дойдет к ним в собственность по дару от кого-либо, или по наследию от родственников: с тем да поступят по своему произволению“! Никакие в древности правила не воспрещали ни епископу, никакому другому клирику иметь собственность и в том числе не движимую. Апостольское 40-ое правило даже нарочито ограждает личное имущество епископа от того, чтобы, по смерти его, „его имение под видом церковного не было растрачено,—епископа, имеющего иногда жену и детей, или сродников, или рабов“; и как мера ограждения личного имущества епископа указывается здесь приведение в известность того, что составляет его частную собственность и что собственность церкви. Вообще никакой церковный закон древности не требовал от епископа отречения от права общечеловеческого—права собственности, как не требовал и ни от одного из клириков по мо-
— 210
тиву тому же самому, какой указан в апостольском правиле. Но почему же в Африке одно из свойств владения собственностью—умножение ее приобретением, и один из видов собственности—недвижимая, к приобретению для клириков запрещены так строго? Очевидно это могло быть единственно по местным условиям, где или трудно было поддерживать раздельность между церковной и частной собственностью клирика, или самый факт приобретения свидетельствовал о корыстолюбии приобретателя: могло не быть даже и надобности в приобретении, если в Африке распространено было общежитие клириков, что особенно удобно было, если между лицами клира преобладали бессемейные, как эти общежития были в Милане; или же может быть в Африке всякое приобретение недвижимости уже само по себе, по редкости таких случаев среди людей в положении мало имущих клириков, клало тень подозрения относительно источников на приобретение;— словом—для издания правила могли быть причины, которых ни в каком другом месте не было, подобно как и теперь в русской церкви никаких оснований нет для того, чтобы клирик приобретший недвижимую собственность считался непременно похитителем церковного имущества. Поэтому в наши времена ни в русской, ни в другой какой православной церкви—никто и не покушался понимать карфагенское правило как всеобщий церковный закон: правило, очевидно, должно отнести к категории tacito consensu отмененных.
Наконец очевидность дела требует допустить, что если в числе правил соборов даже вселенских есть такие, которые поводом своего возникновения имели местные и временные обстоятельства, которым эти правила и послужили удовлетворением; то в то же время совершенно бесспорно, что многие из таковых правил результатом своим имели общее каноническое положение—тезис, не могущий принять какого-либо условного значения. Возможно ли допустить перерешение такого тезиса? Ответить на этот вопрос нужно с весьма многими ограничениями; и чисто утвердительного или, наоборот, чисто отрицательного ответа на это не может быть. Возьмем упомянутый прежде пример соборных решений относительно взимания сотых
— 211
лицами клира. Без сомнения относительно этого вопроса I вселенский собор дал не местное только решение, но общий канонический тезис (I, 17): должен быть извергаем из клира всякий „взимающий рост с данного в заем“. Но точно также однако, без всякого сомнения, вся российская церковь рост имеет не незначительным источником средств для покрытия своих надобностей, и в том числе надобностей самого высшего порядка: веропроповедывание и богословская наука... Ужели же наша церковь так явственно впала в каноническое преступление и не ищет даже, по-видимому, исправиться? Или же правило 17, I законно отменено законною властью? Ни то, ни другое, дело в том, что при так сильно изменившихся внешних и внутренних условиях жизни канонический тезис 17-го правила І-го вселенского собора оказался теперь как бы тезисом другого смысла, и это на столько, что едва ли нужно и доказывать. Ибо смысл взимания сотых в древности и в настоящее время далеко не тот же как в отношении к берущему в заем, так и в отношении к дающему. В древности заем был свидетельством о бедности берущего, давание в заем было свидетельством богатства и силы дающего; ныне— берущий не бедности своей пособляет этим взятием, а умножает свои богатства или по крайней мере свои достатки; дающий же—не всегда даст от силы, а иногда только от небольшого прибытка добытого тяжелым трудом и блюдомого на случай первых потребностей жизни и для надобностей, христианской этикой ни чуть не отрицаемых. Это, разумеется, не могло оказаться вне жизнепонимания церкви и канон (17, I) отменен в смысле того, что ограничено приложение его ко всякому случаю взимания сотых; но канон несомненно действует в приложении к тем самым условиям, которые действительно имелись в виду самим вселенским собором— именно в применении к ростовщичеству в бесспорном смысле слова, где взятие сотых становится бесспорным утеснением человека, находящегося в нужде. — Этот факт показывает, что наша церковь неизменность правил вселенских соборов принимает не как неприкосновенность и неперерешаемость их при всяких усло-
— 212 —
виях, хотя бы совершенно противоположных тем, для которых соборное правило издано; и—следовательно—церковь настоящего времени не отказывается от права обсуждения свойства наличных обстоятельств для того, чтобы определять ту форму, в которой вселенско-соборное правило должно быть прилагаемо; иначе: церковь наша понимает эту неизменность и неперерешаемость в том смысле, что в настоящее время не может быть постановлено решения противоположного уже данному в тех канонах вселенского собора, которые даны для руководства всей церкви, а не для одного частного случая или для какой-либо местной церкви. Например: раз вопрос о взимании сотых поставлен собором как предмет определенной дисциплины, то невозможно объявить его вопросом безразличным, церковной регламентации не подлежащим, как не подлежат этой регламентации другие подобные отношения между людьми (не запрещена, например, самая торговля, в которой вознаграждение за труд составляется разностью цены приобретения и продажи). Но нашей церковью очевидно признается, что дисциплина, хотя бы и данная вселенским собором, может быть изменяема в том случае, когда условия и обстоятельства издания канона перестали существовать, или изменились до того, что не только могут, но и должны быть признаны не существующими. В противном случае, что к сожалению, многие не хотят видеть, церковь, как мы замечали, должно было бы признать существующей как бы вечным самообольщением: каноны не нарушаемы, но только они — не соблюдаются! — И примеры канонов, относительно которых с необходимостью возникает вопрос, признавать ли их законно оставленными, или только по злоупотреблению человеческому не исполняемыми,—едва ли исключительные. На VI вселенском соборе обнаружено, что в Армянской стране в клир принимаются только те, „кои из священнического рода“ (прав. 33). Собор нашел, что „тако творити предприемлющие“—в этом случае— „иудейским обычаям последуют“. Но решив этим частный случай, собор вместе с тем высказал, очевидно, и общее начало: „отныне да не будет позволено при произведении кого-либо в клир взирати на род произ-
— 213 —
водимых“: „надлежит взирать только на достоинство производимых, хотя бы они происходили от посвященных предков, хотя бы нет“. Является вопрос: составляет ли нарушение правила вселенского собора тот порядок, долго, почти исключительно, действовавший в нашей русской церкви, по которому в клир фактически вступали лишь люди „священного рода“, с устранением людей других родов? Ибо практика наша образовала как бы некоторый круг: в клир могли вступать только люди прошедшие церковную школу, а школа эта была доступна людям только духовного же рода. Без сомнения, следуя своему порядку, наша церковь не нарушила канона вселенского собора и вообще не нарушала какого-либо неизменного правила церкви. Ибо в 33-м правиле вселенский собор решил вопрос имея в виду условия дела, бывшие в армянской церкви, то есть, тот именно способ принятия в клир, какой был в Армении, где, очевидно, единственным цензом для клирика и было происхождение, без внимания к другим условиям. Но приурочение состава клира даже и к роду, или вступление в клир из одного священнического рода, не составит отменения правила вселенского собора, если это будет вытекать из других соображений; например: когда сделается очевидным, что от этого приурочения основательно может быть ожидаема большая польза для пастырского служения вследствие приобретаемых такими кандидатами, по самому их происхождению, благих навыков, или же вследствие свойств приобретаемого, но принадлежности к священническому роду, образования,—тогда как другое образование, не сословное, как теперь это назовут, будет признано недостаточно соответствующим современным потребностям пастырского служения. Ибо и вселенский собор, определяя канон против армянского обычая, не исключил, однако и того, чтобы при решении вопроса о праве на вступление в клир принималось во внимание достоинство кандидата; или—точнее сказать: этот интерес личного достоинства, очевидно уже стесняемый приурочением кандидатства к роду, и был причиной, по которой собор происхождение объявил условием совершенно ничтожным при вопросе о вступлении в клир при наличности дру-
— 214 —
гих надлежащих условий. Если же оказывается, что достоинство кандидата вернее обеспечивается при ближайшем, хотя и неисключительном, приурочении клирического звания к роду, иначе—при том порядке, чтобы кандидаты на священство предпочтительнее были избираемы из семейств клириков же: то церковь наша своими порядками, не только не нарушала вселенского канона, но скорее блюла его в другой важнейшей и существеннейшей части,—тезис которой можно выразить так: в клир должны быть избираемы достойнейшие люди 63).
Отсюда теория изменения дисциплины, если ее основывать на обобщении исторических фактов, в главных чертах своих может быть выражена так: в дисциплинарных постановлениях церкви все элементы условные, то есть местные и временные, бывали в течении истории церкви, а, следовательно, могут быть и теперь, изменяемы. Мудрость церкви и богодарованные ей права в том и выражались, что все условное в дисциплине не
63) Должно почитать отмененным и 2-ое правило VІ-го вселенского собора. Правило между прочим запрещает всем христианам: „вступать в содружество с иудеями, ни в болезнях призывати их и врачество принимали их, ни в банях купно с ними мытися». Должно почитать так—потому, что правило касается внешнего быта; и если не понимать его только как регулирующее тогдашний быт и данное как средство противодействия пошатнувшимся нравам христиан VII века, то оно становится и но попятным и противоречивым по отношению к христианской дисциплине раннейших времен. Что правило это запрещает „ясти опресноки, даваемые иудеями", это всегда будет понятно: опресноки выражают религиозное общение. Но не понятно будет, если, повторяем, рассматривать правило абсолютно. Почему может быть преступно совокупное с иудеями мытье в бане, когда, как это например в настоящее время, общение в жизни людей разных вер никак не означает общения чисто религиозного? Общение в необходимых сторонах жизни с согрешившими и заблуждающимися ранее эпохи VІ-го собора не воспрещалось, по тому понятию, что христианину вредит общение во грехе и преступлении, но не в том, что все мы ходим по одной и той же земле и дышим одним и тем же воздухом. Но, конечно, это не могло же быть неизвестно собору, и поэтому должно признать, что для его времени были свои особые причины, по которым дано было для тогдашних христиан такое правило отношений к иудеям.
215
было удерживаемо во всех тех случаях, когда или явное изменение обстоятельств, бывших при первоначальном издании церковного постановления, делало сохранение старого порядка лишь без пользы усложняющим церковную жизнь;—или наоборот, когда это же изменение обстоятельств приводило к необходимости дать единообразный порядок тому, что доселе не было приведено к единообразию, будучи предоставлено влиянию особенностей местных условий; или же наконец, когда настаивать на сохранении первоначального установления было явной противностью природе дела, то есть, когда принятую дисциплину или изменяло, или отменяло само существо вещей. Напомним, например, вопросы о месте совершения крещения, о времени крещения, о чем древние определения ныне не могут иметь приложения вследствие того, что эти правила подразумевают совершенно другой строй жизни, чем это есть теперь. Правила, подобные правилу об удалении оглашенных из храма в известное время богослужения, или правило о неоставлении, даже на малое время, церковными слугами церковных дверей (Лаод. соб. прав. 43), теперь очевидно отменены по той же самой причине: ибо не стало ни оглашенных, ни нужды охранять двери церковные, а потому исчезла даже и самая должность придверника. Но правило относительно изведения оглашенных могло бы быть отмененным не только молчаливым образом (ибо есть, как это известно, много правил почитаемых правилами „вышедшими из употребления“, не употребляемыми более, но которые однако никогда не отменены никакой властью равной той, которая установила их), а даже и открыто, соответствующим церковным актом, на том основании, что этого уже требует другой принцип церковной жизни, который мы называли выше: это принцип пользы, в вопросе об изменении дисциплины получающий свое выражение в признании права „применения на лучшее“ всего того, что может требовать улучшения. Так удаление оглашенных было установлено, конечно, потому, что в древности существовала disciplinaarcana, вполне сообразная с положением церкви первенствующей. Ныне, когда церковь имеет господствующее положение, нет различия между disciplina arcana и дисцип-
216 —
линой верных. Сверх того, вследствие исчезновения отлучения, в обширных размерах практиковавшегося в древности, теперь равно присутствует в храме как верный в истинном смысле слова, так и такой, от которого именно в древности и были сокрываемы христианские тайнодействия для избежания возможного глумления над ними; присутствует и отрицатель не лучший язычника, если только еще любопытство современного неверующего повлечет его в места собраний верующих: там ему не только все известно, но и все скучно! Очевидно, что современные обстоятельства стали далеко не равны обстоятельствам древним, когда оглашаемого, как ищущего крещения, нельзя было приравнивать к верному: оглашаемый мог остаться в язычестве и сделаться предателем христианских тайнодействий, а отлученный древнего времени своим непозволенным появлением в храме мог смутить верующее общество. И потому это исчезновение теперь того, что составляло disciplina arcana, как причины указанных правил об изведении оглашенных, и исчезновение класса отлученных, очевидно, может быт признано совершенно достаточной причиной для того, чтобы могло последовать изменение самых правил богослужебной дисциплины и замены ее иными правилами, чем правило о ненужном охранении дверей специальными приставниками. А то обстоятельство, что теперь, вследствие всеобщего изменения религиозных нравов, не могло бы быть уже вреда даже и от присутствия в храме оглашенных или отлученных,—вреда, какой действительно мог быть от Этого в древности (но за то этот вред может быть от ослабления дисциплины в применении к нравам, действительные примеры чего и перечислить невозможно), может служить достаточной причиной к тому, если бы церковная власть настоящего времени сообразно с теорией, даваемой древностью, сделала строгое применение (ακρίβεία) древней дисциплины, относящейся к области собственно нравов и менее настаивала на неприкосновенности дисциплины, обусловливаемой исчезнувшими установлениями. Во всяком случае при вопросе о сохранении или изменении правил древней дисциплины, подобных указанному правилу Лаодикийскому, нельзя не заметить того,
217 —
что-то, что вызывало собою зло в древние времена и потому вызывало особые правила, имеющие служить к предупреждению этого зла, в другие времена может быть делом безразличным; но зато несомненно зло сеющим обстоятельством может быть нечто иное, чем это было в древние времена. По крайней мере нельзя доказать противного, например того, чтобы неохранение дверей христианских храмов от вхождения в христианские собрания людей худо или вовсе неверующих, грозило действительным вредом, если уже на прямую пользу от этого для распространения царствия Божия рассчитывать нельзя, и наоборот —чтобы в настоящее время не доставляло никакого действительного вреда ослабление древних правил, относящихся к дисциплине нравов.
Указанный сейчас пример относится к той специальной области дисциплины, которая имеет соотношение к литургическим (богослужебным) порядкам древности. Подобные же примеры можно указать в области порядков церковного суда. Известно, что по карфагенским правилам требуется, чтобы „на суде пресвитера слушали шесть епископов и свой, а диакона—три“, и только в особом случае по местной необходимости число епископов допускает уменьшение до пяти (по Книге правил, прав. 12. 29, ср. пр. 14). Если следовать той мысли, что все древние правила обязательны навсегда и для всяких условий всякой поместной церкви, то в отношении к указанному вопросу придется признать, что теперь в православной церкви нигде не исполняется одно из самых важных церковных постановлений, важных—потому, без сомнения, что вопрос о том, кто судит пресвитера, есть вопрос самой основы суда; а правило со всей очевидностью требует семи епископов для суда, независимо от рода обвинения, по которому суду предстоит произнести приговор. Но вот как рассуждает один из знаменитых русских канонистов о том, как должно смотреть на карфагенские правила относительно суда над пресвитером 64). В своих рассуждениях канонист этот вы-
64) Преосв. Алексий, Архиеп. Литовский (+ 1890 г.) в его исследовании
218
ходит из той мысли, что—„осуществление требуемого карфагенскими правилами при нынешних условиях и обстоятельствах православной греко-российской церкви не возможно“. Это, действительно, почти не требует и особых доказательств, как не требует их и то, что, наоборот, это было совершенно возможно в древней африканской церкви, где епископов было сравнительно очень много и притом они были не на больших друг от друга расстояниях. Мало того: даже и „во всех других древних церквах, кроме африканской, карфагенские правила не могли быть соблюдаемы и действительно не были соблюдаемы“, а „если и применялись иногда вне пределов древней африканской церкви, то в виде исключения по местным удобствам и обстоятельствам“. Но как же тогда поступали другие церкви? Они имели свои правила на этот предмет: по этим правилам власть суда над пресвитерами предоставлялась их собственному епископу, без участия других епископов. Следовательно, в этом примере мы видим факт того, как в самой глубокой древности церковь относилась к существующим постановлениям, по содержанию вполне одобряемым но неудобным для применения всюду, именно по причине того местного элемента в их содержании, применительно к которому правила были созданы: подобные правила изменялись не какою-либо особой властью, уравнивающею порядки церкви во всей вселенной, а властью не превышающей власть, установившую правила,—как это мы видим и теперь в русской церкви.—Такого же рода примеров, оправдывающих применимость той теории изменяемости дисциплины, которую дает нам древняя экономия церкви, особенно не мало доставляет дисциплина внешнего быта, поскольку она имела в древности регламентацию в церковных канонах. Мы упоминали о VI вс. собора правиле одиннадцатом. Теперь едва ли даже многим и известно, сколь не малочисленны древние дисциплинарные определения, подобные сейчас указанному;—и безразличное отношение к
„Предполагаемая реформа церковного суда“ вып. II-ой, СПБ., 1873, стр. 152-153.
219
иноверующим во внешней жизни в древности если и не было всегда понимаемо как важное нарушение обязанностей христианского звания, но в то же время не было почитаемо и предметом не нуждающимся ни в какой дисциплине. Очень понятно, что здесь, в определении отношений к иноверующим, церковь оберегала своих членов от возможности религиозных и нравственных влияний на них со стороны неверующих. Но в древних определениях этого рода многое может казаться уже превышающим надобность ограждения от этих влияний: ибо была регламентация отношений и вне религиозных 65). И эта регламентация отношений ко всему иноверному иногда простиралась до того, что предметом ее становился вопрос об одежде: 71-ое VI вселен. соб. правило запрещает изучающим юриспруденцию „одеваться в одежды не находящиеся в общем употреблении“, что правило поставляет в связь с некоторыми из эллинских, т. е. языческих, обыкновений, бывших в нравах древних юристов. Спрашивается: эти отделы дисциплины в настоящее время долженствуют ли иметь силу незыблемого закона? и следовательно одевающиеся в одежды, не находящиеся в общем употреблении, суть ли нарушители правила вселенской дисциплины,—подобно тому, как и обращающиеся за врачеством ко врачам иудейского исповедания? Решение постановленного вопроса, очевидно, должно быть аналогично с решениями других вопросов подобного рода, то есть: исчезла causa efficiens, вызывавшая в свое время подобные дисциплинарные определения,—каковой причиной в
65) Еще апостольские Постановления давали такие наставления: „еретиков, которые не раскаиваются, отделяйте, а верующим объявляйте чтобы всячески удерживались от них, и не имели с ними общения ни в разговоре, ни в молитве“. „Бегайте общения о еретиками и будьте чужды мира о ними“, т. е, не приветствуйте их. „Лжеучителю хотя дайте что нужно, но заблуждения его не принимайте“, кн. VI, 18. 25.— Позднее одно из карфагенских правил (по Книг. пр. 31) запрещает лицам клира дарить что-либо из своего имущества тем, „кои не суть православные христиане“, а другое правило-еще строже: оно повелевает предавать анафеме даже по смерти того епископа, который назначит своими наследниками сродников еретиков или язычников (по Книг, прав. 92).
— 220 —
данном случае должна быть признана связь обычая с языческим культом,—может быть изменено и отношение к одеждам, не находящимся в общем употреблении, тем более, что в настоящее время сделалось невозможным различать таковые особенные одежды от одежд общих. Поэтому уже на основании этих примеров не будет заключением поспешным и ни на чем не обоснованным, если задачу верности христианским преданиям, или верности древней христианской дисциплине, а следовательно и обязательность правил основного канона будем понимать таким образом: верность эта состоит, конечно, в сохранении и следовании правилам древним, но не так, чтобы при этом решительно отвергать всякое различие между элементом временным, вызванным условиями тогдашней жизни, и элементом постоянным или безусловным; — между целью канонов и между средствами, которые каноны указывают, но которые в другом случае могут не иметь никакого значения и даже приложения. Без сомнения, указанное 71 прав. VI всел. соб. имело целью—предохранить от возможности сближения с язычеством, а не одежду саму по себе как будто бы не всякая одежда - дело безразличное; и потому очень возможно, что в другие времена вопрос об одежде будет объявлен вопросом ничтожным, но может выступить что-либо другое, имеющее сравнительно большее значение в области внешних отношений к язычеству и вообще к иноверию.—Без этого различения постоянного и временного элементов, без различения цели в каноне и средств, к которым канон обращается, и при настоянии на той мысли, что в каноне важно исключительно его происхождение, а не содержание: трудно было бы избежать упрека в неравном отношении к вещам заслуживающим равного, а иногда и много большего одна пред другой внимания. Так это должно сказать о некоторых древних определениях монашеской и мирской дисциплины. Ибо теперь очень не настойчиво исполняются такие правила, как правило о неоставлении монастырей монахами (IV всел. соб. прав.) и совсем не исполняется правило, удаляющее от общения верного, который, не имея никакой настоятельной нужды и препятствия, в три воскресные дня, в продолжении трех седмиц не приходит
221 —
в церковное собрание (VI вселен. соб. 80 пр., ср. Сард. пр. 11);—между тем как правила эти менее могут быть названы условно изданными или временными, как выражающие известный чисто нравственный принцип христианской жизни, чем правила вышеприведенные. Мало того, такое обстоятельство, как пребывание монаха вне монастыря в древности не могло быть и мыслимо делом законным: ныне—оно благословляется самой церковью, как обстоятельство условливаемое нуждою служения той же церкви.
Все это приводит к тому заключению, что в отношении к вопросу об условиях и пределах изменяемости церковной дисциплины и теоретически правильным, и исторически оправдываемым принципом должно быть признано положение: „сохранять хорошее прежнее и прибавлять к нему хорошее новое—вот закон жизни“. (Чистович, Прот. Общ. люб. духов, просв. 11,15). Мы с своей стороны только прибавили бы к этому положению: это не значит, что в прошлом христианской дисциплины было или есть что-либо худое. Но там было и есть нечто такое, что а) должно признать хорошим для условий своего времени, как времени этому совершенно удовлетворявшее, но что также б) может оказаться еще „лучшим и полезнейшим“—по теории древней карфагенской—церкви в том случае, если оно не только будет сохраняемо в основной идее, но и приспособляемо к изменившимся условиям и формам внешней жизни, с которой очевидно нельзя не считаться, если не желательно, чтобы церковные порядки продолжали существовать только сами для себя, бесцельно (типичный пример—тот же: охрана дверей храма, узаконяемая каноном, без всякой уже надобности наблюдения за дверями). Отсюда само собою следует, что то, что неприспособимо для этих условий, или не исполнимо вовсе, или же само но себе назначалось не в качестве общего принципа, а лишь для удовлетворения потребности данного момента,—все это может не существовать в позднейшей дисциплине. И это, смеем утверждать, не будет противоцерковной теорией. Но для этой теории потребно различение в исторически преданном нам каноническом строе двух составных его элементов: собственно догматического (догма в праве—иначе—положительное право) и
— 222 —
только лишь исторического,—для чего потребно, в свою очередь, допущение историко-канонической критики, которой русская богословская наука никогда по принципу и не
66) Митрополит Платон, давая инструкцию при изучении Кормчей в Московской Славяно-Греко-Латинской Академии, замечал между прочим: „дозволяется учителю употреблять благоразумную и Основательную критику, поелику многие правила относились к настоящим (т. е. соответствующим) обстоятельствам, и по временам имели нужду некоторые отменяемы быть“. Но и в учащихся, и вообще в занимающихся вопросами богословской науки, он поощрял активное отношение к вопросам прошлого. „Не худо было бы, ежели бы учеников испытывать, не делают ли на что разумную критику“. Если таковая скажется: то—„разумную критику похвалят, неблагоразумную же поправлять“. История С. Г. Л, Академии, С. К. Смирнова, стр. 297—8. В начале настоящего столетия в Св. Синоде возникло одно брачное дело, но поводу которого предстояло решить такой вопрос: определение одного из Константинопольских соборов Х-го века, бывшего под начальством тогдашнего патриарха Сисинния, должно ли иметь обязательную силу для русской церкви настоящего времени? В подтверждение мнения большинства членов Св. Синода полагавших, что определение Сисинния—не обязательно для правительства русской церкви,—известный епископ Мефодий Смирнов внес в Синод особый доклад, в котором высказал между прочим следующее: хотя собор при патриархе Сисиннии, действительно, определил так (воспретил браки в шестой степени кровного родства), но -
1) „Церковь наша не слепо принимает все то, что в новейшие времена по обстоятельствам положено греческими отцами, а имеет право и свободу рассматривать и избирать из того согласное со словом Божиим и с общим древних св. отец постановлением. Ио такому основанию Св. Синод и сделал известные перемены в Кормчей книге, как-то: Тимофея и Феофила александрийских правильно объявил не святыми; Никиты монаха сочинение, „яко не лепое",исключил.
2) „Поместных соборов правила не имеют той силы и твердости, чтобы все оные принимать без рассмотрения и с полным к ним доверием. Ибо шестый вселенский собор в 6-ом правиле охулил и отринул 15-ое правило Неокесарийского собора, а в толковании сего 6-го правила сказано: „не добре разумеша того собора (Неокесарийского) отцы еже в книгах Деяний Апостольских о седьми диакон лежащего словесе; третье правило Карфагенского собора в Кормчей в толковании названо мятежным и соблазнительным; 41-ое правило того же собора отринуто 29-ым шестого вселенского собора,—так как есть и другие поместных соборов правила и деяния не правые и не заслуживающие уважения. А в Евангелии от Луки (ХVI, 10) Спаситель наш сказал; „не праведный в мале и во мнозе неправеден есть».—См. в книге проф. М. И. Горчакова: О тайне супружества, СПБ., 1879 г., прил. стр. 12.
223
IV. Меры и средства церковной дисциплины.
По мысли древней церкви сделаться христианином не значило только принять крещение, как акт, вводящий человека в церковное общество — так, чтобы по исполнении этого акта не могло быть и вопроса о том, насколько вступивший в союз церкви член ее оправдывает свое пребывание в церкви и насколько справедливо носит имя христианина. Напротив — необходимость справляться об этом для церкви не только могла возникать по каким-нибудь особенным или случайным поводам, но эта необходимость. вытекала из самых принципов устройства церкви,—вследствие того что существовали такие требования церкви, выполнение которых давало право считаться или не считаться христианином.
Требования церкви от каждого вступившего в ее лоно можно выразить так: кроме индивидуальной нравственной жизни, сообразной с Евангелием, от каждого члена церкви требовалось участие в жизни церкви, как внешнего установления, участие в самой простейшей форме выражающееся в обязанности принадлежать церкви. Участие в жизни церкви в самом общем смысле называлось общением с церковью (κοινωνία, communio) 1), единением с церковью и т. п.—Общение с церковью, конечно, прежде всего выражалось догматическим единомыслием. Выражением этого догматического общения в свою очередь служило „исповедание“ веры, т. е. открытое признание себя христианином церкви, обязательное в случае гонений, появления ересей и т. п. Вне случаев обязательного исповедания веры общение или единение с церковью в области догматической, конечно, было предоставлено совести каждого; и так как церковь не ста-
1) Карфаг. соб. пр. 38.
224 —
ралась преследовать помыслы и неисповеданные расположения, то каких-либо особенных законов, регламентирующих требование единомыслия не было, да и не могло быть по самому существу дела, как касавшегося главнейшим образом внутреннего состояния человека. Затем общение должно было выражаться в подчинении церковной власти—иерархии. Наблюдение общения на этой ступени, было уже точно регламентировано. Далее — собственно к объектам, в которых должно было выражаться общение с церковью, относились: подчинение законам и установлениям церкви 2). О подчинении церковной иерархии, как выражении общения с церковью, должно сказать, что принцип необходимости этого подчинения церковь поддерживала весьма строго, в весьма значительной мере жертвуя индивидуальной свободой во имя начала подчиненности. Так всякий порыв религиозной связи с епископом, на основании, например, личного усмотрения противоцерковности в поступках епископа, строго запрещается канонами всех веков. Уже 31 апостольское правило запрещает отделение от епископа „но обличенного судом ни в чем противном вере и благочестию“. Исключения из этого правила или случаи, когда порыв связи с описко-
2) Пределы единения с церковью, а равно и объекты, в которых должно выражаться общение с церковью, и мера свободы индивидуальной, конечно, вообще зависят от существующего понятия о церкви. Как известно, здесь может быть множество степеней—начиная от того, что вера во Христа признается совершенно и единственно достаточной для бытия в церкви, и оканчивая единением в обряде, как необходимым условием бытия в церкви. Учение о церкви и о степени ее власти над индивидуумами не входит в нашу задачу. Но в отношении к воззрениям на этот вопрос в древней церкви нельзя не согласиться с следующим рассуждением Бингама; „некоторые полагают, что только единство веры составляет фундамент и существо церкви, считая все остальные виды единства относящимся только к церковному декоруму. Я же думаю, говорит Бингам, что древние, как веру, так и подчинение законам и установлениям Христовым, считали основанием церкви, поелику Христос, наравне с единством веры, и соблюдение Его законов и установлений положил в основание Своей Церкви; и тот, кто не блюдет подчинения законам и установлениям Его одинаково с верою (в Него), тот не есть истинный и живой член Его таинственного тела, но только бесплодная ветвь, отсеченная от корня“. Origin. ecclesiast. vol. VII, 2—3.
— 225 —
цом прежде формального установления наличности вины лишающей епископа его законных прав, были весьма немногочисленны; и эти исключения во всяком случае показывают, что церковь личному усмотрению (индивидуальному праву) в общественной жизни церкви отводила второстепенное место 3), выше всего поставляя идею церковного порядка. Так для первых трех веков отступление от епископа без формального признания компетентной властью вины епископа, лишающей его принадлежащего ему права на церковное подчинение, было впадение епископа в идолослужение (пример этого — у Киприана каре, письмо 45, по русск. перев. писем стр. 186); для дальнейших веков—впадение в ересь. В последнем случае однако же отступление от епископа считалось законным только тогда, когда епископ, наприм., стал бы проповедывать так сказать очевидную ересь; но этим еще не представлялось всякому—считать ересью всякое мнение епископа, отношение к которому самой церкви не было определено.—Случай законного отступления из-за ереси представляет собой отделение константинопольских клириков от своего епископа, известного Нестория (деян. всел. соб. I. 415).— Как на факт отрицательным образом указывающий на свойство этих исключительных случаев, когда отступление от епископа считалось законным, можно указать: александрийский пресвитер Колуф, в начале IV века, отделился от своего епископа, известного Александра, потому только, что умеренность Александра в отношении к Арию показалась Колуфу тем, будто Александр сам разделяет еретические мнения Ария.—Начало раскола донатистов представляет собой такое хотя и ложное в применении, но имеющее основание в принципе употребление правила об отступлении от епископа, совершившего нечто явно противное вере и благочестию: этим противным благочестию в глазах донатистов представлялось так назыв. „предательство“ Фелициссима, рукоположившего Цецилиана. И нельзя не признать справедливой мысль, что борьба церкви против донатизма, занимавшая
3) Нил, Истор. александр. церкви, русск. пер. Прав. Обозрения, стр. 139; ср. Феодорит, Истор. стр. 17.
226 —
много сил церкви четвертого века, в существе дела сводится к борьбе против произвольного сепаратизма, который, конечно, связывался церковным принципом иерархической подчиненности. Вследствие этого и все многочисленные узаконения церковные, вызванные делом донатистов, конечною целью своею несомненно имели—предупредить на будущее время возникновение всякого рода сепаратистических стремлений, оградив права иерархии, как видимого центра церковного единения, весьма точной регламентацией. Таковы правила Арелатского собора 314 года и многих соборов карфагенских—правила в роде тех, что только формально доказанное (non verbis nudis) „предательство“ лиц церковной иерархии лишает их прав присвоенных законной иерархии;—что оказавшаяся бы впоследствии виновность лица, совершившего рукоположение в иерархические степени, не уничтожает законности этого рукоположения, когда последнее в отношении к канонической и сакраментальной стороне несомненно правильно;— что обвиняемый епископ не лишается своих прав до приговора о нем и т. д. 4) Насколько церковь была требовательна в отношении к наблюдению церковного порядка и церковной общественности в других сферах, это показывают следующие примеры узаконений древней церкви: одно из апостольских правил осуждает тех, кои не остаются на общественной молитве до конца ее (пр. 9): следоват. об индивидуальной свободе здесь не может быть и речи, если так называемые молитвенные расположения подчиняются степени необходимой продолжительности общественного богослужения. Тоже самое должно сказать и о таком правиле одного из западных соборов: „если кто, будучи в городе (т. е. в таком месте, где бывали христианские богослужебные собрания) не будет в собраниях три воскресных дня, таковой пусть лишится общения доколе не исправится“ (собор. Эльвирского пр. 4):— правило опять показывает, что церковь как бы но доверяла христианское совершенствование каждому в отдельности от церкви. Тоже преследование духа сепаратизма
4) Hefele, Consiliengesch. I. 21; Dunin, De antiqua eccles discipl. dissertatio p. 273).
— 227 —
выражается и в правиле собора Гангарского, осуждающем „презирающих вечери любви“ (пр. 11-е). Из последнего правила видно, что церковь выражала явное намерение дисциплинировать и поставить вне вопроса об индивидуальных расположениях даже и такие акты, которые имели только косвенное отношение к религии, так как эти акты служили лишь к укреплению общественной связи между ее членами. Если церковь ставила выше всего общественность и преследовала индивидуализм даже вне строго церковных отношений, как это наприм. в вопросе о вечерях любви, то этим, по-видимому, в совершенно определенную сторону предрешается вопрос о так называемой свободе обряда—прямо в смысле отрицания всякой свободы пред всеуравнивающим режимом церкви, как общего, существующего с отрицанием индивидуальных воззрений.—Однако несомненно, что в известной мере свобода обряда в древней церкви существовала, что доказало бы более подробное исследование этой стороны церковной жизни древности. Но при этом трудно было бы доказать одно:—что свобода эта простиралась до того, чтобы церковь допускала обрядовую свободу для каждого отдельного лица: вопрос об обрядовой свободе мог быть как вопрос права поместной церкви, округа, отдельной общины и т. п., но во всяком случае нрава общества, а не отдельного лица. И основная идея,—что христианин не может совершить свое спасение вне установления церкви, и что мерою всего служит принцип общественности и единения с церковью,—и здесь не исчезла из вида церкви. Нужно к этому прибавить, что как от тех, кто вступил в лоно церкви, церковь требовала не одной только принадлежности по спискам, а требовала активного выражения христианства в духе церковного единения и общественности, так и обратно—разрыв с церковью и отношения к людям ставшим в положение внешних вызывали к действию новую сторону в домостроительстве церкви: именно—стремление искоренить дух безразличия и так сказать провести ясную черту между собою и внешним (в религиозном отношении) миром. В этом отношении церковь совершенно явственно держалась принципа: кто был не с церковью, тот вне церкви; и так
— 228 —
называемого „безконфессиального“, внецерковного христианства, или христианства вне точных вероисповедных формул, древняя церковь не знала. Как известно, относительно этого св. Киприан карфагенский выражал даже мысль, что исповедующий себя христианином, но отвернувшийся или отвергнутый от единения с церковью, „хотя бы был и умерщвлен ради имени Христова, как поставленный вне церкви и отделенный от единения и любви, не может и чрез смерть получить венца“ 5). Что церковь наравне с сепаратизмом строго преследовала религиозное безразличие, это не означало еще намерения церкви распространить отрицание безразличия и на внерелигиозные отношения; но что церковь строго различала людей церкви от людей вне церкви, не считая ненужным делом справляться о том, находится ли человек исповедующий Христа в общении с церковью, или он — вне общения,— это проходит чрез все правила древней церкви. Так сюда относится известное правило древней церкви, что отлученный в одной местной церкви, или одним местным епископом, считался отлученным и во всех других церквах. Согласие между отдельными церквами в этом отношении было неизменно, и всякая местная церковь признавала все дисциплинарные решения, какие по отношению к навлекавшим на себя осуждение церкви предпринимала другая церковь. Августин, например, даже отделившихся от церкви донатистов, когда они возвращались к церкви, но если эти возвращавшиеся состояли уже под каким-либо взысканием у своего епископа, не хотел принимать в общение с церковью иначе, как с условием, чтобы они исполнили то, что должны бы были исполнить у себя. Поэтому того, кто в одной местной церкви был отлучен, другая местная церковь не могла, да никогда и не пожелала бы, принять у себя в качестве члена какой-нибудь всеобщей церкви. В рассмотрение причин отлучения по их существу другая церковь обыкновенно не входила, и помимо церкви отлучившей восстановить общение отлученного с церковью могла только церковная высшая власть и притом только в ка-
5) Твор. русск. перев. I, стр. 167.
— 229
чеетве судебной инстанции 6). Примеров применения этого начала в практике известно множество, а поступавшие вопреки этому считались разрушавшими коренные начала жизни церкви 7).—В числе средств различения, в сомнительных случаях, людей церкви от людей вне-церкви известно древнее установление, но возможности ограждавшее каждую местную церковь от принятия в общение с собою таких лиц иной местной церкви, положение которых в их собственной церкви с достоверностью не было известно: это—так называемые представительные грамоты. 12-е апостольское правило наказывает как того, кто, скрыв свое отлучение в своей церкви, войдет в общение другой церкви, так итого, кто неосторожно (без представительной грамоты) примет в общение лицо, не имеющее права на общение. Тот же Арий, будучи отлучен Александром, обманом добывал представительные грамоты, и только предъявляя эти обманные грамоты, мог еще некоторое время вращаться в церковном обществе на правах полноправного христианина.
Если, таким образом, церковь строго блюла, чтобы раз вступивший в ее лоно был или с нею, или вне ее; если церковь вовсе не представляется наклонной к латитудинаризму, или к стремлению уменьшать необходимые требования от своих членов и, соответственно сему, расширять понятие о церкви, а скорее обнаруживает явное стремление к замкнутости; если пребывание в церкви члена раз принятого в ее лоно возлагало на него известные обязанности, исполнение которых стояло под контролем церкви 8): то очевидно, что для того, чтобы церковь могла
6) Прав. апост. 13, 32; 1 всел. соб. 5. Ант. 6, Сардик. 13.
7) Наприм. епископ римский Корнилий отказывает Фѳлициссиму в общении с римскою церковью потому, что он отлучен Киприаном в церкви карфагенской. — Другие примеры см. у Dupin, указ. сочин. р. 251. — Александр, еп. александрийский, сильно жаловался на тех, кто принимал в общение Ария, уже отлученного им, Александром—хотя и до формального осуждения Ария на вселенском соборе (Деян. всел. соб. I. 41). Но как видно из дела того же Ария, нарушение этого правила было только разве исключением; ибо Арий сам жаловался импер. Константину, что его „никто не удостаивает принять в общение“ (ibid. 77).
8) Нельзя не отдать должной чести справедливому удивлению тех немногих людей, которые в последнее время по собственному глубокому
— 230 —
существовать с подобными требованиями, она должна иметь совершенно определенное внутреннее устройство, как-то: органы власти с определенными функциями, определенные отношения между собою членов церкви, свой суд и свои наказания возможных в среде ее членов преступлений и определенное пространство своей юрисдикции—словом, в церкви должно существовать свое право, регламентирующее ее внутренние отношения, которое поэтому справедливо называют „внутренним церковным правом
Но в этой весьма обширной стороне вопроса предме-
интересу, питаемому к вопросам религиозным, размышляют о состоянии современной церковной жизни,—удивлению, появляющемуся при взгляде на положение вопроса об условиях существования в церкви отдельных лиц, как сложились эти условия в большинстве христианских церквей— хотя и не в одной только церкви русской, как думает автор статьи в газете Русь, № 16, 1883 г., под заглавием; „вероисповедной вопрос „Православие, — говорит автор этой статьи, — блюдется по внешности строго, а в тоже время признает состоящими в своем лоне не только тех, кои публично нарушают пост в страстную пятницу, но и тех, кои не могут быть названы не только православными, но и вообще христианами, и даже прямо атеистов. В церковь официальную входят миллионы людей не имеющих почти никакого понятия о религии, ни даже об Иисусе Христе, миллионы людей по неволе исполняющих церковные требы, не говоря о массах всякого рода фактических еретиков и даже язычников“ (стр. 17).—Конечно, автор приведенной статьи упускает здесь из виду, что совершенство каждого отдельного христианина для церкви воинствующей только предмет достигания, и потому нельзя сказать, чтобы православие церкви страдало от несовершенства отдельных членов ее: это будет новацианская идея. Но нельзя сказать и того, чтобы здесь мы не встречались с неотступным вопросом, когда-нибудь потребующим категорического ответа, именно: все ли без исключения в установлениях и воззрениях (недогматических) древней церкви имеет обязательную силу для настоящего времени, или же настаивать на такой обязательности можно но выбору, иное предавая забвению, а иное выставляя как древне-конститутивное начало церкви. Если все, то к числу таковых, по-видимому забываемых, начал и относится то, что, и не возобновляя новацианство, церковные общества не должны бы считать у себя всех, кто но рождению или в силу общественного строя числится христианином того или другого исповедания, или по крайней мере—всех тех, кто сам явно не желает этого: ибо древняя церковь, правила и установления которой во многих других случаях строго блюдутся, как раз именно и не допускала такого явления, т. е. чтобы люди, числившиеся в церкви, не оправдывали или прямо отрицали (делом или словом) справедливость такого зачисления.
— 231 —
том ближайшего отдела исследования будут средства и мероприятия древней церкви, служившие к тому, чтобы жизнь церкви шла согласно с ее основною идеей, как в общем, так и в отдельных членах церкви. Ибо из новейшей церковной истории известно, что все почти стороны церковной дисциплины могут получить совершенно внешне-принудительный характер, и не только в смысле средств, коими стремились осуществить церковное благоустройство, но даже и самих задач, которые возлагались на церковную дисциплину. Так принцип древней церкви— необходимость общения с церковью, осуществлялся иногда такими средствами: за небытие у общественного богослужения-тюрьма, за уклонение от таинств—тоже, или лишение гражданских прав человека; так называемая эпитимия сопровождается физическими мучениями; субординация внутри церкви в отношении к лицам иерархических степеней приравнивается к субординации между государственными чиновниками. Или еще; древняя церковь порыв общения с нею считала равносильным акту выхода из церковного общества, после чего человеку нужно было искать и домогаться того, чтобы снова быть принятым в число членов церкви: новейшая же история представляет факты того, что самые сильные доказательства внутренней непринадлежности к церкви—в виде совершенного неисполнения ни одного из требований церкви, не только не служат основанием к извержению из церкви, но и самый вопрос о невозможности существования в церкви подобных членов как будто бы совсем забыт, и как будто бы для бытия в церкви достаточно только быть крещенным, без возможности вопроса о том, что сталось с крещенным после его крещения.
О характере мер и средств церковной дисциплины еще Златоуст в свое время выражался так: „христианам преимущественно пред всеми запрещается впадающих в грех исправлять насилием“ 9). И действительно, о церковной дисциплине первых трех веков не может быть и речи—в том случае, если бы кто-нибудь в дисциплине этого времени пытался отыскать хотя малей-
9) Кн. о священстве.
— 232
шую тень принудительного элемента. Этого элемента в церковной дисциплине тогда и не могло даже быть. Уже потому, что церковь была едва терпимым обществом, существование которого пред языческим государством могло обусловливаться единственно только абсолютной безвредностью его как для отдельных лиц, так и для целого государства, когда даже самые невинные проявления церковной жизни, как например вечери любви, постоянно подвергались опасности быть истолкованными как нечто „враждебное роду человеческому“—уже поэтому церковь не могла бы развивать в себе какого-либо элемента, стесняющего естественные права или отношения человеческие под видом требований внутреннего благоустройства,— если бы даже того и пожелала. Едва ли притом, для осуществления церковного благоустройства, тогда и требовались принудительные меры: как мы знаем—христиане становились таковыми только после осторожного испытания. дело было совершенно естественное, что от таких христиан не нужно уже было, например, вынуждать подчинения церкви или церковной иерархии, как не нужно было каких-либо постановлений, преследующих внешними наказаниями уклонение от богослужения. Но конечно с самых первых веков в христианском обществе могли оказываться и оказывались члены недостойные пребывания в церкви, или сами не желавшие оставаться в ней. Таковые— предоставляемы были их свободе возвращаться туда, откуда они пришли к церкви, то есть к иудейству или язычеству, что при известной мере существовавшей тогда религиозной свободы не производило ровно никакой пертурбации во внешне-гражданской жизни, как отдельных лиц, так и целого общества; а церковь этим избавлялась от людей недостойных пребывания в ней. Поэтому—в эпоху доконстантиновскую мы не знаем случаев, которые указывали бы на существование в церковно-дисциплинарных средствах какого-либо внешне-принудительного элемента.
По мнению церковных учителей древности дисциплина церкви такова должна быть и всегда. „Во времена телесного обрезания (т. е. в Ветхом Завете)—говорил св. Киприан—гордые и непокорные, не повинующиеся своим священникам, умерщвляемы были мечем вещественным;
— 233
но теперь (во времена обрезания духовного) гордые и непокорные умерщвляются мечем духовным—отлучением от церкви“ 10). По мнению св. Григория Богослова средства церкви против внутренних вредных элементов суть слова, а—„занести еще на кого-нибудь и руку— совсем вне обычаев нашего двора: мы отвергаем это, предоставляя такое средство нашим противникам“ 11). „Разномыслящих, — говорит св. Григорий в другом месте,—доколе можно, будем врачевать как язву истины, а страждущих неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться этой болезнью“—таковы у христиан положительные и отрицательные дисциплинарные средства. Сравнивая церковь с государством в отношении их целей и средств достижения этих целей, учители церкви еще резче высказывали мысль о не свойственности церкви принудительных мер в области ее внутренней жизни, потому что область действования церкви—душа. „Царю, говорил св. Златоуст, вверено попечение о телах, а священнику о душах; царь принуждает, а священник увещевает; у одного—необходимость, у другого—свободная воля; один располагает оружием вещественным, другой—оружием духовным“ и т. д. 12). Не приводя других мнений раннейшей эпохи истории христианской церкви, заметим, что рассуждения подобные Златоустову можно встретить и гораздо позднее. Вот, например, рассуждения известного папы Григория II в эпоху иконоборческой ереси. „Какое различие между средствами церковной и светской власти?“ Папа отвечает: „если кто-либо оскорбит светскую власть, виновный наказуется конфискацией имущества, ссылкой“; между тем—„когда согрешит кто-либо и сознается в грехе своем, то не так поступают архиереи“: вместо того, что употребляет светская власть, „они полагают на голову согрешившего евангелие и крест, заключают его в уединенное место, например в хранилище церковного имущества, заставляют нести разные обязанности при церкви и при оглашенных, полагают на его
10) Твор. рус. пер. I, 27,
11) Твор. II. 239.
12) Delort, «Institut, discipl. p. 153.
— 234 —
чрево пост“, и проч. „После должного вразумления предлагают ему честное Тело Христово и св. Кровь Господню и сделав его сосудом избранным, возвращают ко Господу чистым“. „Видишь ли какое различие между церковью и государством?“ заключает папа 13).
Правда, уже в приведенных словах папы есть намек на то, что различие между церковью и государством в свойственных им средствах поддержания порядка может и сглаживаться, хотя папа сам, в принципе признавая такое различие, по-видимому не замечал этого: „заключение в уединенное место“, быть может, послужило началом заключений в еще более уединенные места—под запор, практиковавшихся впоследствии... Но папа, вероятно, разумел добровольное заключение, как и добровольное наложение поста на чрево. Тем не менее мы увидим, что намек в словах папы на возможность изглаждения различия между дисциплинарными средствами церкви и государства не остался на этой степени—намека: различие это потом во многих отношениях действительно изгладилось. Сделалось это не так скоро—во всяком случае после того, как и принципы дисциплины, высказанные в приведенных выше словах учителей церкви, значительное время осуществились на практике. Но так как существует один факт, одною своею стороною показывающий—как рано началась попытка изглаждения различия между церковными и не-церковными средствами дисциплины, а другою стороной-именно тем, что попытка эта не имела успеха, вызвав на себя запрещение, — отрицательным образом показывающий свойства действительно — церковной дисциплины: то мы, прежде чем подробнее раскрывать свойства этой последней на основании положительных данных, остановим несколько продолжительное внимание на этом, по свойству своему, отрицательном факте. Факт этот есть появление 27-го апостольского правила, имеющего прямое отношение к вопросу о „занесении руки“, по выражению св. Григория Богослова, которое, однако же, по его же выражению, не свойственно тем, кто—от двора церковного.
13) См. в Деян, вселен. собор. т. VII. стр. 42—43.
— 235 —
Уже в этом правиле, по-видимому, есть намек на существовавшие нарушения того общего принципа, что церковь может иметь в своем распоряжении только чисто духовные средства в качестве средств дисциплинарных. (Представляет ли собой это правило только свидетельство о единичных фактах нарушения общего принципа, или же правилу принадлежит какое-либо другое значение, об этом ниже). Правило это в качестве закона определяет извергать из священного чина епископа, пресвитера или диакона, биющего „верных согрешающих, или неверных обидевших и чрез сие устрашати хотящего», как передает греческий текст наша Книга правил. В доказательство несвойственности биения лицам священным в правиле указывается на то, что „Господь отнюдь нас сему не учил, напротив того, Сам, быв ударяем, не наносил ударов, укоряем—не укорял взаимно, страдая— не угрожал“.—Понимание этого правила, нужно признать, представляет некоторые трудности именно в отношении к значимости правила для вопроса о церковной дисциплине. В самом деле, как понимать это запрещаемое в правиле биение: запрещается ли оно как средство отомщения личных обид, или—как мера мыслившаяся дисциплинарною по отношению к согрешающим, т. е. преступившим церковные законы, или законы христианской морали? Если только запрещается первое, то конечно правило это нисколько не будет относиться к свидетельствам по отношению к исследуемому теперь вопросу—о свойствах христианской дисциплины, даже в качестве отрицательного факта, то есть факта указывающего на то, что считалось уклонением от духа истинно-церковной дисциплины: правило будет служить только для истории нравов христианского клира, другой вопрос, конечно, если правило запрещает—второе. Изъяснения этого правила у толкователей позднейшего времени сводятся к следующим положениям: а) что апостольским правилом имеются в виду случаи употребления биения в частной жизни церковной иерархии, а не должностного положения и не должностных отношений ее. Так Зонара говорит, что „правило возбраняет епископам и прочим бить согрешивших против них, будут ли это верные или неверные“. Аристин также
— 236 —
разумеет „священника, который бьет верного или неверного согрешившего против него (лично),—чтобы другие по отношению к нему не совершали подобных проступков“. Вальсамон также видит в правиле запрещение бить людей „верных или неверных“, согрешивших лично против священников, когда священники „желают отомщать за себя“ 14). Считая таким образом правило трактующим о случаях в частной жизни церковной иерархии, толкователи по этому b) всю запретительную силу правила, или запрещение биения, относят только к биению по личным побуждениям: биение же по должности и в особенности не-своеручное они считают не запрещенным этим правилом. Аристин например к своему толкованию прибавляет: „не подлежит извержению тот, кто благоразумно наказывает би чем человека погрешающего против священных предметов, как и Господь бичом сделанным из вервия изгнал торгующих из храма подзаконного. для этого избираются церковные номофилаксы и экдики как лица издревле отцами назначенные карать подобные преступления“. Вальсамон о законности биения в последнем случае и при условии этого последнего рода выражается еще определеннее: „впрочем умеренно наказывать своих учеников и тех, которые согрешают и после вразумления не исправляются, посвященным дозволено, потому что и Господь ударами бича изгнал из храма торгующих, которые таким образом (т. е. торговлею в храме) грешили против божественного“.—Славянская Кормчая распространяет толкование этих комментаторов еще прямей—в пользу позволительности биения по должности: „аще кто целомудрен смысл имый нечто творящего в церкви святей или во святых местах биет, таковый не извержется“, как это, по-видимому, предписывается апостольским правилом.
Итак, толкователи понимают апостольское правило, как запрещающее биение собственно как за личные оскорбления. Но толкователи не усматривают в тексте правила запрещения употреблять биение как средство нака-
14) Прав. св. апостол, изд. общ. любит. Духовн. Просвещ. стр. 47—48.
237 —
зания церковного на церковных бесчинников, или по крайней мере не считают биение, как церковное наказание, противным канонам; и по-видимому думают, что если нет канона и разрешающего подобное дисциплинарное средство, то для признания дозволительности этого средства достаточно и отрицательного дозволения — отсутствия его запрещения. По-видимому также толкователей не смутило и то, что их аргумент—указание на пример Иисуса Христа—не согласуется по существу с аргументом самого текста правила: на пример же Иисуса Христа ссылается правило как раз для противоположного вывода, и единственным основанием для вывода о позволительности биения для комментаторов является различение между биением-дракою и биением как одним из церковно-дисциплинарных средств, из коих первое—непозволительно, а второе позволительно, как предуказанное будто бы примером самого И. Христа.
Очевидно, что если принять комментарий этих толкователей, тогда было бы доказано не только существовавшее иногда на практике применение физических средств в церковной дисциплине, и что апостольское правило только как исторический памятник запрещением факта свидетельствует о существовании факта, но и нечто гораздо большее—именно, что апостольское правило узаконяет биение как средство именно церковно-дисциплинарное, запретив только пользоваться этим церковно-дисциплинарным средством в сфере обыденной жизни. С этим однако же ни в каком случае нельзя согласиться, равно как и церковь не знала никаких особых „издревле“ будто бы существовавших экзекуторов церковного биения; и если бы было иначе, то св. Григорий Богослов, св. Иоанн Златоуст и другие были бы не совсем правы, с непоколебимой уверенностью приписывая церковной дисциплине такие качества, какие, как мы знаем, они приписывают.
Уже из текста самого правила видно, что только с помощью игнорирования прямого смысла апостольского правила можно утверждать, будто тенденция правила — запретить лицам духовного сана биение в запальчивости, в отмщение собственных обид и т. п., и будто здесь ни-
238 —
как не должно разуметь запрещение биения тех, кои погрешили против церковного благочиния,—со всеми последствиями этого тезиса, 15). Но к счастью всякого исследователя, желающего на основании авторитетных данных установить истинный смысл этого важного правила, существуют свидетельства действительно авторитетные, но комментирующие это правило не в духе греческих комментаторов и не в духе нашей славянской Кормчей. Это именно—свидетельства VII вселенского собора и так называемого собора двукратного 861 года.—Правда, ни тот, ни другой собор не занимаются разъяснением апостольского правила прямо и непосредственно; но из того употребления, какое дают ему эти соборы, становится ясным, как они понимали смысл и значение апостольского правила. В самом деле:
В одном из своих заседаний VII вселенский собор должен был обратиться к 27 апостольскому правилу по следующему поводу: в третьем заседании этого собора патриарх Тарасий заявил собору, что—„ходит молва, будто во время гонения (от иконоборцев) некоторые из епископов благочестивых мужей подвергали невыносимому гонению. Молве мы не должны верить без всяких доказательств. Между тем — продолжал св. Тарасий— этот собор знает, что правила св. апостолов епископа или пресвитера, или диакона, биющего или верных согрешающих, или неверных обидевших 16) и желающего
15) По-видимому, греческие комментаторы в тексте правила обращают взимание только на разделение верных от неверных, но оставляют без внимания выражения ἀμαρτάνονταςи ἀδικήσαντας, считая два последние слова однозначащими—„согрешивших против них“. Славянский же перевод различает не только лиц терпевших от биения (верных и неверных), но и повод, вызвавший такие поступки клира: верных согрешающих, неверных — обидевших, что, конечно, ближе к прямому смыслу правила.
16) Следуя в приводимом месте Деяний переводу Казанской Академии, мы в передаче самого правила в Деяниях—отступаем от этого перевода, сохраняя перевод Книги правил. Казанский перевод слово: ἄδικήσαντες текста правила передает выражением: „нечестиво живущих“. Если бы можно было по-русски читать так, то это было бы фактом большой важности: тогда выражение это можно было бы принять за косвенное свидетельство, что нечестивая жизнь язычников, но крайней
— 239 —
этим устрашить их, заповедует низлагать“. Собор отвечал: „да, правила так гласят®. Патриарх Тарасий опять: „если епископ нанес какие бы то ни было удары или мучения мужам богобоязненным и притом терпевшим тогда преследование, то он недостоин епископства... потому что он как гонитель наносил удары“. Собор: „недостоин“. При этом рассуждении один из присутствовавших епископов припомнил пример Халкидонского собора, который, собравшись, еще не осужденного за догматическое заблуждение Диоскора удалил от должности единственно по причине доказанных насилий, учиненных им во время епископства. Установив этот общий принцип („епископ наносящий удары мужам богобоязненным не достоин епископства“), собор приступил к расследованию самого факта виновности одного из епископов, кроме участия на иконоборческих соборах, обвиняемого еще и в том, что он преследовал иконопочитателей—подвергая их телесным наказаниям. Обвиняемый, напротив, доказывал, что „ни один человек не обвинит его, чтобы он бил или наказывал кого-либо: ни в богоспасаемом царствующем граде, ни на моей стороне—говорил обвиняемый — ни один человек не подвергался от меня преследованию“. После некоторых прений, где вопрос однако же только вращался на фактической стороне дела, т. е. на вопросе о том, преследовал или не преследовал кого-либо этот епископ, обвиняемый был оправдан, так как „молва® о нем не подтвердилась. Следовательно, применения приведенного
мере по притязаниям некоторых из клириков, подлежала юрисдикции и наказуемости от христианского клира!—Может быть должно предположить, для оправдания такого перевода, что VII вселенский собор читал апостольское правило несколько иначе, чем оно читается теперь; но нам неизвестны основания для такого предположения. Мы не имели под руками издания Деяний Гардуина; но у Манси (Mansi, t. VII p. 1116) правило апостольское в Деяниях VII всел. собора читается также, как в общеупотребительном (Беверегия) издании. По-видимому, впрочем к такому пониманию несколько склоняется латинский перевод указанного места Деяний у Манси (ibid.):.,. fideles delinquentes, aut infideles inique agentes. Этот латинский перевод принят и у Гефеле (Consiliengesch. 1, 803). Но Беверегий (t. II, р. 17, edit. Oxonii, 1672) переводиттак:... fides, qui peccapt, vel infideles, qui injuriam fecerunt.
— 240
как закон 27 апост. правила не последовало по отсутствию наличности проступка 17). Но из рассмотренного эпизода на VII вселенском соборе во всяком случае видна некоторая важная особенность в понимании собором апостольского правила, — именно: апостольское правило указывает собственно на частные случаи—биение согрешивших и биение обидевших; вселенский же собор подразумевает в запрещении правила биение вообще и даже всякого рода физические насилия. Ибо тот епископ, по поводу которого возник вопрос об апостольском правиле, обвинялся не в том, что он бил согрешающих верных или неверных обидевших, а вообще в том, что подвергал некоторых физическим мучениям. И оправдывался он не тем, что не бил, а тем, что вообще он не подвергал кого-либо наказаниям или преследованиям. Следов. вселенский собор запретительную силу правила апостольского понимал в смысле самом обширном — в смысле запрещения причинять физические страдания, физические насилия и т. п.
далее: 9-ѳ правило собора Двукратного, ссылаясь на 27 апост. правило, указывает, что во времена этого собора были люди, которые, не взирая на разъяснение правила вселенским собором, толковали его таким образом, будто правило „назнаменует только биющих своеручно“. Собор же, напротив, объясняет, что запретительная сила правила распространяется и на тех, кои „посредством повеления простирают истязание до жестокости“ . На первый взгляд из такого толкования Двукратного собора казалось бы можно заключить, что собор противится на основании 27 апост. правила только этой „жестокости“ биения — не отрицая при сем возможности толкования правила так, что биение при отсутствии жестокости и непосредственности этим правилом не запрещается. Притом, из приведенной части толкования Двукратным собором 27-го апостольского правила еще не видно, куда собор относит воспрещаемый одинаково (т. е. своеручно и посредством повеления) проступок биения, к проступкам ли частной жизни, или к проступкам долж-
17) Деян. всел. соб. т. VII, стр. 227.
241 —
ностным; другими словами—не видно еще, как понимает Двукратный собор происхождение и назначение самого апостольского правила: произошло ли оно потому, что в эпоху его издания появилось в практике биение в качестве дисциплинарного средства, или только были случаи биения в обыденной жизни клира—без покушения ввести это неприглядное средство в чисто церковную сферу, и след. имело ли тоже правило своим назначением регулировать известные дисциплинарные приемы, или только нравы клира;—а поставить апостольское правило, на основании понимания дела Двукратным собором, в ту или другую категорию, очевидно, для истории дисциплины весьма важно. Но это затруднение в понимании воззрения Двукратного собора на апостольское правило в указанном отношении восполняется положительною частью 9-го правила собора Двукратного: из этой части, во 1-х видно, что собор Двукратный запрещение 27-го апостольского правила понимает как запрещение относящееся ко всякого рода биению—по делам церковной дисциплины и по делам домашним—с исключением, притом, и того тенденциозного толкования, будто бы апостольское правило имеет в виду только грубый способ биения—своеручно. „Оным правилом, говорит Двукратный собор, определяется наказание за биение вообще“, следоват. и за непосредственное, и за посредственное—чрез приказание. Таково назначение правила. Если же собор прибавляет, что „подобает священнику Божию вразумляти неблагонравного наставлениями и увещаниями, иногда же и церковными епитимиями, а не устремляться на тела человеческие с мечами и ударами“; то это противоположение показывает, что Двукратный собор, — отвергая объяснение апостольского правила в смысле желаемой некоторыми позволительности посредственного биения и непозволительности только своеручного,—происхождение апостольского правила понимает так, что правило вызвано было, хотя бы и между прочим („верных согрешающих“), появлением биения как дисциплинарного средства. Ибо приводя свои соображения против тенденциозного толкования апост. правила, собор указывает на истинный способ вразумления неблагонравных— епитимиями, наставлениями и уве-
242 —
щаниями, что, очевидно, составляет меры строго церковные, в противоположность мерам нецерковным, запрещаемым апостольским правилом. — Следовательно ссылка на Двукратный собор Аристина с Вальсамоном (они, между прочим, делают и эту ссылку), как будто бы подтверждающий их понимание апостольского правила, совершенно не имеет никакого основания.
Таким образом из приведенных двух фактов употребления и толкования 27-го апостольского правила, в качестве общих положений, с несомненностью следует, что в официальном употреблении восточной церкви VIII—IX вв. 27-е апостольское правило понимаемо било как правило против тех клириков, которые 1) не только били своеручно, но и вообще, хотя бы посредством приказания другим, „причиняли мучения“ физические, и 2)—против тех, которые совершали это не только в припадке раздражительности, но и по желанию исправить согрешающих или нечестиво живущих, другими словами и против тех, которые вздумали бы употреблять чисто физические средства в деле церковной дисциплины. По словам Двукратного собора, хотя всякого рода физические насилия уже прямо запрещены были апостольским правилом, но извороты некоторых в толковании правила все-таки клонились к тому, чтобы понимать правило то как запрещающее только своеручное биение, то как относящееся только к частным отношениям клира, следовательно как не имеющее отношения собственно к истории развития церковно-дисциплинарных мер 18).
18) Собор Двукратный, отвергнув позволительность в делах церковных „биения вообще“, прибавляет: „аще же некие будут совершенно непокоривы и вразумлению чрез эпитимии не послушны: таковых никто не возбраняет вразумляти преданием суду местных гражданских начальников“, и собор ссылается на 5-е правило Антиохийского (341 г.) собора. Смысл этого прибавления ясен: наказывать физически для церковной власти вообще запрещено; если же кто и от эпитимий не обращается на путь правый, таковых „наказывать вмешательством мирских начальников“, как перифразирует правило Вальсамон (Толков. русск. пер. стр. 1734).—Как известно, ссылка на 5-е пр. Антиохийского собора и в настоящее время служит, по-видимому, самым сильным аргументом канонистов, утверждающих без всяких оговорок, что „церковь предает суду светской власти тех, кто не подчиняется ее суду“. Оставляя
— 243 —
Если каждый закон самым фактом своего появления непременно свидетельствует о том, что ему предшествовало в самой действительности запрещаемое законом деяние, то должно признать, что в эпоху появления 27-го
пока подробное рассмотрение вопроса о предании церковью неподчиняющихся ей суду светской власти, в отношении к этому прибавлению Двукратного собора заметим: указание собора на светскую власть, когда не действуют эпитимии и увещания, не значит ли тоже, отвергнутое самим же собором, посредственное употребление всяких физических наказаний—так как кодексы светской власти едва только в последнее время освободились от применения в обширных размерах телесных наказаний?—В ответ на этот возможный вопрос, утвердительный ответ на который разом уничтожал бы всякую мысль о духовности дисциплинарных средств церкви, мы предполагаем, питая надежду оправдать свое предположение, что-несмотря на все благоприятствующие выражения, это „предание суду местных гражданских начальников для вразумления“, как редактирует эту мысль собор Двукратный (редакция — несколько иная сравнительно с первоисточником правила—антиохийским 5-м, и притом редакция, распространяющая от „клириков" Антиохийского собора на всех вообще „непослушных“), должно разуметь совсем не как предание светской власти для наказания упорных, а несколько иначе. Уже простой здравый смысл указывает, что странно бы церкви восполнять свои „вразумительные“ средства местными гражданскими начальниками, например, таким путем вразумлять человека заблуждающегося в догмате! Для церкви это значило бы отказаться от мысли, что церковь есть установление достаточное для своих специальных целей! Но церковь и в самом деле не отсылает к гражданскому суду для вразумления: 5-е антиохийское, а след. и 9-о пр. соб. Двукратного, говорят об обращении церкви к государству для зашиты ее существования от сил препятствующих ее правильному и законному существованию. А если принять это, то в правилах Антиохийского и Двукратного соборов будет не указание на сродства восполнения „церковного суда“, а указание на то, где церковный суд прекращается, и церковь нисходит на положение „религиозного союза“, выражаясь языком юридической науки, который государство обязано защищать как всякий дозволенный союз от покушений нарушить законные права этого союза.—Повторяем, что мы надеемся доказать это при подробном раскрытии вопроса о случаях обращения церкви к государству. Теперь же заметим еще только, что так именно смотрит на дело и наш Духовный Регламент. Говоря о таком случае в церковной жизни, когда отлученный от церкви будет пренебрегать церковным отлучением, то есть, когда, по выражению древних правил, „будет непокорив и вразумлению не послушен", Регламент не считает обращение к суду гражданских начальников средством для церкви вразумить непокоривого. Но „есть ли—говорит Регламент—изверженный не покаявся учнет еще ругать анафему церковную,
— 244 —
апостольского правила, 19) были случаи занесения руки со стороны лиц церковной иерархии. Если же история толкования и применения правила показывает, что это правило, имеет целью запретить физические наказания, как средства дисциплинарные, то отсюда следует, что занесение руки в деле церковной дисциплины—тоже случалось.— Что и после издания 27-го апостольского правила встречались факты, запрещаемые этим правилом, как и факты других форм принудительной дисциплины, это не может подлежат спору. На первом соборе против Златоуста „под дубом“ (403 г.) обвинитель Златоуста, диакон Иоанн, жаловался собору „в причиненной (жалобщику) несправедливости“, состоящей в том, что Златоуст „отлучил его за то, что он побил своего слугу по имени Евлалия“.—Должно полагать, что сущность обвинения против Златоуста заключалась не в том, что потерпевший считал вину своего отлучения недостаточной для того наказания, которому его подвергнул Златоуст, а—недоказанною, т. е. вопрос в наличности поступка, а не в его квалификации. Ибо другое обвинение против Златоуста того же жалобицика-обвинителя в том состояло, что самого Златоуста хотели обвинить в том же, за что он отлучил этого диакона 20).
Физические средства в качестве собственно церковно-дисциплинарных мер в особенности встречались между лицами церковной иерархии с наклонностями к неправомыслию, так что в числе обвинений многих лиц в неправомыслии обыкновенно встречается и обвинение в
или еще и пакостить епископу или иному причту, тогда Епископ пошлет о том челобитную к Духовному Коллегиуму, а Коллегиум, разыскав истину, будет с настоянием просить суда у подобающей мирской власти". Но в чем церковь будет просить суда у мирской власти? Конечно— не «в непокоривстве» отлученного, а в тех оскорблениях или „пакостях“, какие наносит церкви дерзкий отлученный.
19) А. В. Горский (Истор. Евангельск. и Апостольск. стр. 648—650) появление „правил апостольских в их совокупности как сборника многих правил и притом таких, которые апостолам и даже временам их принадлежать не могли“, относит ко времени не позднее конца ІII-го века. Таким образом случай, давший повод к изданию 27-го правила, не мог быть позднее того же времени.
20) См. Mansi, t. ІΙΙ. рр. 1448—4.
— 245 —
насильственных действиях по должности. Так известен случай попытки силою удержать в иерархической подчиненности: на IIІ вселенском соборе три епископа острова Кипра жаловались собору, что антиохийские клирики силою стараются подчинить себе остров Кипр в церковном управлении, при чем жаловавшиеся упоминают, что один из епископов терпел от антиохийского клира „необыкновенное насилие, даже удары, каких не следовало бы наносить и обесславленным людям“ 21). На Диоскора, когда он был епископом александрийским, была жалоба от одного из его клириков, что Диоскор изгнав его, клирика, из клира, „угрожал изгнать и из города“. Свидетельство о том, что „изгнание из города“ бывало и в других случаях как последствие лишения церковной должности и т. п. встречаются неоднократно; и даже, если верить Сократу, св. Иоанн Златоуст „высылает из города“ одного епископа, проживавшего в Константинополе по своим делам, —за то, что этот епископ, поссорившись с другим епископом, произнес слова, смысл которых передан был Иоанну в виде еретической фразы: „Христос не вочеловечился“. Ио—Сократ, как известно, представляет св. Иоанна Златоустого вообще человеком гневливым и склонным к крутым мерам. По-видимому, и на соборе „под дубом“ Иоанна Златоустого хотели, между прочим, обвинить в прямых физических насилиях и в проступке против 27-го апост. правила: тот же обвинитель Златоуста обвинял его еще (см. выше) в том, будто „по его приказанию один монах был сначала наказан ударами, а потом связан железною цепью, подобно тому как это делают с бесноватыми“.—Об известном Македоние Сократ рассказывает, что он—„сек за то, что некоторые не хотели иметь с ним общения“; не хотевшие принимать св. Тайны от его последователей силою были заставляемы принимать причащение. Сек розгами одного монаха и Диоскор. Один епископ был низложен за то, что „кого-то мучил и заключил в темничные железные оковы“ 22). О том же
21) Деян. всел. соб. т. 2 стр. 56.
22) Сократ, 221-241. Евагрий, 73.
246 —
Диоскоре на Халкидонском соборе свидетели показывали, что чисто каноническое дело (суд над епископом Флавианом на так называемом Ефесском разбойничьем соборе) он производил уже при участии стражи 23). В истории других соборов на востоке также видно, что канонический процесс иногда производился, сопровождаемый присутствием воинов, служителей и т. п. И удивительного, конечно, не может быть в том, что вошедший в силу с течением времени обычай лиц высшей церковной иерархии окружать себя внешней помпой, стражей, чиновниками, прислужниками и т. п. давал возможность, при известных свойствах темперамента, требовать стражу, сечь не повинующихся церковному суду, приравнивать неповиновение суду церковному к неповиновению государственной власти, не отделять собственной личности от дела чисто церковного, („бунт против меня“) и т. п. Хотя уже с первого взгляда, конечно, видно, что подобные явления были таким же исключением, каким преследуемый апостольским правилом епископ биющий; но остается еще вопрос—не было ли каких-либо других сторон в церковной дисциплине, которые заключали в себе элемент принуждения?
На вопрос этот должно дать ответ абсолютно отрицательный. Истинный характер всех вообще церковных законов и церковной юрисдикции древней церкви можно обозначить таким образом: как закон церковный, так и исполнительные действия по церковной юрисдикции (ехеquutio canonum) основным предположением своим имели— свободное подчинение всякому церковно-административному и церковно-судебному акту. Законы церковные и суд церковный не мыслились имеющими внешне-принудительной силы, подобно тому как эту силу имеют законы и суды государственные. Церковь предъявляла известные требования; тот, кто хочет быть послушным, как выражается 18-е правило I вселенского собора, тот слушается; кто не хочет—церковь не прилагает внешней силы к экзекуции канонов, между светскою властью и епископской
23) Во время заседаний этого собора Диоскор кричал: „бунт против меня воздвигается? Давай сюда стражу!“ (Деян. всел. собор. III. 363).
— 247 —
властью, по мнению древних церковных писателей, как было упомянуто, в том и различие, что первая повелевает и теми, которые не желали бы подчиняться власти, а власть церковная повелевает только теми, кто добровольно признает ее право над собою 24). Вследствие этого все мщение, если можно так выразиться, церковного государства нарушителям его законов составляет, как метафорически выразился Златоуст, „плач и стенание“ о преступном члене. Такое выражение Златоуста, конечно, не должно принимать за отрицание для церкви нужды (и права удовлетворять этой нужде) во всякой внешней защите своих прав как института внешнего, имеющего соприкосновение с людьми и установлениями вне ее существующими: этим обозначается только характер внутренних отношений в церкви, глубоко отличный от отношений в государстве. Правда, в церкви всегда не только употреблялись выражения: „суд“, „строгость суда“, но и фактически существовал суд; существовали и церковные наказания; употреблялся термин „изгнания“: все это по-видимому требовало для самого своего существования непременного употребления внешней силы. Но и эти термины, в приложении их к внутренним церковным отношениям в сущности несоизмеримы с теми понятиями, которые соединяются с ними когда дело идет о правоотношениях гражданских. Так суд и его строгость там,
24) Места из древних учителей сюда относящиеся см. у Dupin, указ. сочин. 296. Ср. также приведенные выше мнения о различии между церковью и государством. — Златоуст, приводя параллель между властью отца семейства и предстоятеля церкви, говорит: „отец, основываясь на естественных и внешних законах, весьма легко может управлять сыном. Хотя бы сей последний и не охотно выслушивал от него упреки и обличения, никто не помешает ему (упрекать и обличать), и даже сам сын не посмеет выразить при этом неудовольствия. Священник, напротив, встречает множество затруднений: ибо он должен управлять так, чтобы ему повиновались добровольно" и пр. (Бесед. к I посл. к Фессал. р. пер. стр. 159—161). Приводим это место в виду существующих мнений, стремящихся обосновать некоторые стороны принудительной церковной дисциплины на аналогии между семейством и церковью (Сборник госуд. знаний, т. II, стр. 240). По Златоусту же—если в семье природа дает основания для принудительной дисциплины, то в церкви этого быть не может.
248 —
где они получали применение, разрешаются в отлучение, или „низложение“ (для должностных лиц церкви). Между тем как, например, закон гражданский не допускает уклонения от суда, раз преступное лицо предано суду, и неявление к суду влечет за собой привод к суду: в церковном суде древней церкви неявление к суду, правда, имело известные церковно-юридические последствия, но не существовало привода к суду. (Так, например, епископ обвиняемый в церковном преступлении, лишающем его сана, но неявившийся добровольно на правильно организованный суд—лишается сана, как не отвергнувший основательности обвинения). Суд гражданский не ограничивается, как известно, только одной отрицательной формой наказания—извержением из общества, другими словами—не предоставляет преступному лицу одной только свободы выхода из общества; церковный же суд удовлетворяется и этим. Далее: между тем как одного желания получить прощение или примирение с обществом, пред которым совершено преступление, при соответствующем прекращении преступного состояния, в государстве далеко еще не принимается достаточным удовлетворением общественного правосудия: в церкви и одно прекращение преступного состояния при желании примирения с церковью иногда восстановляет правоспособность христианина. Так это бывает даже при проступках в сфере наиважнейшего элемента в жизни церкви — соблюдения в чистоте истин христианства.
Отсюда видно, что так называемое церковное право не имеет полной аналогии со всеми другими видами права, не обладая коренным условием бытия права — внешней принудительностью. Но с другой стороны—понятно, что никакой общественный союз не может иметь ни твердости и устойчивости в своем существовании, ни успеха в достижении предположенных целей, если в нем не предпринимаются, не установлены и не существуют определенные меры к охранению узаконенного в нем порядка от нарушений его собственных членов. Теперь—если церковь уже в 27-м апостольском правиле в принципе отвергла всякое внешнее принуждение как средство церковной дисциплины, то какие же меры она ввела в круг
— 249 —
своего внутреннего права против специальных правонарушений внутри церковного общества?
Церковь, как известно, отвергла новацианскую идею, что церковное преступление 25) может иметь только единственный исход—извержение из церковного общества, без возможности, при каких бы то ни было условиях, снова возвратиться в это общество 26). Но отвергнув эту идею в ее крайних выводах, церковь признала, что конечным средством ее против правонарушителей в ее сфере может быть все-таки только извержение из церкви. Ибо и так называемая покаянная дисциплина, усвоенная церковью в противоположность новацианству, предполагает извержение как исходный момент церковной дисциплины. В позднейшей церковной практике, как известно, получила перевес покаянная дисциплина над извержением из церкви, как средством против правонарушителей в сфере церковного общества; с приближением к настоящим временам извержение из церкви почти вышло из практики в силу того, что всякое преступление против церкви и христианства, даже при многократном рецидиве, считалось возможным искупить, оставаясь внутри церкви. Но в древности „покаяние“ является как искание доступа в церковь и покаянная дисциплина—сред-
25) Употребляя выражение „церковное преступление“, мы, конечно, имеем в виду обширный смысл этого выражения—именно всякое деяние, которое не согласно с требованиями христианства, хранительницею и истолковательницею которого является церковь, а не одно только преступление против церкви как внешнего института, или внутри церкви как во внешнем союзе.
26) Позднейшие новациане, кажется, свое несогласие с общецерковными воззрениями обнаруживали главным образом в отрицании возможности существования в церкви людей, церковное преступление которых не было следствием единократного падения, а имело характер, так сказать, неспособности к существованию в церковном обществе вследствие постоянной наклонности к противо-церковной жизни. Это можно видеть из тех отзывов, которые новациаве делали о представителях церкви православной. Так, например, Сократ приписывает Златоусту следующее: „несмотря на то, что на соборе епископов—говорит Сократ— постановлено было, чтобы от падших после крещения только однажды принимаемо было покаяние, он (Злат.) дерзнул сказать: „приступай, хотя бы ты каялся и тысячу раз!“ (Сокр. Истор. 495).
250
отвом для получения этого доступа, потерянного вследствие совершенного преступления 27). Извержение или—как обыкновенно называют—отлучение от церкви поэтому и должно составить предмет особенного внимания при исследовании свойств церковной дисциплины·
27) Апостольские Постановления (кн. 11, 16 р. пер. стр. 34): „когда увидишь ты (епископ) кого согрешившим: то, огорчившись, прикажи извергнут его вон; а когда станет он выходить, пусть огорчатся диаконы и держат его вне церкви, обстоятельно допрашивая его, а потом, вошед, пусть просят тебя за него.—Тогда ты прикажи ему войти, и дознав, кается ли он и достоин ли быть совершенно принятым в церковь, и назначив ему пост, смотря по греху, так отпусти его, сказав ему, что прилично сказать наказующему, чтобы пребывал дома смиренномудрствуя“ и т. д.
251
V. Отлучение, его причины и истинный характер.
Обычное представление, существующее об отлучении, это то, что оно было мерою дисциплины главнейшим образом, если не исключительно, употребляемою против еретичества следовательно против заблуждения в вере. действительно, преобладающее количество случаев отлучения в древности связано было с вопросом о ереси. Но в первые века всякий тяжкий грех мог вести к отлучению, так что канонисты справедливо формулируют причины отлучения: error propter fidem aut bonos mores. Мы говорим: тяжкий грех. Это обозначает, что грехи легкие считалось возможным заглаждать, оставаясь внутри церкви. Тоже самое должно сказать и по вопросу о ложных мнениях относительно вопросов догматических или обрядовых: не всякое ложное мнение влекло за собою отлучение 1), Что всякий тяжкий грех мог быть причиною отлучения, это само собою понятно. Только церковь, как обладающая совершенным правосудием, наблюдала при этом, чтобы факт греха не подлежал сомнению. В IIІ веке Ориген, например, возражал не против отлучения за грех, а только—против некоторых условий такого отлучения; именно, по мнению Оригена, не должно отлучать от церкви в том случае, когда грех не очевиден, „дабы исторгая плевелы не исторгнуть вместо них пшеницы“ 2). Постановления апостольские также дают наставления об отношении к отлученным за грехи (δἰ ἀμαρτίας) 3). В IV веке для од-
1) Какие условия наблюдаемы были для того, чтобы ложное мнение объявлено было формальной ересью—это может составить особый трактат специально о ереси.
2) Dupin, р. 278.
3) Lib. II. cap. 40, по русскому перев. стр. 70: „с отлученными вами за грех обращайтесь и живите вместе, заботясь о них, утешая их, поддерживая их“ и проч.
— 252 —
ного епископа показалось достаточной причиной для отлучения от церкви следующее обстоятельство: двое юношей учились у языческого софиста; но они не воздержались от того, чтобы не послушать, как учитель их декламировал гимн Дионису. Узнав об этом, епископ отлучил их от церкви. Эти юноши были известные два брата Аполлинарии 4). Правда, никто не одобрил такой строгости епископа, но этот факт показывает, что далеко не одно только заблуждение в области вероучения (errorpropter fidem) могло служить причиной отлучения. Августин, говоря вообще об условиях отлучения, выражается подобно Оригену, что в церкви африканской обыкновенно не отлучается тот, кто не изобличен судом или добровольным признанием в том, что совершил тяжкий грех, наказуемый отлучением; но во всяком случае из слов Августина явствует тоже самое, т. е. что не одни догматические заблуждения служили причиной (при известных условиях) извержения из церкви, но в равной мере и несоответствующая христианская жизнь 5).—Тем не менее должно признать, что отлучение от церкви по причине тяжких грехов еще в сравнительно раннее время стало выходить из употребления, получая иногда, как замену, другие наказания, между тем как догматическое заблуждение всегда уже влекло за собой отлучение, не получая никакой замены в системе церковных мероприятий к охранению святости церкви.
Несомненно, что существовало в древней церкви два вида отлучения: отлучение полное, или великое, и отлучение неполное, или малое. Отлучение полное представляло собою совершенное исключение из христианского общества (omnimoda, plaena separatio), было последним пределом отношений церкви к своему, после отлучения уже только бывшему, члену. Словом, состояние в отлучении этого рода есть „нахождение вне церкви, и совершенным, говорит Зонара, отцы назвали его как вполне отделяющее отлученного от верных“ 6). Хотя многими канонистами,
4) Созом. 428.
5) Dupin, 262.
6) Толков. на 13 пр. соб. Двукратного.
253 —
в особенности римскими, и полное отлучение рассматривается как „наказание“, но очевидно, что полное отлучение не могло быть рассматриваемо как наказание в смысле юридическом: между наказующей властью и наказуемым субъектом предполагается продолжение отношений, которыми их связала природа или гражданский порядок; здесь же, как увидим, было прекращение всяких отношений на той почве, которая связывала наказуемого с наказующей властью, т. е. прекращении церковных отношений 7). Неполное отлучение состояло во временном „лишении общения“ (communio), то есть во временном лишении того, чем пользовался христианин во имя христианского нравственного закона и положительного закона церкви, например—в лишении права участия в общественной молитве. Златоуст представляет эту степень отлучения прямо уже как наказание, постигающее не только положительно преступного, но даже и „беспечного“, или равнодушного к христианским обязанностям 8). Хотя отлучение этого вида могло быть только временным, так как при обнаружении того, что оно не достигает исправительной цели, следовало полное отлучение; но так называемое срочное лишение общения в самую раннюю эпоху истории церкви почти не употреблялось: покаяние и исправление служило пределом состояния отлучения, и всякое деяние, увеличивающее преступление, увеличивало и время пребывания в отлучении 9). церковь этим отлучением имела целью привести человека к рас-
7) Как известно, римские канонисты в силу так назыв. „неизгладимости, indelebilius“, таинства крещения, всякого крещенного, хотя бы он отрекся от Самого Христа, или явился с учением такого рода, что церковь с своей стороны не могла признать его христианином, считает безусловно подлежащим юрисдикции церкви. Но в этом отношении канонисты впадают в неоспоримое противоречие: великим отлучением человек извергается из церкви и в тоже время подлежит ее законам! Ковер (Der Kirchenbann, S. 95) доказывает однако же, что такое воззрение ведет будто бы свое начало от древнейших времен церкви. Неверность такой мысли мы увидим далее.
8) Бесед. на посл. к Солун. р. п. стр. 160.
9) Например намеренное сокрытие состояния в отлучении увеличивало продолжение отлучения. Апост. пр. 13-е.
254
каянию, хотя при этом ничто внешнее не понуждало, в качестве придаточного средства, непременно удовлетворять правосудие церкви, и церковь не задавалась целью, чтобы виновный, если так можно выразиться, непременно раскаялся: раскаяние мыслилось как акт свободного движения души. Поэтому же неполное отлучение является как дело внутренней дисциплины церкви, и отлученный на этой степени отлучения считался еще человеком церкви и в сфере ее юрисдикции.—Что касается до терминологии обоих видов отлучения, то термином неполного отлучения было греческое ἀφορίσμὸς, ἀκοινωνία, и состоящие в таком отлучении ἀφωρισμενοι, ἀκοινώνητοι 10), а великого— анафема (άναθεματίζεσθαι, прав. 7, III всел. соб.), хотя строгость в употреблении терминологии—с одной стороны—не всегда соблюдалась, а с другой—мы увидим, что с термином анафема позднее стало соединяться нечто более сильное, чем одно изгнание из видимого общества христианского: это именно—„проклятие“, как бы решительное предопределение апафематизированного человека к вечной погибели, а не одно только изгнание, основанное на том убеждении, что отлучаемый недостоин оставаться в церковном обществе, а суд решительный и бесповоротный во власти Божией.
Из указанного отношения между обоими видами отлучения, т. е. из того, что неполное отлучение было наказанием своего человека, а полное—извержением такого, на которого церковные наказания уже не действовали и который, по выражению Постановлений апостольских, уже сделался „излишен в церкви и не надобен ей“ 11), естественно должно было следовать, что „лишение общения", или неполное отлучение, предшествовало полному отлучению. И действительно, только в исключительных случаях полное отлучение следовало без предварительного лишения общения, как меры исправительной.
Указаний на такое положение дела множество. К ран-
10) Прав. апост. 10, 12, 13. Книга правил выражения: ἀκοινωνήτος, ἀφωρισμένος переводит одинаково: „отлученный от общения церковного“ (пр. 10, 12), а выражение: ἀφοριζέσθω—„да будет отлучен“, (ibid).
11) Lib. 11, 43, русск. пер. стр. 74.
255 —
нейшим указаниям должно отнести указания Постановлений апостольских. Заповедуя не отвращаться согрешившего однажды или дважды, Постановления указывают—обнаруживших раскаяние принимать на молитву: след. таковые были лишены до обнаружения раскаяния права участия в общественной молитве. „Но если возвратившийся к церкви опять производит смущения, не переставая соблазнять брата, такового извергните, как заразу, чтобы не опустошал церковь Божию“ 12). Василий Великий в одном письме рассуждает: „кого не приводит к покаянию удаление от молитв (или, как прямо выражается он в другом месте,—„от церковного общения“), с теми необходимо поступать по правилам“, именно—„совсем изринуть из церкви“ 13). Точно также отношение между лишением общения и конечным отлучением хорошо выясняется из постановления собора, судившего диакона Аэция: собор определил—„лишить Аэция диаконского сана и отлучить от церкви, а если будет упорен в своих мнениях, то он должен быть предан и анафеме 14). Под именем „отлучения от церкви“ здесь очевидно разумеется лишение церковно-богослужебного общения, но не извержение из церкви, которым собор под именем „предания анафеме“ угрожает только в случае упорства: ибо если бы „отлучение от церкви“ обозначало полное извержение, то тогда конечно после такового акта, по условиям быта того времени, никаких сведений об упорстве диакона у церковной власти быть не могло, для такого же вывода об отношении между лишением общения и полным отлучением представляют данные в правилах III вселенского собора 6 и 7. Первое из этих правил определяет, что „те, которые колеблют учиненное на соборе (Ефесском), если клирики—извергаются, если миряне— отлучаются от общения церковного (ἀκοινώνητοι)“. Второе же правило определяет мирян „мыслящих противное догмату ефесскому подвергать анафеме“. Вальсамон соотношение обоих терминов в этих правилах объяс-
12) Ibid.
13) Твор. ч. VII, стр. 268, 287 и др.
14) Феодор. Истор. 182.
— 256
няет так: если в одном правиле миряне лишаются общения, а в другом — подвергаются анафеме, то „не думай, что здесь противоречие, ибо большое различие между противлением и сомнением кого-либо о каком-либо деле“. Поэтому сомневающийся относительно того, что уже прежде утверждено на добрых основаниях, должен быть отлучен; и противящийся сему (о каковом противящемся, по мнению Вальсамона, идет дело уже в 7-м правиле), как мыслящий противное, должен быть подвергнут и анафеме, 15).—Такой характер неполного отлучения сообщал ему, как замечено было, значение врачевательного средства (excomunicatio medicinalis), 16) в том смысле, что оно предоставляло виновному возможность оглянуться на свое положение—с одной стороны, а с другой—служило к тому, что сама церковь получала возможность убедиться, насколько твердо и искренно виновный член церкви желает быть ее действительным, а не по внешности только, членом. Поэтому иногда отлучению от общения предшествовала другая дисциплинарная мера такого же рода. Так специально для должностных лиц—клириков такой мерой было извержение из сана. 24-е апост. правило назначает извержение, но без лишения общения (это так назыв. communio laicalis), дабы „дважды не отомстить за одно и тоже“. Но 28-е правило указывает на то, что если изверженный клирик, т. е. однажды уже потерпевший наказание, совершит другое церковное преступление, то, как своего рода рецидивист, таковой „совсем отсекался от церкви (παντάπασῖ ἐκκοπτέσθω τῆς ἐκκλησίας)“—
15) Прав. изд. Общ. Любит. Дух, Просв. стр. 290. — Зонара, объясняя 31 апост. правило, повелевающее мирян, составляющих с пресвитером во главе сепаратистическое общество, отлучить (ἀφοριζίτωσαν), говорит: „а Гангрского собора правило 6-е таковых подвергает и анафеме“ (ibid. 35). Если толкователь хотел этим сказать, что Гангрский собор сверх отлучения от общения (ἀκοινωνία, ἀφοριαμός), или при наложении его налагает еще и анафему; то такого толкования допустить нельзя: ибо раз наложена анафема, излишне упоминать о „лишении общения“, когда последнее есть изъятие от пользования только некоторыми нравами, между тем с изгнанием из церкви (анафемой), конечно, прекращается действие всей совокупности церковных прав.
16) Апостольские Постановления: σύ ὡς συμπαθὶς ἰατρὸς τοὺς ἠμαρτηκότας θεράπευε, и пр.
— 257 —
„потому что (такие рецидивисты) иначе уже и не могут быть наказаны“ (Зонара).
Разделяя принципиально и в практике лишение общения и полное отсечение от церкви, церковно-юридический язык древности не придерживался, однако, всегда строго тождественной терминологии для выражения обоих видов отлучения. И в особенности это должно сказать об употреблении терминов для обозначения полного отлучения. Правда, подобию тому как для неполного отлучения преимущественно употреблялись термины: ἀκοινωνία, ἀφωρισμός, преимущественным термином полного отлучения был термин анафемы. Но в тоже время анафема означала полное отлучение не только как факт, но иногда и самую сентенцию, или формальное определение, которым выражалось исключение из церковного общества 17). Иногда же под анафемой разумелась совокупность всего процесса и последствий отлучения. Так собор Сардикийский, в послании ко всем церквам по поводу более и более распространяющегося арианизма, писал: „мы постановили, чтобы осужденные на соборе не только не были епископами, но и но удостаивались общения с верными. Итак, да будут они анафема для вас. Заповедуйте, чтобы никто не вступал в общение с ними, удаляйте их от себя, остерегайтесь писать им и получать от них писания“ и т. д. 18). Собор Гангрский выражался: „если кто не подчинится настоящим постановлениям, того подвергнуть анафеме, как еретика — лишить общения и отлучить от церкви“ 19). В этом определении Гангрского собора первый термин; „подвергнуть анафеме“ очевидно составляется двумя последними — лишением общения, как первоначальной мерой внутренней дисциплины церкви, и отлучением от церкви, как мерой предельной из находящихся в распоряжении церкви. Поэтому-то Гангрский же собор на ряду с только что приведенными выражениями, как равносильное им, употребляет выражение: „св. собор осудил их (евстафиан) и определил, что
17) Kober, Kirchenbann, S. 35.
18) Деян, поместн. собор., Казань, 96—7.
19) Ibid.
258
они стоят вне, церкви“, и т. д. 20). Тоже самое относительное непостоянство терминологии видно из того, что в древнейших документах, и часто в одном и том же, встречаются выражения то как будто бы обозначающие, что анафема в виде особого акта предшествует „отлучению“; то наоборот—сначала следует отлучение, а потом—анафема. Такова, например, терминология известного послания епископа Александра об арианах. Иногда наконец, самое выражение анафема не употреблялось, хотя сентенция обозначала тоже самое, то есть—конечное извержение из церкви 21).
При каких условиях церковь пользовалась своим неотъемлемым правом изгонять нетерпимого члена, это мы увидим далее. Теперь же заметим, во-первых, что и полным отлучением церковь не выражала вечного отлучения от ее лона, так чтобы возвращение отлученного к церкви никогда, ни при каких условиях, не было возможно, и решение церкви навсегда оставалось бесповоротным. Во-вторых, акт полного отлучения не должно представлять иначе как актом внешне-юридическим, то-ость: совершая этот акт отвержения, церковь не принимала на себя, так сказать, предрешения судов Божиих в отношении к извергнутым из церкви, хотя, конечно, и находились люди, соединявшие с отлучением от церкви именно такое представление. Средневековые канонисты положительно уже рассматривали отлучение но только как изгнание из церкви, как внешнего видимого общества, но как „отлучение от Бога“ и „предоставление сатане“; и последним выражением, как известно, в западной церкви очень и зло-
20) Ibid.
21) Преосвящ. Иоанн (Опыт курса церковн. законовед. ч. I, 253) находит не два, а три вида церковного отлучения в древности: 1) отлучение от св. Таин; 2) но только отлучение от Таив, но и от общения в молитвах; 3) совершенное отлучение, иди изгнание из церкви.—Но о точки зрения церковно-юридических отношений, очевидно, между двумя первыми видами отлучения нет резкого различия—так как отлучение в обоих первых видах, как замечаемо было, составляет собою акт внутренней дисциплины церкви, между тем как изгнание из церкви создает совершенно новые отношения как да самой церкви, так даже и да членов ее, оставшихся ей верными.
— 259
употребляли в средние века 22). Поэтому полному отлучению дано было и соответствующее название: mortalis. Можно думать, что начало такого представления об акте отлучения совпадало со временем св. Киприана карфагенского, ибо у него уже встречаются увещания против очень смелой строгости относительно судьбы исторгнутых из церкви „плевел“ 23),—хотя и те мнения, которые осуждает св. Киприан, очень умеренны в сравнении с мнениями позднейшими о значении акта отлучения. Как видно из слов Киприана, на отлучение уже смотрели как на „сокрушение“ негодного сосуда. В противоположность такому мнению, св. Киприан учил, что „право сокрушать глиняные сосуды (2 Тим. 11. 20) предоставлено одному Господу, Которому дан и жезл железный (Ап. 11, 27). Раб же не может быть больше Господина своего, и то, что Отец предоставил одному Сыну, никто не может присваивать себе, почитая для себя возможным носить
22) Впрочем, должно прибавить, что в это время на востоке у византийских греков воззрение на отлучение и самая формула его были близки к западным. См. „Отлучение у греков", ст. в Чтен. Общ. Любит. Духов. Просвещ. 1871 окт., стр. 25—27.
23) В Постановлениях апостольских дело отлучения представляется еще только как дело самого естественного порядка, причем церковь мыслится как благоустроенное общество, члены коего, нарушившие порядок и законы этого общества, естественно, при известных условиях, лишаются права пребывания в этом обществе. „Если некоторые, от рождения имеющие лишние члены, приросшие к телу, как-то — пальцы или наросты, отсекают их от себя по неблагообразию и от этого (отсечения) не происходит никакого неблагообразия: то тем более должны поступать так вы, пастыри церкви, тела целого, состоящего из членов здоровых, когда найдется один член липший, помышляющий злое, причиняющий безобразие остальному телу, как бы избранный диаволом для осквернения церкви хулениями, спором, разделением. И так сей, в другой раз (после принятия в церковь) изверженный из церкви, достойно отсечен от собрания Господня, а церковь Господня явилась ныне более красивою“, и проч, (ibid. русск. пер. 74—75).—Как видно из приведенной выдержки, тут нет еще ничего подобного во взгляде на отлучение, что увидим далее (см. в тексте). — Заметим здесь, что если отсутствие каких бы то ни было усложнений в деле и взгляде на него свидетельствует о сравнительно большей древности памятника, излагающего дело; то Постановления апостольские своим содержанием даже по этому вопросу свидетельствуют уже о происхождении своем из глубокой древности.
— 260
лопату для очищения гумна, или отделять человеческим судом все плевелы от пшеницы. Это было бы гордым упорством и святотатственным посягательством и т. д. 24).
Но идея, осужденная св. Киприаном, не только не умерла, по стала положительно прогрессировать. В IV веке, когда в церкви появилось много несомненных плевел, люди с сокрушительными стремлениями, конечно, имели много пищи для таких стремлений. Быть может поэтому, но теперь уже решительно, юридический акт отлучения от церкви стали соединять с представлением о предании сатане,—так что становится вполне понятным известное выражение Августина, что „лучше быть умерщвлену мечем, сожжену в пламени или быть растерзану зверями“, нежели подпасть под отлучение 23). Только с этой же точки зрения, как противодействие вкрадывавшемуся уже неправильному представлению о деле, становится понятной и известная беседа Златоуста „о проклятии“, где Златоуст с одной стороны уже различает „отлучение“ от „анафемы“, а с другой — ведет борьбу против этого, как он выражается, зла, проникшего в воззрения, вероятно, не одного человека. Златоуст говорит, что „апостолы, быв строго исполнительны как во всем другом, так и в этом деле, обличали и отвергали ереси, но никого из еретиков не подвергали такому наказанию“ 26). Если бы с понятием анафемы соединялось представление обыкновенного юридического акта извержения из христианского общества, то, конечно, утверждать то, что утверждает Златоуст, как и вообще нужду в подобной мере для всякого правильно организованного общества, было бы большой несообразностью. Но вся кажущаяся особенность разумения дела Златоустом в том и заключается, что люди, против которых вооружается Златоуст, с термином анафема не связывали уже представление как о чисто юридическом акте отлучения, но как о бесповоротном осуждении человека на вечную погибель,—между тем как, говорит Златоуст, „тот,
24) Творен. русск. перев. I, 144-5.
25) Kober, указ. сочин. S. 21.
26) Бесед. о проклятии, Слов. и речи, русск. пер. IIІ, 326.
— 261 —
кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более, потому что он не находится более под властью человеческою: он своему Господеви стоит или падает (Римл. XIV. 4). В виду этого, по мысли Златоуста, „опасно произносить свой суд о том, что сокрыто (от людей), а известно Судии веков, который знает и меру ведения, и количество веры, да и почему мы знаем, какими словами будет он извинять или оправдывать себя, когда Бог станет судить сокровенные дела людей?“ — спрашивает Златоуст. Что Златоуст выражается так убедительно здесь не против анафемы, как акта церковного суда, а против того страшного значения, которое придавали анафеме как акту предрешающему суды Божии, и что в этом-то он и усматривает зло, это видно из того как Златоуст объясняет самое слово „анафема“. Говоря об употреблении анафемы теми, кои „дерзают преподавать одно только свое учение и проклинать то, чего сами не знают“, Златоуст спрашивает: „скажи мне, что значит анафема, которую ты произносишь? Понимаешь ли ты силу этого слова? У нас, говорит Златоуст, до настоящего дня господствует всеобщий обычай говорить: такой-то сделал приношение (ἀναθήμα) такому-то месту 27). Итак, слово это говорится о каком-либо добром деле, означая посвящение Богу. А что значит анафема, которую ты произносишь? Не то ли, чтобы такой-то сделался жертвою диавола, не имел права на спасение, быв отвержен от Христа?“ Но это-то и значит, по мнению Златоуста, предрешать суд Небесного Царя; этого-то даже никто из апостолов не делал.— Заметим здесь, что такие рассуждения Златоуста об анафеме привели в недоумение одного из древних толкователей правил. Вальсамон,
27) В таком значении „приношения“, преимущественного к священным местам, слово это употреблялось еще у языческих писателей до P. X. См. у Геродота рассказ о приношениях, сделанных царем Крезом дельфийскому оракулу.
— 262 —
говоря о том, что Гангрский собор предал евстафиан анафеме и что анафеме предавал и Халкидонский собор, прибавляет: „а златый по языку учитель вселенные заповедует не предавать анафеме верного (т. е. крещенного) человека, говоря следующее (идет приведенная нами выписка из Златоуста)“. По этой-то, как кажется, причине остается без действия и синодальное определение бывшее в царствование Константина Порфирородного и патр. Алексия о том, чтобы предавать анафеме изменников и возмутителей. Но должно ли написанное великим отцом нашим Златоустом иметь более силы, чем определенное Халкидонским собором и Гангрским, об этом конечно скажут те, которые имеют власть разрешать подобные вопросы“ 28). То есть, Вальсамон думает, что Златоуст вооружился вообще против употребления анафемы и тем будто бы становился в противоречие с практикою соборов, даже вселенских; и Вальсамон не находит возможным примирить это противоречие, так как, по его мнению, вселенский учитель осуждает практику вселенского собора! Но очевидно, что никакого противоречия между Златоустом и вселенскими соборами в действительности и не существует, ибо Златоуст говорит совсем не об анафеме как акте отлучения от церковного общества, а об анафеме, после которой человек в глазах некоторых становился „жертвою диавола“.—Основание, в силу которого строгие судии IV века в анафематствованном стали видеть „жертву диавола“, как видно из слов Златоуста же, было то, что подпадавшие анафеме были по большей части еретики „имеющие в себе диавола, ввергающие многих в бездну погибели“ и т, п., следовательно о них как будто бы и нужно думать так. По мнению же Златоуста и по отношению к таковым в качестве церковного мероприятия, все-таки возможно единственно отлучение от церкви: такого человека, которого ты считаешь жертвою диавола—„научи, что его мнение несогласно с преданием апостольским; если научаемый останется упорным, объяви о его заблуждении пред свидетелями—только без ненависти, без отвращения“ и т. д.
28) См. введение к толкованию пр. соб. Гангрского, р. пер. стр. 1006.
— 263 —
Это сначала научение, а потом объявление и есть, конечно, сокращенный процесс отлучения. Если же, по мысли Златоуста, в церкви Христовой и возможна анафема именно в том смысле, какой дают ей строгие предвозвестники судов Божиих, то только в приложении к учениям, а не к людям 29). Ибо относительно учения церковь не может признать противным Богу в одно время то, что в другое признала бы спасительным, другими словами—ложная мысль всегда останется таковой, а человек, держащийся ложной мысли, может и оставить ее, а если и не оставит, то степень вменяемости таковой мысли сокрыта от судов на земле 30).
Конечно, и в век Златоуста противоположное мнение относительно значения анафемы или отлучения встречается у людей пользовавшихся большим авторитетом в среде церкви. Так Василий Великий считает отлученного—тоже „снедию диавола“ 31). Иероним об отлучении выражается как об „осуждении некоторым образом прежде дня судного“. Один собор на западе определяет анафему как—aeternae mortis damnatio 31). Но это все-таки было не то, как думали средневековые греческие канонисты, должно заметить, в строгости суждений в отношении к иномыслью и заблуждению иногда не уступавшие римским канонистам. В глазах этих канонистов анафема окончательно перестала быть одним церковно-юридическим термином отлучения, и—что главное—„отлучение“ уже раз-
29) Указано, место стр. 332.
30) Духовный Регламент „анафему“ считает также просто „извержением от общества христианского“. Установляя обязательные правила отлучения, Регламент говорит: „если уже и посем (по увещании и предостережении) непреклонен и упрям будет преступник, то епископ и тогда не преступит еще к анафеме, но прежде о том напишет Духовному Коллегиуму“. Когда Коллегиум разрешит, тогда епископ приступает к анафеме, и она провозглашается по следующей „формульке“ (следует примерная сентенция, читаемая в церкви протодиаконом, заключение коей таково:)... „того рода пастырь наш, но Заповеди Христовой, данною себе от Господа властью, извергает ею от общества христианского, и яко непотребного члена, от тела церкви Христовы отседает“ и т, д.
31) Творен. ч. VII, 286.
32) Kober, S. 20-21.
— 264 —
личается от „анафемы“, хотя из толкований канонистов вывести какое-либо различие между отлучением и анафемой в отношении ко внешне-юридическим последствиям становится трудным. „Да будет анафема“, то есть должен быть отлучен от Бога“, говорит Зонара. „Ибо как дары (ἀναθήματα) приносимые Богу отделяются от человеческих вещей, так и ставший анафемою (ἀναθεμα) отсекается и изъемлется из общества верных, вознесенных и посвященных Богу и от самого Бога, и становится уделом диавола, или сам себя предает ему 33). Ибо если подвергшийся только отлучению предается сатане (указание на 1 Кор. V. 5.1 Тим. I. 20), то, конечно, несравненно более отлучается от Бога тот, кто подвергся анафеме: он отчисляется и поступает в удел сатане, и сам из себя делает приношение ему“, „да будет анафема, т. е. должен быть предан демону как приношение“, повторяет и Вальсамон, обыкновенно более умеренный в суждении о подобных вещах 34).
Это стремление сделать из отлученного „удел диавола“, конечно, не было в нравах собственно первенствующей церкви 35). К сожалению нельзя сказать, чтобы в позднейшее время такое воззрение осталось по крайней мере только на степени теоретического мнения по вопросу об отлучении: напротив, ему давали весьма крайнее практическое приложение 36). Поэтому, было бы весьма важно дойти до того первоисточника, из которого истекла мысль о том,
33) Нельзя не видеть, что из тех же самых соображений, что представлялись Златоусту, Зонара делает противоположный вывод: Златоуст на том основании, что первоначальное значение анафемы было значение доброе—именно оно значило «посвященное Богу“, выводит и то, что нельзя прилагать анафему в смысле дурном; у Зонары выходит, что если анафематствованный не может быть „посвященным Богу“, то значит он „удел диавола".
34) Толков. на 3 пр. соб. Софийского, русск. пер. стр. 1174—6. Ср. выше рассуждение апостольских Постановлений.
35) Как бы против таких стремлений св. Киприан карфагенский в свое время писал: „присвояющие себе более господства, чем требует кроткая правда, и нагло себя воздымающие, будучи ослеплены самою своею надменностью теряют свет истины". Твор. указ. мест.
36) В известном „Камне Веры“ Стефана Яворского существует уже тот вывод, что если отлученный предается сатане, то тем более может быть предан смерти.
265
что отлученный „поступает в удел сатане“. По-видимому, единственным основанием для того, чтобы анафему или отлучение считать преданием сатане, а раз признав отлученного достоянием сатаны, и относиться к нему как к достоянию сатаны, послужило неправильное толкование известного выражения апостола, повелевшего коринфского кровосместника предать сатане (παραδοῦται τῶ ἀατανᾷ), (1 Кор. V, 5; ср. 1 Тим. I, 20). древние толкователи в этом выражении апостола не усматривали однако же ничего, кроме метафорического обозначения извержения из церкви, а древнее церковное право не основывало на этом выражении апостола требования каких-либо особых отношений к отлученному. Именно, толкователи понимали это выражение апостола так, что извергнутый из церкви „как бы“ предавался во власть сатаны тем, что чрез отлучение снова должен был возвратиться в царство тьмы—в язычество, где, по воззрению учителей церкви, царствовал диавол. В этом отношении из западных писателей бл. Августин рассматриваемое место комментировал так: „всякий христианин, которого отлучают священники, предается сатане. А каким образом? Таким: поелику вне церкви царствует диавол, как в церкви царствует Христос; то тот, кто отвергается от церковного общения, как бы (quasi) предается диаволу“ 37). Также точно это место понималось и в восточно-греческой церкви. Василий Великий в седьмом правиле своем, рассуждая о принятии каявшихся тридцать лет в нечистоте, „которую соделали по неведению“, рекомендует оказывать таковым снисхождение: „ибо они едва не весь век человеческий переданы были сатане, да научатся не бесчинствовать“. Очевидно Василий В. образно выражает упоминанием об этом предании сатане ничто другое, как состояние в отлучении. Апостольские Постановления выражают тоже самое понимание дела: заповедуя епископу быть не скорым на изгнание из церкви (μὴ πρόχειρος εἰς τὸ ἐκβαλεῖν), но медлительным, не слушать людей имеющих третий язык 38). Постановления говорят: (ибо) „если
37) Kober, S. 19.
38) Т. е. оговорщиков. См. русск. пер. стр. 43.
266 —
ты будешь принимать слова таковых людей безрассудно, то рассеешь все свое стадо и предашь его на съедение волкам, то есть (τούτεστί)демонам и злым людям, или, лучше сказать, не людям, но зверям в образе человеческом— язычникам, иудеям и злым еретикам. Ибо к изверженному из церкви (τῷ ἐκβληθέντι τῆς ἐκκλησίας) тотчас приступают хищные волки и жаждут пожрать его как агнца, считая погибель его своим приобретением, потому что и отец их диавол человекоубийца есть“ и проч. 39). Св. Иоанн Златоуст в словах апостола о предании сатане точно также усматривает чисто метафорическое выражение: „апостол не говорит (рассуждает Златоуст): отдати такового сатане, но предати, отверзая ему двери покаяния и как бы предавая мучителю“. Что касается до выражения апостола, что предание сатане совершается „во измождение плоти“ (εἰς ὅλεθρόν τῆς σαρκὸς)—прибавление, которое, по-видимому, еще более укрепляло в представлении об отлучении как о предании „в удел диаволу“, то Златоуст понимает это прибавление таким образом, что апостол этим выразил: „дабы сатана наказал (коринфского кровосместника) злокачественными ранами, или другою какою-либо болезнью, подобно как это было с блаженным Иовом, хотя и это зависит от воли Божией, то есть то, чтобы наказана была плоть его. Таким образом, заключает Златоуст, эти слова означают более попечение и врачевание, нежели простое поражение“ 40).
Из всего сказанного до сих пор во всяком случае видно, что не смотря на те исключительные представления, которые иногда соединялись с термином анафемы, в роде „предания сатане“, обязательно думать, что в древности анафема была только юридическим термином отлучения от церкви в смысле церковного общества.
Как важнейший акт церковной дисциплины отлучение в древней церкви было обставлено условиями, гарантирующими каждого верующего от произвола власть отлучения имеющих. Апостольские Постановления, как замечено
39) Lib. £1, cap. 21, edit. Pitra, p. 158, русск. перев. ibid.
40) Бесед. на I послан. к Коринф, р. пер. ч. I, стр. 262—3.
— 267 —
было, вообще весьма предостерегают церковную власть от поспешности в отлучении. „Ты будешь виновен в погибели того, кто, от твоего нерассуждения, будучи несправедливо отлучен, уйдет к язычникам или присоединится к еретикам!“ „Отдадите отчет в день Господень, если исторгнете из церкви невинного“ 41). „Со многою осторожностью, посоветовавшись с другими опытными врачами, отсекай гнилой член, чтобы не растлилось все тело церкви“ и т. п. Подобные увещания, встречающиеся в раннее время, впоследствии принимают форму и силу положительного закона. Так, прежде чем подвергать отлучению, церковная власть обязана была стараться предотвратят необходимость этой крайней меры увещанием порочного или впавшего в заблуждение—оставить порок иди заблуждение. Апостольское 30-е правило положительно предписывает троекратное увещание. В особенности в этом отношении замечательно 14-е правило Сардикийского собора, показывающее, как церковь соединила необходимый порядок с одной стороны, с уважением к правам личности — с другой: правило говорит о том случае, если бы епископ, склонный ко гневу, „пожелал извергнуть из церкви (ἐκβαλεῖν ἐκκλησίας)“ какого-либо клирика. Тогда изверженный имеет право обращаться с просьбой о переисследовании дела или к епископу-митрополиту, или даже просто к соседнему епископу. Но при этом а) пи епископ не должен считать оскорблением просьбу отлученного о переизследовании дела, ни б) другой кто, тем более сам потерпевший, до рассмотрения дела не имеет права считать определение епископа, склонного ко гневу, не имеющим силы. — Но во всяком случае отлучение должно было быть крайней мерой—„когда кто-нибудь развратился до такой степени, что никоим образом не решается переменить своего мнения» (Златоуст). В таком случае, говорит Златоуст, „для чего напрасно спорить и бить воздух?“ Только лишь бы отлучаемый „по мог сказать того, что никто не говорил ему, никто не вразумлял его“. И подобно тому, „как не пещись о тех, которые подают надежду на исправление, есть знак бес-
41) Указ. место. Стр. также кн. II, гл. 42, р. пер. стр. 72.
268 —
печности; так врачевать неизлечимо больных есть знак неопытности и крайнего безумия“ 42). „Как больной член отнимается со скорбью и предварительно бывает долгое рассуждение о том, нельзя ли излечить этот член, и уже если нельзя, тогда его отнимают; так и обязанность доброго епископа состоит в том, что ему надлежит сначала врачевать больных, а потом, если уже они будут неисцельны, с сожалением отсекать“ 43). Так, обыкновенно, рассуждали в древней церкви об отлучении. Мы видели также, что против всякого иного отношения к людям, вызывавшим необходимость крайних мер, подавал голос еще Киприан карфагенский, осуждая людей спешивших сокрушать не только упорного, но и немощного „без правдивой умеренности“, без всякого внимательного рассуждения. Св. Григорий Богослов по поводу укоренившейся в его время наклонности прибегать к отлучению лишь только обнаружится, что человек уклонился от пути истины, рассуждал: „когда мы огорчаемся только по подозрению и боимся, не исследовавши дела,—тогда терпение — предпочтительнее поспешности и снисходительность — лучше настойчивости: гораздо лучше и полезнее—не отлагаясь от общего тела, как членам оного, исправлять друг друга и самим исправляться, нежели преждевременно осудив своим отлучением, потом повелительно требовать исправления, как свойственно властелинам, а не братиям“ 44). „Преемники апостолов, говорит Златоуст, соблюдая апостольскую заповедь, отлучали от церкви с таким чувством, как будто бы исторгали у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и сокрушение как бы при отнятии больного члена. Почему и Христос назвал такового (то есть, соблазняющего и потому подлежащего извержению) правым глазом, означая сожаление отлучающих его“ 45). Словом, можно бы привести много мнений и фактов того, что внезапное,
42) Бесед. на посл. к Титу, р. пер. стр. 78—81.
43) Dupin, р. 263. Ср. также Постановления апост. Lib. II. 41—43.
44) Твор. р. пер. ч. 1, 237—8.
45) Слов, на разн. случаи, II, 326.
269
без предварительного увещания, отлучение считалось делом абсолютно невозможным 46).
С вопросом об условиях отлучения связан вопрос об анафематствовании умерших.—Если справедливо, что анафема—тоже, что полное отлучение, и что, следовательно, анафема была только извержением из видимой церкви, или церковного общества, в юридическом отношении аналогичным с извержением из всякого другого союза или общества; если извержение из видимой церкви могло следовать только после увещания, когда ответом на это увещание послужило упорное нежелание внять предостережению; вообще, если извержение было только следствием суда, где обвиняемый мог оправдываться, и только в случае решения дела не в пользу обвиняемого могло следовать и изгнание его из церковного общества 47); то по-видимому об анафематствовании умершего не может быть и речи,—как человека Самим Богом изъятого из среды живых и их суда, который мог согрешить по неведению, и о котором неизвестно, как он отнесся бы к предостережению и увещанию церкви. И нужно сознаться, что вопрос об анафематствовании умерших очень затруднителен для решения в таком смысле, чтобы древнее церковное законодательство и практика с первого взгляда не представлялись ни на минуту несколько противоречащими, или по крайней мере— изменившимися с течением времени. Факты анафематствования умерших, как сейчас увидим, несомненно были. Но если так, то, конечно, должно будет признать, что теория равнозначимости анафемы отлучению, и при том отлучению от видимого церковного общества,—совсем несостоятельна, и анафема означала что-то другое, — не говоря уже о том, что приняв анафематствование после смерти за нормальный церковный порядок, должно будет признать церковное правосудие не всегда и не совсем правосудным по той причине, что при таких условиях
16) См. Bingh. Vil, р. 80 Dupin, ibid., а также исследование Остроумова—Синезий, епископ Птолемаидский, стр. 132 и др.
47) Древние толкователи принципом всего церковного права считали, что „епископу не дозволяется без суда, отлучать своих клириков". Тоже должно думать относится и к мирянам. См. толкование Вальсамона на 14 пр. соб. Сардик. русск. пер. 1239.
— 270 —
оно не всегда обладало бы основным условием правосудия—предоставлением обвиняемому возможности оправдания. Если же припомним, как выражался Златоуст о попытке осудить умершего, то выражения Златоуста об этом предмете гораздо более должны бы привести в недоумение смутившегося, как мы знаем, мнениями Златоуста Вальсамона, чем то мнение, которое раз привело уже в недоумение знаменитого византийского знатока церковного права.
В истории вопроса об отлучении умерших должно различать два периода: до пятого вселенского собора и после этого собора. Мнения и факты до этого собора представляются в следующем виде: историк Сократ рассказывает, что когда св. Епифаний кипрский, явившись в Константинополь, предлагал многим епископам подписать составленное им „запретительное определение“ против Оригена, то иные подписали это определение, но „большая часть отказалась». Из числа последних был и один епископ по имени Феотим, давший Епифанию следующий ответ: „я по согласен оскорблять древнего мужа, если он скончался в благочестии; не смею приступить к поносному делу и изгнать то, чего по отвергли наши предки“ 48). Дело шло об исполненном впоследствии анафематствовании Оригена, и дело это, очевидно, теперь не имело успеха, вызвав от некоторых резкие суждения о самом своем принципе. В V столетии на западе встречаются положительные мнения о том, что умерший в мире с церковью подлежит только суду Божию. Так папа Лев I выражал мнения, что „нам не следует испытывать деяния и заслуги тех“, которые не успели принести раскаяния, будучи изъяты из среды живых, „потому что Господь Бог, суды Коего не могут быть постигнуты, предоставил Своему Правосудию то, что не могло восполнить служение священническое“. Папа Геласий держался того же мнения,—что „о предстоящем суду Божию нам но пристойно определять иное, кроме того, в чем застал его день смертный“. Замечательнее же всего в этом отношении рассуждение одного из римских соборов: собор обращает внимание в своем рассуждении на то, что
48) Сократ, Истор. 479.
— 271-
сказано: „елика аще свяжете на земли“. „Следовательно, заключает собор, того, о ком известно, что он уже не на земли, Господь предоставил не человеческому, но Своему суду, и церковь не дерзает присвоить себе то, о чем знает как о непозволенном блаженным апостолам; ибо иное дело живые, а иное умершие“ 49).— Из данных до эпохи V вселенского собора, заставляющих предполагать возможность и противоположного решения вопроса, или по крайней мере—существование мнений противоположных, известны: а) несколько выражений, встречающихся у св. Кирилла александрийского и бл. Августина 50); b) правило одного, из африканских соборов (по книге правил прав. соб. Карфагенского 92-е), определявшее, что если епископ оставит своими наследниками еретиков или язычников, „таковому и по смерти да будет изречена анафема, и имя его никогда от иереев Божиих да не возносится“; и с) факт упоминаемый историком Сократом—именно, что Феофил александрийский „отлучил Оригена спустя почти двести лет после его кончины 51). Ко времени V вселенского собора вопрос по поводу с одной стороны того же Оригена, а с другой— по поводу Феодора мопсуетского принял такой оборот: заблуждения Оригена, или по крайней мере его последователей оригенистов, по некоторым вопросам, а также заблуждения Феодора мопсуетского выяснились с несомненностью, при чем выяснилось также, что заблуждения эти оказывают вред, простиравшийся далеко за пределы жизни обоих этих лиц. Но так как эти лица своими мыслями причинившие вред давно уже умерли; то, очевидно, вопрос об осуждении умерших должен был так или иначе решиться. При возбуждении дела об Оригене и Феодоре, однако же, прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что анафематствование этих лиц стало предметом церковного вопроса и последовало не прежде чем дело решено было в его принципиальной по-
49) Kober, S. 90. Dupin, 290-1.
50) Например Августин говорит: „если бы справедливо было то, что донатисты приписывают Цецилиану, то мы анафематствовали бы его и мертвого“, ibid.
51) Истор. 576; ср. выше.
272
становке, то есть, но прежде чем решено было безотносительно к Оригену или Феодору то, должно ли анафематствовать умерших, или нет. Если же сначала был поставлен вопрос, и анафематствование обоих умерших не явилось только применением церковного закона как готовой нормы, то это показывает, что а) общего церковного закона на этот счет еще не было, а b) прецеденты или не были известны, иди считались недостаточными для бесспорного решения вопроса. По рассказу Евагрия, когда на V вселенском соборе стали обсуждать этот вопрос, то Евтихий (сначала простой апокрисиарий, а впоследствии патриарх константинопольский), „посмотрев на собравшихся, не только с гордостью, но и презрением, сказал решительно, что это не требует и рассуждения, потому что и в древности царь Иосия не только закалал лживых жрецов идольских, но и раскопал гробы тех, которые задолго до того умерли“. „Замечание Евтихия всем показалось уместным,—продолжает историк,—а в особенности императору Юстиниану“ 52), Нельзя, конечно, было бы согласиться с достопочтенным апокрисиарием, что это есть доказательство как раз за анафематствование умерших. Притом явился бы не решенным вопрос: почему оказалось возможным следовать примеру царя Иосии только в отношении к умершим, а и не живым вместе с тем; то есть: почему не признать освященным библейским примером и заклание идолослужителей, что однако же не делалось? Так представляет историк первый случай, когда анафематствование умерших поставлено было как вопрос, т.-е. как предмет обсуждения. Но из подлинных актов собора видно, что дело не так просто решилось, т.-е. одним удачным соображением, как оно рассказано Евагрием. Из актов собора мы узнаем, прежде всего, что „некоторые“ говорили—совершенно наоборот, что „не должно анафематствовать после смерти“, и говорили это безотносительно к тем лицам, которые дали повод к возбуждению такого вопроса 53). Потом видно
52) Истор. русск. перев. стр. 238.
53) Деян. всел. соб. т. V, стр. 150. Противники анафематствования умерших ссылались на одно сочинение Кирилла александрийского, где
— 273 —
также, что собор не пренебрег рассмотрением того, что выставляли против осуждения умерших, хотя и пришел к заключению не в пользу противников такого осуждения. Что касается до оценки степени силы аргументов, выставляемых противниками анафематствования умерших, то собор нашел, что одни из этих аргументов—подложны, в том смысле, что сочинения лиц авторитетных (наприм. Кирилла александр.), из которых аргументы берутся, в действительности не принадлежали этим лицам; другие аргументы—образованы с помощью урезок в словах, действительно сказанных авторитетными лицами; третьи, наконец, суть „слова, сказанные но благоразумию, чтобы удержать возмущения",—а „благоразумие иногда полезно в приличное время, а иногда производит оскорбление по свойству времени. Ибо когда нужно научить неведущих или заблуждающих, тогда благоразумие весьма полезно. Когда же в науке наступит время совершенства, тогда, оставляя снисхождение, мы приступаем к совершенству догматов“ 54). — Собор рассматривал также и положительные мнения и факты, говорящие за право анафемы после смерти: мнения св. Кирилла александрийского, Августина, факты—что церковь и теперь анафематствует Валентина, Маркиона и других, „хотя они (при жизни) не были анафематствованы никаким собором“, что—Феофил александрийский анафематствовал Оригена, и некоторые другие факты 55). В заключение собор решил, что— „сказанное и представленное достаточно доказывает (то) церковное предание, что должно анафематствовать ерети-
между прочим Кирилл будто бы писал:—что он вполне согласен „с теми, которые думают, что тяжко ругаться над умершими хотя бы они были мирские, а еще более над теми, которые отошли из жизни в епископском сане. Ибо благоразумным мужам свойственно по всей справедливости предоставить это Тому, Кто наперед знает мнение каждого и знает, каков будет каждый из нас" ibid. 170. Но сочинение, из которого приводили эту выдержку, на соборе признано было подложным.
54) Ibid. 160—185.
55) Но мнению г. Доброклонскаго факты, которые на соборе приводились защитниками анафематствования умерших,—не все исторически достоверны. См. сочинение: Факунд, епископ гермианский, М. 1880, стр. 226.
274 —
ков и после смерти“ 56).—Как известно, такое решение вопроса тут же нашло себе применение в анафематствовании Оригена и Феодора мопсуетского. После пятого вселенского собора случаи предания анафеме умерших увеличиваются 57), так что можно подумать, что осуждение без предварительной процедуры увещания и выслушивания оправдания обвиняемого (чего, конечно, не могло быть, когда обвиняемый умер) стало делом обычным, хотя и новым по сравнению с практикой древнейших времен.
Может быть, сейчас указанные соображения, к которым необходимо должен приводить каждого исследователя вопрос об анафематствовании лиц в своем роде беззащитных, может быть другие—заставили известного католического канониста Кобера, на которого мы неоднократно ссылались, объяснять известные в истории примеры анафематствования умерших таким образом: „если, говорит Кобер, ближе всмотримся в известные в истории примеры анафематствования умерших, то легко увидим, что эти примеры но противоречат тому общему положению, что отлучение (которое, конечно, и Кобер считает за одно с анафематствованием) налагаемо было только на живых“.. Каким образом? Ио мнению Кобера, „когда церковь отлучает, или анафематствует умершего, то в этом случае отлучение не есть таковое в собственном смысле: действие этого наказания 58) не касается умершего, и его состояние, как до отлучения, так и после его, остается тоже самое; вся же процедура отлучения умерших бывает предпринимаема единственно ради живых,— дабы для сих последних ясно было, что умерший за его, хотя открывшееся и после смерти, преступление недостоин церковного общества, что живые должны порвать с ним общение (т. е. общение, которое выражается между живыми и умершими молитвою за них). Цель, которую преследует
56) Ibid. 218.
57) Dupin, 1. cit.
58) Как было упомянуто, католические канонисты полное отлучение считают в числе наказаний в собственном смысле. Но мы замечали также, что юридическое понятие наказания не соответствует полному и действительному отлучению, как акту прекращения всяких отношений отлученного к церковному обществу.
275
церковь, отлучая умерших,—говорит Кобер,—исключительно польза живых, как например указание учения признанного ложным, если отлучение последует за такое учение“, и т. п. 59).—действительно, нельзя не согласиться с основной мыслью этого ученого, именно, что отлучение умерших представляет собой такие особенности, которые дают основание не видеть в ном ни нарушения общих принципов отлучения, ни начала справедливости в церковной юстиции, хотя признав это, всякий должен будет признать, что теория, или по крайней мере терминология отлучения или анафематствования вообще, оставаясь такою, какою она нами была изложена, в приложении к умершим будет иметь несколько иной вид, т. е. утратит некоторые черты теории отлучения в приложении к живым. В доказательство сейчас сделанных положений рассмотрим, как вопрос об отлучении пошел на V вселенском соборе.
Как было замечено, когда обстоятельства, предшествовавшие собору, сделали необходимым решить вопрос: как поступить с некоторыми из умерших в мире с церковью, по этого, по обнаружившимся впоследствии причинам, не заслуживавших бы; то готового и бесспорного решения не оказывалось, и собор должен был исследовать дело и обратиться к прецедентам. И что касается прецедентов в истории, рассмотренных на соборе, то здесь сильнее всего, по-видимому, выступает указанное правило одного из Карфагенских соборов об анафематствовании епископа, сделавшего завещание на неправославных. Вне всякого сомнения, что правило это повелевает анафематствовать умершего епископа, но, конечно, не того умершего, который сделал противное правилу прежде самого издания правила и умер, не имея на своей памяти ничего противоцерковного, кроме этого проступка,—но такого епископа, который после издания правила, нарушил бы слишком ясный закон, заключенный в правиле. Основанием для осуждающего приговора, очевидно, послужило бы то, что—как замечает один комментатор—епископ, „быв епископом, должен был сде-
59) Der Kirchenbann, S. 92—3.
276 —
дать завещание по законам и достойно своего звания“, но ни требований закона, ни того, что сообразно с его званием, епископ не мог не знать. Стало быть, всякий нарушивший закон мог нарушить его никак не вследствие какого-либо недоразумения, а с явным сознанием правонарушения и его последствий, и факт сам по себе заключает доказанную вину.—Таков один из прецедентов, на который обращено было внимание на V вселенском соборе. И нельзя будет не признать, что рассматриваемое безотносительно правило обладает всеми свойствами к соблюдению должной справедливости в отношении к виновному, исключая возможность своего применения при условиях каких-либо иных, кроме обозначенных законом.
Но вместе с тем правило представляет собою и некоторые вопросы: само в себе—то, что оно требует изменения теории „анафемы“ как извержения из церковного общества; в применении к тем лицам, о которых дело шло на V вселенском соборе оно, по-видимому, не давало основания к своему здесь употреблению, именно: здесь дело шло не о нарушении ясно выраженного закона упрямою волею человека, а о заблуждениях ума человеческого, стремившегося изыскать в известной сфере истину; притом это изыскание теперь только впервые признается давшим ложные результаты, когда столетия тому назад ложность результатов не была еще и вопросом. Стало-быть, если собор желал провести аналогию, то ему предстояло: а) сначала установить закон (утвердить ложность известных мнений), b) а потом применить его к давно прошедшему факту и его виновнику: по меньшей мере предстояло сделать одну несправедливость—дав обратное действие закону, не говоря уже об остающемся все еще нерешенным вопросе о том, что же такое здесь будет „анафема“. Но с первого разу уже представляется, что собор даже и в виду не имел проводить подобной аналогии и вообще—анафематствовать так, чтобы все возражения против анафематствования умерших могли оставаться в силе с точки зрения естественной справедливости и существовавших понятий о церковной юстиции.—В самом деле:
277 —
Приступая к самому рассмотрению вопроса об анафематствовании умерших, собор считал „анафему“ совершенным синонимом „осуждения“. Так в Деяниях собора читаем: „Св. собор сказал: а о том, что и после смерти должно анафематствовать еретиков, уже нечто было читано; впрочем, если что-либо другое относится к этому, пусть будет прочитано. Диодор архидиакон сказал: у нас под руками извлечения, относящиеся к настоящему вопросу о том, что должно осуждать еретиков и по смерти“ 60). Тоже самое показывают и эти „извлечения“. Извлечения эти таковы: 1) из Св. Кирилла александрийского: „должно отвергать тех, которые повинны в столь дурных поступках, в живых ли они находятся, или нет; ибо необходимо удаляться от того, что вредит“ и проч. 2) Из бл. Августина: в одном месте Августин говорит, что если бы доказано было то, что донатисты приписывали Цецилиану, „мы сами анафематствовали бы его по смерти“. В другом: „я не оставлю общения с членами церкви. Если в этом общении были предатели, то я и телом, и душою отвращусь от них после смерти“. „Мне можно также судить об умерших, потому что суд может быть не только о живых, но и об умерших“. Очевидно, что эти извлечения но все говорят прямо об анафематствовании умерших в том смысле, какой принадлежит этому слову в приложении к живым,—в смысле известного специального процесса: половина из них говорит то—об „отвержении“ некоторых умерших, то—об „отвращении“ от таковых, то—о возможности суда об умерших. Но если, не смотря на всю разность, которую, по-видимому, собор должен бы иметь в виду, между „отвержением“, „отвращением“ и т. п. и „анафемой“, он пришел к известному нам выводу: то мы никак не должны это приписать какому-либо смешению в понятиях или упущению из вида важного различия между понятиями анафематствования и понятиями найденными собором в писаниях предшествующих отцов и учителей: собор, очевидно, не
60) Деян. всел. соб. т. V, 160—1.
61) Ibid.
— 278 —
без намерения игнорировал это различие. И основанием этого игнорирования, очевидно опять, служило единственно то—что собор „анафематствование“ считает тождественным с „осуждением“, неодобрением, „отвержением“, а в основании возможности подобных действий по отношению к умершим лежала мысль о возможности и полной разумности суда об умерших, как выражается одно из „извлечений“, приведенных на соборе. Вот на этом-то основании иногда—необходимости, а всегда—разумной возможности суда об умерших главным образом и возникло утвердительное решение вселенского собора относительно того, что „анафематствовать умерших должно“.
В этом смысле, очевидно, возможна и анафема. „Если, говорит Дю-пен, экскоммуникацию умерших принять как засвидетельствование отрицательного мнения церкви относительно этих, уже умерших, лиц на основании доказанного их неправомыслия или неблагочестия при жизни (хотя бы это неправомыслие или неблагочестие и не было доказано, когда они были живы); то нет, конечно, никакого сомнения в том, что возможно произносить анафему и на умерших,—именно как выражение неодобрения их деяниям или образу мыслей“ 62). Следоват. анафема в этом случае подобна той анафеме, которая иногда провозглашалась на некоторые сочинения, авторы которых или сомнительны, или в других своих, кроме анафематствованных, сочинениях являлись совершенно правомыслящими,—как это, например, было по отношению к некоторым сочинениям Феодорита, Ивы эдесского и других 63). Можно полагать притом, что анафематствование
62) De antiq. eccles. disciplina, 29.
63) Если искать аналогий, то принцип, на котором обосновалось анафематствование умерших, представляется сходным с одним принципом уголовного права, усвоенным новейшим законодательством: как известно, общее начало уголовного права—что смерть лица обвиняемого прекращает судебное преследование обвиняемого. Но если по каким-либо причинам родственники умершего обвиняемого пожелают, то судебное разбирательство вины умершего может быть произведено, и суд обязан сделать приговор о виновности или невиновности умершего субъекта. Но это не есть суд над умершим в собственном смысле, а именно только об умершем, ибо такой суд не имеет последствий обыкновенного суда; в случае, например, признания виновности умер-
— 279
V вселенским собором людей давно умерших относилось не столько к самым лицам, давшим повод к возбуждению прискорбного суда о них,—сколько к идеям, связанным действительно или мнимо с именами этих лиц; т. е. более к тому, что например называли оригенизмом, чем к самому Оригену, к учению Феодора мопсуетского или идеям, приписываемым ему, чем лично к самому Феодору. По крайней мере, в отношении к одному из осужденных после смерти, Оригену, существует именно такое мнение, возникающее в особенности в виду того, что сам Ориген во всех своих мнениях желал быт богословом изыскателем, а не реформатором христианской догматики: думают, что будет не совсем невероятным комментарием анафематизм V вселенского собора, если сказать, что подвергнута анафеме скорее система Оригена, чем его личность, тем более, что уже в эпоху осуждения Оригена для осуждающих было бы чрезвычайно трудно выделить, что именно принадлежит лично Оригену, что оригенистам 64). То правда,
шего, не теряют законности действия его такие, которые, будь он признан виновным при жизни, не имели бы силы, как совершенные лицом неправоспособным. Таково, например, право завещания. И нельзя не признать в этом праве требовать суда над умершим высокогуманной мысли, так как этим нутом представляется единственное средство оправдать память невинно-обвиняемого, но за смертию не успевшего доказать своей повинности.—Замечательно, что и в вопросе об анафематствовании умерших, защитникам полной неприкосновенности имени лиц умерших и несправедливости когда-либо разбирать их деяния, возражали, что-отвергая самый принцип суда об умерших—они тем самым лишают возможности и права оправдывать память многих лиц церковной иерархии, которых человеческое пристрастие осудило ложно.
61) „Если с именем еретика — говорит католический епископ, известный Freppel— должно быть соединяемо представление о человеке, который заблуждается в догмате, то невозможно не приложить это название к Оригену. Но если такое название должно прилагать только к человеку, который обнаруживает намерение остаться при своем заблуждении, несмотря на осуждение этого заблуждения церковью, то кто же может приложить это название к Оригену, который никогда не сопротивлялся определению церкви?“ (Om. Origène, t. ІI, p. 443), Нельзя также не обратить внимания и на то, что шестой и седьмой вселенские соборы не совсем тождественно выражаются об осуждении Оригена. Именно,
— 280 —
что, признав это, мы должны будем признать в таком случае и то, что термин анафемы, употребляемый при таких условиях, получает иное значение, чем какое он имел в практике церкви раннейшего времени. Но это изменение терминологии анафемы в том смысле, что она перестает уже означать исключительно извержение человека от церковного общества, и действительно должно будет признать, как исторический факт.—Тем не менее, и признав это совершившееся изменение терминологии, всякий должен будет признать, что условия наложения анафемы, как извержения из церковного общества, в древней церкви оставались теми же в высшей степени нравственно и юридически законосообразными.
Как замечено было, причины, при наличности которых считалось невозможным терпеть человека среди членов христианского общества, в практике позднейших времен сводились исключительно только к заблуждению в области догмы (error propter fidem); тяжкие же грехи перестали иметь своим последствием полное отлучение от церкви. В практике древнейшей церкви причиной отлучения могло служить и то, и другое. Мы уже указывали некоторые примеры того, что иногда влекло за собой отлучение. В IV веке св. Василий Великий предписывал лишить общения в молитвах и провозгласить отлученным одного похитителя девицы, так как это похищение „есть нарушение
седьмой: „анафематствуем бредни Оригена, как ото сделал пятый вселенский собор“ (Деян. всел. соб. VII, 592). Шестой: „наш вселенский собор присоединился к голосу пятого св. собора, собранного против Оригена — „отверг самоизмышленные догматы нечестия“. (Деян. всел. соб. VI, 467). Но в другом месте тот же собор: „признаем... изречения 160 богоносных отцов, которые соборно анафематствовали Оригена (и других), воспроизводивших языческие басни“ (ibid. 580). Следоват. последующие вселенские соборы, говоря об осуждении Оригена, выражаются-то как об осуждении его идей („бредни, басни, измышленные догматы“) и следов. сочинений, идеи эти в себе заключавших, то как будто бы и вместе с тем об осуждении самой личности Оригена.—По-видимому мысли о том, что осуждены были „оригеновские мысли и оригениане“, а не личность Оригена, держится и пр. Филарет Чернигов. (Истор. учение об отцах, ч. I, стр. 239), хотя, в виду известной спорности предмета, первоначальное осуждение Оригена пр. Филарет приписывает не V вселенскому собору, а частному собору 543 года (ibid.).
281 —
законов общежития, насилие человеческой жизни и оскорбление людям свободным“ 65). Из одного письма Василия же Великого можно заключить, что отлучению подвергались иногда и лица преданные суду гражданскому, если предмет судебного преследования в то же время составлял и преступление против христианской нравственности 66). Но во всяком случае должно сделать то общее положение, что причиной отлучения было преступление чисто религиозное, т.-е. или ложное учение, или нетерпимый с точки зрения христианской морали порок. Поэтому, даже византийское государство раннего времени, как ни много значения имело оно в жизни церкви, никогда однако же не пользовалось, при посредстве влияния на церковную власть, таким сильным для верующего христианина средством, как отлучение по делам чисто гражданским. Напротив, как увидим, само это правительство должно было иногда напоминать церковной власти о должных границах, в пределах которых имеет приложение церковная анафема. Равным образом и обратно: до самого периода сильнейшего развития папства не было известно фактов, чтобы церковная власть церковным отлучением покушалась мстить гражданской власти за дела собственно клира, например, за убавление имущественных привилегий и т. п. 67). Но естественно, что в силу наступившей с IV века близости между государством и церковью, в истории церковного отлучения должны были явиться случаи, в коих церкви приходилось разрешать вопросы весьма сложные и щекотливые — во 1) о том: должна ли
66) Твор. ч. VII, письма, стр. 267—8.
66) Ibid. 287—9.
67) Какое употребление давалось иногда церковному отлучению в римской церкви средних веков, это показывает следующее: так называемые апостолические нотарии, совершавшие всякого рода нотариальные акты, в долговых обязательствах имели право прибавлять: et nisi debitor satis fecerit statim post denuntiationem, sententiae excommunicationis se submittet, eam incursurus nisi solverit. Это условие носило обыкновенно название: super obligatione de nisi. Против этого впервые вооружилась галликанская церковь, объявив вовсе церкви несвойственным брать на себя обязательство отлучать от церкви не уплативших долги и вообще, право совершать гражданские акты cum obligatione de nisi, в знаменитых Libertates ecclesiae gallicanae, § 35.
282
церковь в отношении к строгости отлучения уравнивать всех лиц христианского исповедания независимо от их общественного положения, и во 2) в случае необходимости подвергать строгости отлучения лиц особенного государственного положения (правителей, чиновников), наблюдалось ли в церкви, в отношений к причинам отлучения, надлежащее различение между должностною деятельностью таких лиц и деятельностью частною: ибо как показал опыт истории, весьма легко бывает, трактуя лиц особенного положения в государстве в качестве членов церкви, незаметно перешагнуть в сферу и потом в оценку их деятельности, ведению лиц руководящих делами церкви совсем неподлежащей 68). —Чтобы ответить
68) Делаем это замечание в виду следующего рассуждения Кобера (Der Kirchenbann, S. 107—8): „церкви, говорит этот ученый, совсем чуждо то воззрение, на котором основывается различие деятельности государственного чиновника, как частного человека, от деятельности, которая обусловливается его общественным положением. Вследствие этого,—продолжает Кобер,—в церкви неизвестно и то, связанное с предыдущим положение, будто экскоммуникация может следовать исключительно за частную деятельность человека (как единственно подлежащую наблюдению церкви) и будто никогда не может следовать за деятельность публичную (т. е. государственно-должностную). Церковь слишком ценит свободу человека, чтобы считать его мертвым орудием, которое помимо своей воли предоставляет свои услуги другому. По воззрению церкви, у всякого должностного лица принятие и отправление должности всегда есть дело его свободного самоопределения, и то, что делает он в отношении к церкви, есть его дело: если положение· которое он занимает, требует действий противоречащих его церковным обязанностям, то совесть требует от него оставить его должность; если же он не делает этого, то ответственность и справедливое наказание падают на него“. В доказательство того, что церковь не оставляла без вменяемости и должностные положения, несогласные с церковными обязанностями, Кобер указывает на известные постановления Эльвирского собора (306 г.), подвергающие церковным наказаниям тех лиц, которые принимая на себя особенные должности в римском государстве (flamines, duumviri), в силу своего должностного положения обязаны были исполнять много такого, что христианину было непозволительно, например, председать в местах, где стояли языческие идолы: „хотя, говорит Кобер, такие люди ничего не делали, кроме того, что требовала от них должность, однако же они были извержены из церкви“. „Церковь должна простирать свое притязание и в случае нужды применять свою наказующую власть в указанном направлении. Отказаться от этой власти-значит для церкви отказаться от собственного достоинства и
— 283
на оба поставленные вопроса и в особенности видеть то положение церкви, какое она принимала в тех случаях, когда, применяя свои дисциплинарные средства к своему члену, как такому, она могла в виде лица соприкасаться с самым институтом государства,—мы рассмотрим немногочисленные, известные в истории случаи, когда отлучение на его обеих степенях падало на лиц, имеющих особое государственное положение. Случаи эти следующие: отлучение императора Феодосия I Амвросием Медиоланским; отлучение Ливийского военачальника св. Афанасием александрийским; отлучение правителя египетского Пентаполя, по имени Андроника, Синезием, епископом птолемаидским, и еще один случай, который будет указан ниже. Первый из этих случаев должен быть отнесен — к форме отлучения неполного, т.-е. простого „лишения общения“: Амвросий предложил Феодосию не участвовать в богослужении, и Феодосий пробыл лишенным общения во-
свободы». Ibid.—В ответ на эти рассуждения, на которых, как известно, основывается папское стремление поработить государство церкви, или правильнее, государственный порядок поставить в зависимость от мнений папской иерархии, при помощи применения экскоммуникации в самых обширных размерах,—можно пока сказать: действительно исторический пример, на который указывает рассматриваемый автор в доказательство того, что церковь не оставляла без вменяемости и должностные положения, если они противны церковным обязанностям, совершенно верен сам в себе. Но этот пример — слишком исключительный, чтобы на нем построить общие положения; в этом примере дело, собственно говоря, сводится к тому положению, что христианин не может быть в тоже время язычником, следовательно, здесь должностное положение совершенно неоспоримо подлежит вменяемости. Но из этого исключительного примера еще никак не следует и то положение, которое стремится делать католическая ученость и которое иногда осуществляла на самом деле католическая иерархия: объявить несовместимыми с обязанностями члена церкви те служебные функции в христианском государстве, которые в данную минуту католической иерархии почему-либо не нравятся — под предлогом несовместимости их с церковными обязанностями, когда в сущности существование не нравящейся функции—есть вопрос чисто государственный. Поэтому, древняя церковь там, где было основание опасаться, чтобы, установляя круг церковных обязанностей, не смешать с ними обязанности и в особенности права чисто государственные, так была весьма осторожна; и положительно можно доказать, что она иногда жертвовала строгостью своей дисциплины (как делом условным, средством, не служащим само по
— 284
семь месяцев 69), Отлучение в других двух случаях было полным отлучением.—Что послужило причиной всех этих отлучений? По мнению отлучавших, этой причиной служили деяния, противные христианской нравственности. Так Феодосий отлучен был за то, что, по его приказанию, как передавала это дело народная молва, убеждение в справедливости которой разделял и отлучивший, в Фессалонике „семь тысяч человек было умерщвлено без всякого суда и без улики в сделанном преступлении“ 70). Ливийский военачальник отлучен был за то, что „нагло и неистово посягал на чужие брачные ложа“ 71), а упомянутый Андроник за то, по словам отлучавшего, что поносил Христа делом и словом 72). Св. Иоанн Златоуст рассказывает еще аналогический случай отлучения — именно отлучение епископом Вавилою, впоследствии мучеником, какого-то царя, имени которого Златоуст не на-
себе целью) во имя того, чтобы применение дисциплины не произвело нарушения общественного мира. А это нарушение легко могло бы случаться, если бы, как думают и другие римские канонисты, церковь простирала свои дисциплинарные взыскания без особенно тщательного рассуждения о том, где начинается и где оканчивается ее компетенция, и если бы всякий акт лица занимающего особенное положение в государстве оценивала бы исключительно с точки зрения церковной дисциплины.—Примеры действительного отношения церкви к принципам своей дисциплины в подобных случаях мы сейчас увидим—в тексте.
69) Феодорит, Истор. 336.
70) Ibid.
71) Правосл. Собеседн. 1860, I, 46.
72) Под именем поношения Христа делом отлучивший (еп. Синезий) разумел прибитие на церковных дверях эдикта, запрещавшего церкви давать у себя приют лицам, в известных случаях прибегавшим под ее защиту (jus asyli), и наполненного ругательствами на церковь; под именем поношения словом — богохульные выражения отлученного правителя в роде тех, что никто не может ускользнуть из его рук „хотя бы он обнимал стопы Христовы".—См. исследование Остроумова— Синезий, еписк. птолемаидский, 131 —2, где в целом виде приведена отлучительная епископская грамота, едва ли не единственная сохранившаяся из тех грамот, которыми, в силу требования канонов, извещались другие церкви о состоявшемся отлучении,—или, по крайней мере, единственная грамота изданная единоличной властью епископа, а не целым собором, и притом—вследствие такого отлучения, причиной которого были чисто нравственные преступления отлучаемого, а не его догматические заблуждения.
— 285 —
зывает; но думают, что этот царь был Филипп-Аравитянин 73). Как Златоуст рассказывает, за убийство юноши-заложника в войне с другим народом, епископ Вавила отлучил царя от церкви „с такою твердостью и с таким бесстрашием, с каким пастух отделил бы больную овцу от стада“ 74). Процесс отлучения по рассказу Златоуста сходен с таковым же, что мы знаем из рассказа об отлучении Феодосия; то есть: Вавила, встретив царя, идущего к богослужению, остановил его при дверях храма и запретил ому вход в храм. Златоуст при этом рассказе хвалит „вместе с мужеством и благородство“ отлучавшего: он, по Златоусту, „как воодушевлявшийся мыслью пожертвовать своею жизнию мог бы осыпать царя оскорблениями, но он ничего лишнего ни сделал, ни сказал“. Вот все случаи, известные в истории древней церкви, когда строгости церковной дисциплины подпадали лица особенного, или совсем исключительного государственного положения. Если, однако, обратим внимание на причины отлучения во всех указанных случаях лиц правительственных, то должны будем признать, что это отлучение не имело и тени чего-нибудь похожего на вмешательство в дела государственные, деяния, за которые последовало отлучение, были или—совсем не должностные деяния (прелюбодеяния Ливийца, богохульство Андроника), или если и были связаны с должностным положением (Феодосий и упоминаемый Златоустом царь), то, по крайней мере, отлучавшим представлялись деяниями вовсе по вытекавшими из обязанностей или прав их должностного положения, а только нравственно преступными в общем смысле, хотя и совершенными под прикрытием исключительного права, даваемого властью. Конечно, повторяем опять, раз деяния государственных людей, хотя бы только косвенно связанные с их положением, подпадают рассуждению церковной власти, трудно
73) То есть думают, что рассказываемый Златоустом случай есть тот же самый, о котором рассказывает Евсевий, Истор. по русск. пер. 339. (VI. 34). Но Кобер (Der Kirchenbann, S. 109, not. 4) оспаривает это тождество—в виду несходства некоторых обстоятельств, рассказываемых у Евсевия и Златоуста. Для пашей цели, впрочем, это не важно.
74) Беседа о Вавиле, и Слов. на рази, случаи, I, 153 и друг.
— 286 —
бывает разграничить, где оканчивается право церкви на суд ее над деяниями всех своих членов, и где начинается уже вмешательство церковной власти в дела государственные. Но должно полагать, что в указанных случаях с Феодосием и с другим царем церковная власть была признана в своем праве, когда отлученные, не взирая на свое властное положение, покорялись бессильным внешнею силою епископам.—Несмотря, однако же, на признаваемое за церковью, как видно из указанных случаев, право равного отношения ко всем членам ее, церковь, как замечено было, наблюдала здесь величайшую осторожность, предпочитая мир церкви и государства строгости своей дисциплины. Таковы отношения церкви к императорам Констанцию, Валенту и другим. В силу этого же церковная власть предпочла снести явную обиду, нанесенную всему христианскому клиру Валентинианом I 75), чем касаться области государственных вопросов с опасностью потерять границу между своей сферою и сферою государства.
В древней истории церкви существует однако же несколько фактов, которые могут быть истолкованы как заключающие в себе попытки церковной иерархии—правительственную деятельность в государстве подчинить контролю церковных властей и предоставить этим властям право пользоваться страшным оружием отлучения от церкви в случаях если бы, по усмотрению церковной власти, эта деятельность оказывалась противной своему назначению. Фактов таких, правда, весьма немного, и один из этих фактов есть 7-е правило Арелатского собора 314 года „о правителях“ (de praesidiums). Правило это определяет, что если христианин принимает государственную должность и будет послан в другую провинцию для управления, то чтобы таковой брал с собою от епископа своей провинции „представительную“ грамоту к епископу той страны, куда он будет назначен для управления; „а епископ
75) Имеем в виду известный закон Валентиниана I, запрещавший, одно время, христианскому клиру принимать имущество по завещаниям, между тем как в то же время языческие жрецы пользовались этим правом,
— 287 —
той страны, в которой он будет управлять, имел бы над ним наблюдение; и в случае, если таковой (христианский правитель) стал делать что-либо противное общественному благочинию, епископ пусть лишает его общения“ 76). Гефеле комментирует это правило таким образом: по правилу этому „епископ должен наблюдать за таким правителем, (т. е. христианским, так как в это время были еще и язычники в этих должностях), подавать ему советы, дабы он в своей должности, простиравшейся даже до jus gladii, не учинил какой-либо несправедливости. Если же он не внимает советам и нарушает церковную дисциплину, то исключать его из церкви“ 77). Кажется, Гефеле несколько смягчает силу правила, поставляя условием исключения из церкви, кроме
76) Полный текст этого правила: de praesidibus, que Fideles ad praesi datum prosiliunt, placuit, ut cum promoti fuerint, literas accipiant eccle siasticas commonicatorias, ita tamen ut quibuscumqne locis gesserint, ab episcopo ejusdem loci cura illis agatur, et cum contra disciplinam publicam agere, tum demum a communione excludantur,—Кобер (Der Kirchenbann, S. 106) и Гефеле (Consiliengesch. I, изд. 1873, S. 208) слово: publicam не читают; но Бингам (vol. VII, р. 132) и другие старинные писатели— читают. Вследствие этого Кобер (ibid.) под выражением: contra disciplinam agere разумеет нарушение собственно церковной дисциплины, т. е. переводит иначе, чем мы переводим, и видит в этом указание только на то, что церковная цензура простиралась на всех христиан, без различия званий, одинаково. Но, сколько нам известно, Кобер есть единственный исследователь под указанным выражением разумеющий нарушения специально против церковной дисциплины, а, следовательно, и предмет наблюдения епископа за правителем—в сфере той же области церковной дисциплины. Гефеле же (несмотря и на одинаковое с Кобером чтение, т. е. с опущением слова: publicam) и Бингам думают иначе (см. выше—в тексте), и последний притом дает такое чтение правилу: quam coeperint contra disciplinam, publicam agere, и проч.. принимая, кажется, publicam вместо: rempublicani, но во всяком случае тяготея к той мысли, что предмет епископского наблюдения, о котором говорит правило, составляет не одна дисциплина церковная, т. е. церковные требования от правителя как члена церкви, а качество самой его правительственной деятельности.
77) Ibid. Неопределенный, с рассматриваемой точки зрения, комментарий дается у Миня—Diction de Theologie, t. XIII. p. 193 (Diction, des conciles, t. I): „правило это повелевает отлучать (правителей) от общения церковного, если они будут делать что-либо заслуживающее этого наказания“.
— 288 —
невнимания советам епископа, еще и фактическое нарушение церковной дисциплины. Спрашивается: а если бы правитель, не нарушая церковной дисциплины в своем поведении, не слушал бы епископа и его советов относительно дела управления, и управление пошло бы худо (contra disciplinam): подлежал ли бы он тогда епископской репрессии при помощи церковного отлучения? Нам думается, что правило имеет в виду утвердительный ответ, т. е. предоставление епископу контроля над деятельностью светского чиновника, не взирая на все варианты в чтении текста правила, допускаемые его комментаторами. Этого требует соображение о том, что не для того же издано правило, чтобы сказать, что виновник—христианин также обязан блюсти церковное благочиние, как и всякий другой человек! В особенности это должно будет признать, когда примем во внимание известное сказание Евсевия о том положении, в какое император Константин поставил правителей провинций в отношении к местным епископам,—а собор Арелатский как раз имел место не только при Константине, но, как некоторые думают, даже в его присутствии 78). Правило это, однако же, до того исключительно, что Бароний из всей древней практики только на этом правиле и мог мнимо обосновать известное положение католического церковного права, что „еретики и схизматики не допускаются к общественным должностям“. И из отсутствия повторения этого правила, не говоря уже о том, что оно в весьма вероятной степени могло появиться под влиянием самой же государственной власти, можно заключить, что древняя церковь весьма опасалась стать на скользкий путь пользования правом отлучения из за дел, ее ведению непосредственно не подлежащих.
Имея в виду другой факт вмешательства церковной власти с ее правом экскоммуникации в сферу вопросов государственных, мы должны заметить, что факт этот к истории дисциплины собственно в православной церкви не принадлежит, а встречается в практике одного из древнейших сепаратистических обществ, именно у но-
78) Bingh. ibid.
— 289 —
вациан. Но так как новациане были все-таки обществом, относительно говоря, не особенно далеким от истинной церкви: они, как известно, не повреждали ничего из основных истин христианства и не глубоко искажали устройство церкви; то мы отмечаем одну из особенностей их дисциплины, которую не решался порицать и св. Амвросий Медиоланский, но которая представляется заключающей в себе тенденцию—применять отлучение и в вопросах чисто политического свойства. Св. Амвросий Медиоланский свидетельствует о такой особенности их дисциплины: „есть люди, впрочем, они нашей церкви сущие, кои считают недостойными приобщения небесных тайн тех, кои произносили над кем-либо смертный приговор. И таких людей хвалят, да и мы не можем не одобрить их, прибавляет Амвросий, хотя и не осмеливаемся лишить судей приобщения“ 79). Если новациане, таким образом, отлучением от св. тайн как будто бы наказывали представителей закона, который последние обязаны были только исполнять, то это, говоря безотносительно, справедливо должно признать одной из попыток ввести в число причин отлучения и предметы, составлявшие сферу государственного строя. А раз хотя один предмет, не относящийся к вопросам вероучения или личной нравственной деятельности, признан как условливающий существование или несуществование человека в церковном обществе, этим открывается полный простор для дальнейшего произвола в употреблении специально-церковных мероприятий, а затем и к смешению всего церковного порядка с государственным 80). Но в данном случае это покушение новациан карать отлучением исполнение закона не самим
79) Прав. Собеседник, указ. место стр. 42.
80) Как легко, раз покинув чисто религиозную почву с свойственными ей мероприятиями и наказаниями, вторгнуться в область чисто государственную, это показывают многие примеры в истории развития и употребления церковных наказаний. Не говоря уже о католической иерархии, налагавшей анафему иногда по весьма неблаговидным причинам (см. Суворова—О церковн. наказаниях, СПБ., 1875, стр. 85), в истории русской Церкви случались подобные же факты, хотя как исключения" Таковы, например, в прошлом столетии действия известного ростовского митрополита Арсения Мацеевича.
— 290 —
исполнителем установленного, или вообще касаться с церковной дисциплиной и сферы не церковной, отчасти объясняется слишком большой исключительностью самого вопроса: но свидетельству Амвросия же, в то время многие и из язычников гордились тем, что во все продолжение своего управления умели избежать необходимости произносить смертные приговоры. Неудивительно поэтому, что для такого ригористического общества, как новациане,—общества, нужно признать, изо всех многочисленных сепаратистических обществ наименее претендовавшего на внешнее принуждение в религии, — показалось привлекательной до соблазна мысль об обязательности милосердия для христианского судьи или правителя, с чем, в глазах новациан, не мирилось представление о лишении жизни человека, хотя бы и самого преступного. Может быть, в виду этого, факт этот и у новациан не выражал еще собою претензии оказывать давление на мысль христиан по вопросам государственным вообще, так как факт относился к вопросу слишком исключительному и во всяком случае такому, вмешательство в который трудно поставить на одну линию со вмешательством в область в строгом смысле государственную. Ибо вопрос о казни и, вообще, о телесных наказаниях с христианской точки зрения и до сих пор составляет еще предмет разногласия 81).
81) Считаем не лишним заметить, что сами государственные люди, по своему положению призванные давать направление государственной жизни, не раз возбуждали вопрос: „какое может быть правильное воззрение на телесные наказания со стороны христианства?"—из каковых наказании, конечно, высшая степень есть лишение жизни.. Так в 1861 году князь А. Н. Орлов представил блаженной памяти императору Александру П записку „об уничтожении телесных наказаний“ в русском уголовном кодексе. Основным положением этой записки было: „телесные наказания суть зло—я христианском, нравственном и общественном отношениях. Закон милосердия и кротости безусловно осуждает всякие насильства и истязания. Святители всех вероисповеданий постоянно защищали личность существа созданного по образу и подобию Божию». См. Русская Старина, т. 31, стр. 97. Покойный митрополит Филарет, однако же, не разделял такого воззрения на телесные, наказания, т. е., что они суть зло именно „в христианском отношении“. „Прежде всего надобно иметь в виду — писал митрополит Филарет — что Христос созидал церковь, а не государство“. Спаситель устрояет внутреннюю и
291
Немногочисленность и некоторая исключительность приведенных фактов показывает, как чуждо было древней церкви стремление вмешиваться с правом отлучения в область чисто государственную, или вообще не относящуюся до веры или нравственности.
К сожалению, теперь должно будет заметить, что, в противность основному положению о законных причинах отлучения, уже и в эпоху истории древней церкви были случаи, когда отлучение от церкви совершалось, как выразился историк Сократ, „не ради веры“, а по иным побуждениям. Первый намек только еще на возможность таких случаев находится, по-видимому, в апостольских Постановлениях. „Если вы, пастыри с диаконами—читаем в Постановлениях — или по лицеприятию, или за условленные подарки, желая сделать угодное оговорщику (как обвинителю), примете ложь за истину, и изгоните обвиняемого из церкви, хотя он чужд преступления: то воздадите ответ“ и проч. 82). Впоследствии были несомненные случаи, что — отлучали потому, что известный
внешнюю жизнь человека силою благодатного закона, государство же установляет порядок частной и общественной жизни — силою внешнего закона „и посему государство не всегда может следовать высоким правилам христианства, а имеет свои правила, не становясь чрез то недостойным христианства“. Обращая внимание, например, исключительно только на слова Спасителя Мф. V. 39, „государство не может сказать ограбленному: отдай грабителю и то, что еще не отнято у тебя», как оно должно бы сказать, если бы весь государственный порядок основывать на евангельской заповеди; напротив, „с таким правилом не могло бы устоять государство, в котором есть добрые и злые“. Тоже должно думать, по мысли м. Филарета, и о заповеди Спасителя: Мф. V, 40; это—„опять правило, которому не может следовать законодательство государственное. Спаситель не кодекс уголовный исправляет (словами указанного места евангелия), не о том говорит, чтобы изменить род и степень наказания: Он преподает духовный закон терпения“. „И так, вопрос об употреблении или неупотреблении телесного наказания в государстве стоит в стороне от христианства“. Далее митрополит подробно разбирает ссылку князя Орлова на святителей и его мысль о противоречии будто бы телесных наказаний закону милосердия, называя мысль об уничтожении телесных наказаний во имя христианской любви „блещущей нравственной красотой так, что в ней, как в солнце, не с разу можно рассмотреть темное пятно“, хотя таковое и оказывается. См. брош. Государственное учение Филарета, м. моск., М. 1883.
82) Кн. II, 42, русск. пер. стр. 72.
— 292
человек находился в дружбе с таким человеком, который был неприятен, но которого самого непосредственно достать было нельзя 83). Но рассказу Феодорита, „какой-то человек, проводивший жизнь подвижническую“, неоднократно обращался к императору Феодосию II с какою-то просьбою, но не получил удовлетворения. Наконец, после одного из посещений своих, он отлучил царя от церковного общения, «и связав его сими узами удалился“. Едва потом отыскали этого отлучившего, между тем как набожный Феодосий не хотел принять разрешения от местного епископа, хотя епископ и убеждал царя, что „не следует принимать запрещение от всякого“ 84), кто только бы по своему усмотрению вздумал бы обратиться к этому средству. Амвросий Медиоланский в известной книге об обязанностях клириков, в отделе об отлучении, также упоминает „об устранении от себя всего, что в раздражении может потворствовать страстям“ лиц, властью отлучения располагающих 85). Вероятно, к половине V столетия случаи произвольного отлучения увеличились на столько, что в 471 году император Лев должен был издать особый закон, требовавший от епископов большей осторожности и разборчивости при наложении отлучения. Закон этот был таков: „повелеваем епископам никого не отлучать от святой церкви или от общения церковного — если не может быть указана благословная причина. Тому же, кто отлучив, не может доказать вины отлучения, самому да будет вос-
83) Например см. у Созомена, р. и. -130. — В средние века римские канонисты находили косвенный способ при помощи отлучения от церкви оказывать давление даже на лиц не принадлежащих к христианству. Так иудей, оскорбивший клирика, подлежал денежному штрафу. Если нельзя было прямо заставить уплатить штраф, а между тем иудей находился в зависимости от христианина; обязанность взыскания штрафа налагалась на этого христианина. Если и при таких условиях невозможно было достигнуть удовлетворения: тогда—всем христианам под угрозою отлучения запрещалось с иудеем commercia exercere до тех пор, пока иудей ни удовлетворял церковное правосудие. Kober, указ. соч. стр. 94.
84) Истор. 270.
85) De officiis ministrorum. Lib. II, cap. 27 (n. 135).
293 —
прещено на некоторое время общение с церковью!“ 86). Менее, чем чрез столетие императ. Юстиниан издает еще более строгий закон относительно того же предмета, дающий указание на то, что были за неблагословные причины, навлекавшие на людей отлучение. „Епископы и (другие) клирики—говорит Юстиниан—для того, чтобы принудить к принесению начатков от плодов или к исполнению оброков, не должны причинять утеснение—ни отлучением (ἀφορίζειν), ни анафематствованием, ни отказом в общении (тайн), или отказом крестить (желающего креститься),— хотя такой обычай и возымел силу теперь 87).—Преступивший же этот закон—удален будет от церкви и от начальствования над нею и, кроме того, будет платить десять литров“ 88). — Но неправильное пользование правом полного отлучения и даже только лишением общения и после таких законов, кажется, не исчезло, если даже не явилось с некоторым наращением. Седьмой вселенский собор в 4-м правиле снова подтверждает епископам запрещение употреблять отлучение большое и малое „по собственной страсти, или требуя чего-либо“, вообще, „выставляя пустые и не канонические предлоги“ (Вальсамон) 89),—причем правило упоминает и о том, что некоторые, отлучив клириков, „заключали и честный храм, да не будет в нем Божией службы“, что, конечно, служит глухим намеком на то, что и в практике греческой церкви встречалось покушение ввести даже некоторое подобие так-называемого интердикта.
Последнее замечание VII вселенского собора приводит к определению повой стороны в вопросе об отлучении. Это именно: отлучение от церкви в древнейшее время, падая на известного члена церкви, тем самым еще не простиралось на соприкосновенных с виновным, но невинных самих в себе лиц, как, например, на лиц одного и того же с отлученным семейства, одного и того же поселения и т. п. От этого при нормальном ходе
86) Cod. Iustinian. 1. tit. 3. n. 30.
87) Κἂν ἕθος τοιοῦτον ἐκράτησε.
88) Ibid. n. 39.
89) Толковая, русск. перев. стр. 800.
— 294 —
дел (хотя уклонения от закона, как видно было из сейчас приведенного указания VII вселенского собора, и встречались в качестве исключений), в древней церкви не могло иметь места что-либо подобное так-называемому интердикту, где отлучение или только лишение общения терпел не только виновный, но наравне с ним и невинный, имевший несчастие каким-либо образом быть связанным с виновным, заслужившим церковную кару 90). Иначе и быть не могло: „ибо—рассуждают апостольские Постановления—каждый будет отвечать за самого себя, и Бог отнюдь не погубит праведного вместе с неправедным; потому что не согрешивших Он не наказывает... и в ковчеге были Ной и сыновья ого; но наказание принял только оказавшийся злым один из сыновой его— Хам. Если же ни отцы но наказываются за детей, ни дети—за отцов; то явно, что ни слуги не наказываются за господ, ни родственники за родственников, ни друзья за друзей, ни праведники за неправедников, но каждый сам отдает отчет за свое дело“. Вообще, „не сожительство подвергает праведных осуждению с неправедными, но согласие в мысли“ 91). Так рассуждали в первенствующей церкви, и такие рассуждения, конечно, исключали всякую возможность предпринимать интердикт, или отлу-
90) Хотя канонисты обыкновенно различают „интердикт" от отлучения, но в сущности интердикт—тоже отлучение, с тем добавлением, что вследствие отлучения целого христианского общества или поселения—сама собою уничтожается нужда совершать общественное богослужение, а самостоятельное богослужение, которое могли бы совершать подвергнутые интердикту, препятствуется силой, именно—храмы запираются, так как храмы, в глазах, например, папства и его последователей, составляют как бы собственность церковной власти, признавшей нужным прекратить богослужение.—Как выше замечено было, покушение на интердикт в греческой церкви встречалось в эпоху VІІ вселенского собора. Должно признать, что интердикт имел место и в истории русской церкви (см. Голубинский, Истор. Русск. Церкви, 1, I стр. 373), и даже до конца прошлого столетия (см. Русск. Стар. 1883, сент.)—при чем, кажется, за русскою практикою интердикта должно признать ту особенность, что прекращение богослужения и закрытие храмов здесь делалось без предварительного процесса отлучения от церкви людей составлявших приход запираемого храма,—так что интердикт здесь представляется как бы самостоятельным актом в числе мер церковной репрессии.
91) Кн. II, гл. 14, р. пер. стр. 30—31.
— 295
чать за одно с виновным и его семью, друзей и т. п.— Как на факты, по-видимому, отрицающие абсолютную неизменность этого положения, можно указать на следующее: св. Василий Великий, по прежде упомянутому случаю похищения девицы, определил — отлучить не только виновника похищения, а равно и тех, которые помогали в похищении, но при том и „каждого — со всем домом его“, „селение, которое приняло похищенного, не исключая никого из жителей оного, чтобы все научились гнать от себя похитителя, почитая общим врагом его“ и проч. 92). Отлучение должно было простираться три года. Точно также в отлучительной грамоте на Андроника, епископ Синезий упоминает о семействе этого Андроника: „как преступник против Бога, Андроник изгоняется, из церкви Божией со всем семейством“ 93). Мы не знаем, конечно, участвовала ли семья Андроника в тех преступлениях, которые привлекли на него отлучение. Но если семья состояла из малолетних; то, конечно, со стороны епископа Синезия нарушена самая естественная справедливость, когда он вместе с виновным отлучил и семейство его. Нельзя, кажется, этого сказать об отлучительной сентенции Василия Великого: отлучение целого селения „не исключая никого“, вероятно, имело основание в том, что Василий Великий каждого из жителей считал пособником преступления. При этом опять, конечно, остается вопрос о несовершеннолетних, на которых также, по буквальному смыслу сентенции, падало отлучение. Но быть может вопрос об отлучении несовершеннолетних в те времена решался как-нибудь удовлетворительно в отношении к естественной справедливости, например: не подразумевалось ли, что на них отлучение не простирается. Весьма замечательный по своим обстоятельствам факт отлучения „со всем домом“ за вину одного человека из этого дома представляется в поступке одного африканского епископа во времена блажен. Августина. Этот епископ буквально отлучил „весь дом“. Узнавший об этом случае бл. Августин писал к отлучив-
92) Творен. указ. место.
93) Остроумова, Синезий, стр. 131.
— 296 —
шему епископу следующее: „не могу умолчать пред твоею любовию, что сердце мое отяготили тяжелые размышления, когда я узнал об этом из письма (отлученного). Но если ты имеешь об этом деле особенное мнение, основанное на твердых основаниях или на свидетельствах Св. Писания; то научи нас, — научи, как это можно с соблюдением справедливости предавать анафеме сына — за грех отца, жену — за грех мужа, раба — за грех господина, или каким образом можно предавать анафеме еще не родившегося, но, ведь, могущего родиться и в то время, когда весь дом предан анафеме!“ 94). Неизвестно, как отвечал епископ на все эти неизбежные, при практике отлучения целыми семьями, вопросы. Кажется, епископ этот отлучение целого дома из-за греха одного из членов его основывал на аналогии с тем, что в Св. Писании, именно в Ветхом Завете есть примеры, что презритель божественных заповедей не только один и сам по себе, но и его ближние, но участвовавшие в его преступлении, наказываемы были смертию. По Августин отрицал, чтобы на такой аналогии можно было что-либо основывать. „Ибо то наказание есть только телесное, имеющее целью устрашить прочих; отлучение же есть нечто совсем другое: оно касается души и есть, как и самое преступление, ради которого оно налагается, нечто внутреннее, почему без нарушения справедливости и не может быть распространяемо на других, не причастных преступлению“ 95).—.Может быть, в свою очередь и тому епископу аргументы Августина показались также неубедительными. Но это показывает, что если практика церковной жизни в эпоху после появления апостольских Постановлений, рассуждавших совершенно наоборот, и представляла в этом отношении сходство с тогдашним, да и долго после еще державшимся, уголовным правом, каравшим не одного виновного с его соучастниками, но и весь дом его; то это были исключения из нормального порядка, находившие себе объяснение в самой немногочисленности случаев этих исключений, или же—в осо-
94) Kober, S. 99.
95) Ibid.
— 297 —
бенных условиях, объяснить которые теперь нет возможности. Но ни один канон в собственном смысле не дает ни малейшего намека на то, чтобы не участвовавшие добровольно в церковном преступлении были подвергаемы отлучению наравне с действительно виновными в силу одной только общности внецерковных отношений.
Отлучение от церкви допускалось только как мера крайней необходимости и с обычной церкви осторожностью. Мы отчасти видели уже, как смотрели на отлучение с этой стороны в IV веке. По вопросу об отношении церкви к еретикам мы увидим эту осторожность еще более; увидим, что выражения некоторых соборов, выражавших сожаление о печальной необходимости обращения к этой крайней мере, вовсе не были риторической прикрасой 96). Но особенно характерным изображением церковных воззрений на то, как понималась эта „необходимость“ отлучения, служит известное слово св. Григория Богослова „о необходимости доброго порядка при собеседовании“ 97). Догматические споры IV века, как известно, оказав услугу в смысле точнейшего выяснения церковного учения, создали неблаговидную привычку в христианском обществе легко возводить мнение противника в ересь и объявлять его недостойным пребывания в церкви— отлучать, ибо почти каждый считал себя постигнувшим божественные тайны, а своего противника—погруженным в тьму заблуждения, так что св. Григорий Богослов не без иронии спрашивал: „а что, если тебе кажется все кружащимся потому, что у тебя темнота в глазах, между тем как мы свое незнание приписываем другим?!“ По словам св. Григория в это время отлучением „срезывали человека как растение и как кратковременный цветок; отлучали иногда по одному подозрению в заблужде-
96) Например III вселенский собор в своем определении против Нестория: „открывши, что Несторий мыслит нечестиво, мы вынуждены были произнести против него, хотя и не без горьких слез, следующее горестное определение"—следует определение, что Несторий отлучается от церковного общения. (Деян. всел. соб. 1. 592). Или: „воздыхая и оплакивая совершенную его (Евтихия) погибель, определили отчуждить его»и проч., Ibid. IIІ. 291.
97) По русскому переводу творений его слово 12-е.
— 298
нии“ (!). „Напротив—говорит св. Григорий—много надо подумать и многое испробовать прежде нежели осудить другого в злочестии. Ибо, не одно и тоже—срезать растение и человека. Ты, давший обет кротости, не уходи стремительно от заблудившегося, осудив его или отчаявшись в нем здесь, где осудить брата значит отлучить от Христа, —значит не обнаружившуюся пшеницу, которая быть может сделается честнее тебя, исторгнуть вместе с плевелами. Напротив, частью кротко и человеколюбиво исправь его, не как враг или немилосердый врач, знающий только одно средство—прижигать и резать, а частью— оглянись на себя и на собственную немощь“. Поспешность в отлучении („отсечение и бросание“, по выражению Григория Богослова) может сделать вред и здоровым членам церкви. Напротив, „у учеников Христа кроткого и человеколюбивого правило врачевания таково: если брат в первый раз воспротивился, потерпи великодушно; если во второй—не теряй надежды: еще есть время к уврачеванию; если и в третий раз, то будь человеколюбивым делателем—упроси господина не посекать и не подвергать своему гневу бесплодную смоковницу. Кто знает, не переменится ли она, не принесет ли плода. Грех—не такой яд ехидны, от которого тотчас по уязвлении наступает мучительная боль или самая смерть, так чтобы тебе было бы извинительно бежать от согрешившего, как от зверя, или убить его 98). Пусть сам ты и крепок, рассуждая о брашнах, 99) и благонадежен в слове и мужестве веры, однако же назидай брата и брашном твоим не погубляй того, кто почтен от Христа общим страданием“ 100).—В такой степени, по мнению св. Григория,
98) Отмечаем особенно это место как самым очевидным образом свидетельствующее о том, что католическая теория отлучения latae sententiae, т. е. отлучения как бы автоматически наступающего вслед за фактом, влекущим отлучение без всякого канонического процесса, противоречив духу древней церкви.
99) Св. Григорий Богослов подразумевает здесь слова апост. Павла в послании к Римлянам: „немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи», и пр. (гл. XIV, 1—2).
100) Творен. ч. II, стр. 160—2.
— 299 —
противно духу церкви всякое отлучение, если оно не вызвано достаточно взвешенными причинами и, если при отлучении не соблюдены все условия, требовавшиеся буквой церковного закона и духом христианского братолюбия. Примеры того, как действительно исследовались преступные факты, требовавшие отлучения, и при каких условиях отлучение действительно налагалось, мы опять всего ближе увидим при исследовании вопроса о еретиках. Теперь же пока обратим внимание на одну важную сторону в вопросе о церковном отлучении: это именно, на вопрос о последствиях полного отлучения—как извержения из церкви.
Как дело чисто церковное, отлучение, конечно, должно иметь и последствия церковные, и, по-видимому, здесь не может быть и речи о чем-либо другом. Но, как известно, отчасти особенные условия церковной жизни последующего времени, а отчасти и самый предмет слишком важный для человека верующего в спасительность пребывания в единении с церковью, создавали для факта отлучения такие последствия, при которых простой, по-видимому, вопрос становился на столько сложным, что начал иметь величайшее значение для вопроса о свободе совести вообще. Как сейчас мы видели, уже св. Григорий Богослов дает намек, как иногда и некоторыми понимались последствия отлучения, когда напоминает, что неизвинительно бегать от согрешившего, как от зверя, считать его как бы напитанным ядом ехидны, или даже—убить его! Как ни преувеличенным показалось бы последнее, но ведь из средневековой истории мы знаем, что св. Григорий этими словами как бы пророчествовал: был и в самом деле возбуждаем вопрос о том, позволительно ли убить отлученного, „как дикую птицу?“—Вследствие этого не должно быть удивительным, что при вопросе о последствиях отлучения неизбежно возникнет и вопрос о том, различала ли церковь в отлученном человека, как гражданина общего для всех, благих и злых, отечества—земли, от субъекта потерявшего право быть членом церкви: или же и в самом деле отлученный восходил на линию дикого зверя, дикой птицы и т. п.— Сюда теперь и должно направить наше внимание.
300
VI. Канонические последствия отлучения, как церковно-дисциплинарного средства.
По отношению к отлученному должно было следовать прежде всего, конечно, лишение его права пользования тем, чем он пользовался в качестве члена церкви. На это указывают уже те выражения, какие в древности, в писаниях учителей Церкви и в законодательных памятниках, обыкновенно, употреблялись, когда речь шла об отлучении. Так отлучение изображалось как „изгнание из ограды церкви“ и сравнивалось с изгнанием первого человека из рая. По выражению Иеронима, например, „презрители повелений Божиих в церкви подобны Адаму тем, что как Адам извержен был из рая, так презрители извергаются из церкви“. Августин, наоборот, чтобы ближе представить самое изгнание из рая, сравнивает это изгнание с отлучением, как делом весьма известным тогдашнему христианскому миру: „и Адам был изгнан из рая, как бы отлучен (tamquam excommunicatus)—подобно тому, как и в этом рае, то есть в церкви, люди церковной дисциплиной лишаются видимых таинств алтаря“. Св. Епифаний кипрский рассказывает, между прочим, что у так называемых адамитов существует такой обычай: „если оказывалось, что кто-нибудь подвергается падению (совершил проступок), то адамиты такового не принимают в свои собрания“, говорит Епифаний, „называя его Адамом, вкусившим от древа, и осуждают на изгнание как бы из рая, то есть из своей церкви, ибо церковь свою почитают раем“, и т. д. (Твор. рус. пер. II, 420—21). Сам Епифаний, по-видимому, не совсем верил даже в существование такой ереси. Но в виду такого очевидного тождества у адамитов хотя бы только практики отношений к падшим с практикою
301
общецерковною, скорее можно прийти к мысли о вероятности существования такого сепаратистического общества, чем отрицать существование его. Во всяком же случае свидетельство Епифания, по справедливому замечанию Бингама (Bingh vol. VII. 26), важно как свидетельство существования одинаковой формулы, выражавшей идею отлучения как в дисциплине церкви, так и в дисциплине отделившихся обществ, и следовательно—всеобщность такой формулы. В апостольских Постановлениях отлучение „агнцев церкви“ представляется прискорбной потерей того, что „собиралось с трудом и изнурением, бдениями и алканиями", а потому является трогательная просьба—небрежностью или неосторожностью „не умалять церковь, не сокращать число верных чрез убиение даже одной души человеческой, которая могла бы спастись чрез покаяние“ и т. д. 1). И все формулы отлучения (когда приговор к отлучению не выражался одним словом: анафема и когда употреблялась, так сказать, распространенная формула), не смотря на разнообразие употреблявшихся выражений, заключали в себе одну и ту же мысль, что отлученный становился вне церкви; говорим так потому, что формулами этими были: „выбрасывание из церкви“, „отсечение от единства“, низведение по отношению к церкви в положение мытаря и язычника и т. д. 2). Это же самое обозначают и другие, встречающиеся у церковных писателей, выражения, употребленные ими относительно отлучения. Златоуст, например, говоря об отлучении, употребляет выражения: „удаление от церкви, от общего собрания (церкви)“; по выражению блаж. Феодорита, „тот, кто отлучен, становится чуждым всего тела церковного“; по выражению св. Афанасия—„таковой отделен от церкви и от верных, от народа христианского“ 3). Но Августину отлучение есть — separatioа corpore Christi, separatioа fraterna congregatione и т. и. В „вопросах на Вторазаконие“ блаж. Августин, рассуждая о законе Ветхого Завета повелевавшем наказывать вора смертию для того,
1) Апост. Постан. II, 56, рус. пер. стр. 88.
2) Kober, Der Kirchenbann. 32—3.
3) Важность этих выражений будет видна впоследствии.
— 302 —
чтобы изъять злого из среды людей, говорит, что ныне, в церкви Христианской, отлучение производит то же самое действие (ш. е. удаление из общества), что тогда производило наказание смертию“ 4).—Во всяком случае, под теми или другими выражениями, отлучение представляется исключением из числа верующих 5). Документальным, видимым знаком этого исключения было исключение имени отлученного из так называемых диптихов живых, т. е. из списков, в которые вносилось имя каждого вступившего в церковь чрез акт крещения 6). Этим отлученный лишался самого имени христианина, что иногда объявлялось также и в отлучительном определении 7), и что было весьма важно при стремлении не иметь в своей среде только именующихся христианами.
Затем наступало лишение обязанности и права принимать участие в богослужении. Все отношение отлученного к его обязанности в этом отношении апост. Постановления выражают так; „как язычников допускаем в церковь, (т. е. в храм) чтобы слушали слово Божие,— так и сим дозволяем входить в церковь, чтобы слушали Слово Божие и по погибли вдруг совершенно“. По мысли Постановлений даже желательно, чтобы „таковые каждодневно (конечно, если хотят) приходили в церковные собрания“, чтобы и сами могли быть приняты, и видящие их пришли в сокрушение, остерегаясь подвергнуться подобному“ 8). Чрезвычайно настойчиво, далее, в прави-
4) Kober, Der Kirchenbann 12 идр.
5) Такой именно термин (exclusi) встречается в прав. соб. Арелатс. 17.
6) Delort, institutiones discipl. 244.
7) Например, Синезий в отлучительной грамоте на Андроника выражает; „пусть никто не называет его и не считает христианином».
8) Апост. Постанов. II. 4L стр. 71—2.—6-е правило Сардикийского собора, впрочем, запрещает отлученным входить в дом Божий, т.е. вовсе лишает их нрава пользоваться даже дидактическими частями богослужения. Но исследователи (Biugh. VII, 292, Hefele I, 753) считают это правило исключительным, т. е. наблюдавшимся только в дисциплине некоторых поместных церквей, ибо ив действий, наприм., Иоанна Златоустого (но говоря уже о приведенном рассуждении апост. Постановлений и постановлений многих других соборов) ясно видно, что не только отлученным, но даже иудеям и язычникам позволено было присутствовать при дидактических частях богослужения. Правило одного из поместных соборов
— 303 —
лах производится мысль о разобщении с отлученными в молитвах, очевидно, как средство против возможности индифферентизма и презрения начала церковности в среде верных. 10-е апостольское правило повелевает отлучать молившегося с лишенным общения (ἀκοινωνήτω) хотя бы в доме, т. е. даже не в местах общественных богослужебных собраний христиан 9). Толкователи „лишенного общения“ отожествляют с „отлученным“ и при том думают, что „это написано для тех, которые говорят, что отлученный извержен из церкви (как учреждения с характером общественности) и что, след., если кто-нибудь вместе с ним будет петь в доме или на поле, то не будет виновен" (Вальсамон; ср. толков. 2 Ант. р. пер. стр. 1045); тогда как по толкованию надлежащему, рассуждает Вальсамон, „в церкви ли молится с отлученным, или вне—все равно“ 10). Правило это отно-
выражается: „мы достоверно знаем, что от слушания проповеди многие уверовали“,—и этим мотивирует допущение до слушания проповеди всех тех, кои находятся в разделении с церковью (qui in diverso sunt).
9) Правило имеет целью, конечно, и борьбу с возможностью организации сепаратистических обществ, которым, при отсутствии у церкви внешней власти, для церкви иногда невозможно было сопротивляться активно и прямо.—Митрополит Филарет, по поводу молитвы православного в армянском .храме, рассуждал: „иное дело любознательному сыну православной церкви присутствовать при богослужении иноверном и изучать оное,—иное·—входить в особенное произвольное общение молитвы. Если сие произошло потому, что братолюбие забыло стесниться строгостью правил, — хвала братолюбию! По надобно ли провозглашать, что мы оставляли без внимания церковное правило о необщении в молитве с разноверными“? (письмо к Муравьеву № 158). Митрополит Филарет, очевидно имеет в виду именно 10-е апос. прав. и понимает его таким образом, что одно присутствие при молитве иноверных (и ео ipso лишенных общения) не воспрещается.—Более близкое отношение к современным вопросам запрещение 10-го апос. правила имеет в вопросе о смешанных браках между православными и лицами иных христианских исповедании (католического и лютеранского). Именно, разрешение смешанных браков, очевидно, возможно было по признании, что—или благословение брака инославным иерархическим лицом не означает того, что брачущийся православный принимает участие в молитве благословляющего, или—инославные исповедания не состоят в разряде тех, с коими общение должно быть прервано.—Кажется имелось в виду первое, потому что есть факты отрицающие второе.
10) Это правило, по его содержанию, Дрей относит к самым древ-
— 304 —
сится одинаково как к клирикам, так и к мирянам; а если судить по соотношению этого правила с следующим 11-м, то должно будет принять, что 10-е правило запрещает молиться не только мирянину с отлученным клириком, но и мирянину с отлученным мирянином же: ибо 11-е правило говорит уже исключительно о наказании клирика, молившегося с отлученным клириком же 11). Но во всяком случае, если соединить эти оба правила, не подлежит сомнению коренной их смысл: для людей всякого церковного состояния обязательно прервание религиозного общения с отлученным 12). Само собою разумеется, что если отлученный имел какую-либо церковную должность, то должен был оставить ее, и с ним прекращались должностные сношения, как например, обмен каноническими посланиями—с епископом; начальник монастыря—должен был оставить начальствование над мо-
нейшим в ряду апостольских правил, хотя слововыражение правила считает заимствованным из 2-го правила Антиох. соб. См, Гефеле В. I. 803, прим. 1.
11) Толкователи правил, впрочем, разумеют 11-е апост. правило так, что здесь вопрос идет только о клирике, имевшем молитвенное общение с клириком, лишенным сана, что, как известно, не всегда сопровождалось и отлучением, и притом же—не в обыкновенной домашней молитве, а в священнодействии, каковой мысли быть может и соответствует приставка в некоторых изданиях частицы „ὡς, velut cum clerico (Гефеле, ibid.). Так, Вальсамон говорит, что „этим правилом запрещается молитва, с изверженным клириком, ибо тот, кто молится с отлученным подвергается не низвержению, а отчуждению же, как повелевает 10-е апост. правило“. Но Вальсамон же, расширяет толкование правила так, что „наказание низвержения следует за молитвою с низверженным, когда бы то ни было“, т. е. и вне общественной молитвы, след. —и как с частным лицом, вопреки приведенному разночтению некоторых изданий. —Зонара разумеет правило так, что под изверженным клириком 11-го правила можно разуметь как изверженного и вместе отлученного, так и только изверженного. В первом случае правило запрещает и молиться с ним, а во втором—только священнодействовать.
12) Того же требуют и другие правила, напр. Антиохийское 2-е. И мы видели, как строго соблюдалось в практике, когда упоминали о рассказываемом у Феодорита случае с диаконом Феликсом, с которым никто из жителей Рима не хотел бывать в общественных собраниях потому только, что либеральный диакон сам „свободно вступал в общение с отступниками“.
305 —
настырен 13). Так как с должностными положениями в древней церкви большею частью были связаны интересы церковной общины, как внешне-юридического лица (управление церковным имуществом, пользование церковною собственностью): то здесь весьма часто возникали случаи, когда церковь должна была обращаться за помощью к государству, так как лица, вследствие отлучения терявшие свое должностное положение в церкви, конечно, сами могли продолжать считать себя правыми, равно как о них могли тоже думать и их приверженцы. Впоследствии же, когда помощь церкви сделалась как бы обязательством для государства, появились и злоупотребления правом защиты церкви: государство выступало с принудительным элементом и там, где никто и не думал сопротивляться, и при том тогда, когда должностное лицо теряло должность не только вследствие отлучения от церкви, но и вследствие простого лишения должности (деградация) за действительные или мнимые преступления по должности. Так, напр., как известно, поступлено было с Златоустом, который и не думал сопротивляться, хотя и мнимо церковному, низложению его—не удерживая насильно церковную должность и связанные с нею права 14).
Наконец, есть указание, что последствием церковного отлучения было для отлученного лишение права на участие даже и в таких сторонах церковной жизни, кои имели связь с церковными установлениями или—только нравственную, или только историческую. Так, это должно сказать о благотворении и об общественных трапезах. В апостольских Постановлениях, например, принятие добровольных даров от отлученных запрещается так же, как „от воровки или блудницы“: „от таковых, равно
13) Примеры: Деян. всел. соб. III, 291. Феодор. Истор. стр. 323. Ср. Послание Сардикийского собора.
14) Случаи такого рода будут рассмотрены при исследовании вопроса о возникновении принудительной дисциплины. Теперь заметим только, что принудительная дисциплина несомненно началась допущением употребления внешних средств (даже до физического насилия) в сфере должностных отношений, т. е. в сфере отношений между лицами клира, а потом уже принуждение стало проникать и всю церков. дисциплину, все ее отношения и свойства.
— 306 —
как и от отлученных, не должно принимать, ибо, кто принимает от такового обесславленного или отлученного и молится за него, тот сообщается с ним в молитве и опечаливает отметающегося неправедных—Христа, и ободряет их принятием недостойного покаяния и вместе с ними оскверняется, не попуская им прийти в покаяние, чтобы плакать и молиться Богу“ 15). И Постановления об этом упоминают не раз 16), подтверждая не принимать милостыни от отлученных наравне с лицами, занятия и качества которых Постановления считали предосудительными для христианина 17), во имя той нравственной чистоты, которой должно отличаться христианское благотворение. Судя по выражениям некоторых древнейших памятников можно думать, что вместе с прекращением молитвенного общения прекращалось и общение в трапезе любви, хотя, как увидим, это не значило того, чтобы отлученный лишался права на естественное чувство сострадания. Так, св. дионисий говорит: „каявшихся вводим и представляем в церковь, делаем их общниками в молитвословиях и трапезах“ 18). Следоват., не
15) Русс. пер. стр. 111, кн. III, 8.
16) Ibidem, стр. 126, кн. IV, 8.
17) Любопытно в этом отношении следующее место Постановлений: „Вы скажете: они подают милостыни и если не примем от них, то чем будут питаться нуждающиеся из народа?“ Пусть так; по—„лучше погибнуть, нежели принять что от врагов Божиих, как оскорбление и посмеяние друзей .—Гиббон, приняв за неоспоримое, будто распространению христианства в первые века много содействовала материальная помощь, оказываемая христианскими общинами новообращенным, и, в свою очередь, говоря о последствиях отлучения, с некоторым ударением ставит в числе этих последствий — что „отлученный лишался нрава получит что-либо от приношений верующих. И это-то лишение, между прочим, по мнению Гиббона, делало положение отлученных неприятным и печальным.—Историческое беспристрастие, однако, требовало бы от Гиббона упомянуть также и о том, что если отлученным не давали, то от них и не брали и, как увидим ниже, первое даже менее строго соблюдалось, чем второе, т. е. христианские общины более склонны были к безразличию в оказании помогай, чем в получении помощи. (Истор. упадка Римск. импер. р. пер. т. II, стр. 67).—Запрещение принимать от отлученных милостыню встречается не раз и позднее, и весьма далеко от места происхождения апостол. Постановлении. См. напр. у Гефеле: В. II, 587.
18) Послан. Дионисия, у Евсевия, I, 353.
— 307 —
каявшиеся в трапезах не участвовали. Вообще, сферу предметов разобщения можно выразить почти всесторонне тем, чем выразил это Тертуллиан: „от общения в молитве, от собраний и от всякого общения священного,“ 19)—разумея под этим все то, что связывало христианина с христианством и с христианской церковью, ибо, как мы видели, христианин сепаратный не был известен древней церкви 20).
Что же, спрашивается, церковь потом не принимала никакого участия в дальнейшей судьбе отлученного, предоставив его суду будущему? Ответ на это данные истории дают только такой: церковь порывала с отлученным всякую связь, предоставляя его своей воле и не имея иных отношений к нему, кроме а) обыкновенных отношений, как к человеку, живущему под тем же солнцем, которое сияет на благие и на злые, и в) кроме тех отношений, которые обусловливаются миссионерскими обязанностями церкви, призванной совершить дело спасения для всех, хотя и под условием личного желания каждого получить спасение. Во имя свободы человека—выбирать добро или следовать злу, учители церкви выставляли на вид глубокое различие церковной дисциплины от дисциплины чисто человеческих обществ, именно в том отношении, что „законы (церковные) но дали нам (носителям церковной власти) такой власти, чтобы запрещать грешникам грешить, но если бы и дали,—мы нив каком случае не можем воспользоваться ею: Бог награждает только тех, которые воздерживаются от греха по доброй воле, а не по принуждению“ (Златоуст) 21). Эта мысль сдерживала церковные мероприятия в очень определенных границах и не трудно предвидеть—какого характера.—Ответ на вопрос: что же делать, если не дано власти силою пре-
19) Апология, § 39.
20) Некоторые лаодикийские правила, по снесении их с другими памятниками (апост. Постан.), указывают, что в древности был обычай в знак общения посылать „праздничные дары“, которые, по-видимому, состояли в хлебе: это так называемые „евлогии“ (Лаод. 32), Должно полагать, что правила, запрещая принимать таковые от осужденных еретиков, запрещали это и по отношению к отлученным вообще.
21) Ср. также его 4 беседу на книгу пророка Исаии.
308 —
пятствовать греху?—и заключается в учении о задачах и средствах внутренней миссии церкви. Сущность средств внутренней миссии определяли: misericordia et pietas (Амвросий). И может быть по этому-то, между прочим, известная мысль пресвитера римской церкви Новата вообще признана была „бесчеловечной и братоненавистной“. Говорим: между прочим—потому, что новацианство, не допуская вторичного принятия в церковь падших и изверженных, правда, облегчало задачи церковной дисциплины, сводя ее к одному только извержению, но было братоненавистным потому, что, облегчая задачи дисциплины, отрицало необходимость труда для делателей церкви по внутренней миссии, труда—по обращению падших, по примирению с церковью людей, хотя бы справедливо осужденных и изверженных. Между тем для церкви, по мысли Златоуста, предлежит еще по отношению к падшему и изверженному—„труд, терпение, постоянство, чтобы не ослабеть, чтобы не отчаяться именно в спасении заблуждающихся“. И при том еще—труд этот должен быть соединяем с мудрой предусмотрительностью о том, чтобы не тратить труда бесплодно: ибо „врачевать неизлечимо больных будет знаком неопытности“ (Златоуст).
В самом деле, если формулой существования христианина в церкви было—„общение и любовь“ (Афанасий), то, конечно, формулой для изверженного не могло быть вместе с необщением: „ненависть“. Неудивительно поэтому, что памятники древности безразличие к участи отлученного не считают, так сказать, обязательным для церкви, доколику попечение о его участи не переходит в притязание на его духовную и физическую свободу. Как известно, церковные правила поставляют епископу даже в явную вину пренебрежение к участи согрешивших и заблуждающихся, чтобы они „не затерялись для церкви“, по выражению хотя и но канонического, но почтенного во многих отношениях памятника древности— апостольских Постановлений. Советы апостольских Постановлений епископам по истине дышат высокой христианской любовию. „Выгнанное ты, епископ, возвращай, то есть, кто был в грехах и в наказание извержен, тому не попускай оставаться вне, но, приняв и обратив
— 309 —
его, поставляй в стаде, т. е. в народе непорочной церкви. Затерявшееся ты отыскивай, то есть 22), кто от множества грехопадений потерял надежду спасения, тому не допусти погибнуть окончательно. Кто так далеко ушел от собственного стада, что может быть пожран волками, того отыскивай и всевай в него надежду. А если есть возможность, то пусть епископ усвоит прегрешения другого и скажет согрешившему: только ты обратись, а смерть за тебя возьму я, как Господь взял смерть за меня и за всех!“ Такие мысли совершенно чужды новацианской идеи о том, что церковь не нуждается в падших во имя идеальной чистоты ее, как установления божественного, и отрицают безразличное отношение к участи людей, хотя и самой же церковью отверженных. Но вопрос, как было замечено, остается еще в том, где полагались границы между попечением и притязанием на его свободу, и возможно ли найти какое-нибудь ограничение, какое определяла бы древняя церковь в своих отношениях к отлученному—ограничение в заботах „возвратить в стадо“?
должно сказать, что заботы эти действительно не обозначали ни прямых, ни косвенных стремлений физическими средствами возвратить отлученного к церкви. Конечно, и здравый смысл требует лучше не изгонять, чем, изгнав, силою или причинением страданий привлекать к церкви. Но и там, где, по-видимому, указание здравого смысла нарушалось (католическая теория и практика отлучения) и где последствия отлучения явно клонились к тому, чтобы существование отлученного вне церкви без возвращения в церковь делалось почти физически невозможным,—в мире этом, нарушение это прикрывалось частью тем, что отлучение рассматривалось как наказание (а понятие наказания, конечно, не заключает в себе требования, чтобы оно непременно было и легко!), а главным образом—теорией „экономии относительно верных“, т. е. остающихся внутри церкви, и обязанностью хранить то, что еще не потеряно. Но в древней церкви физические
22) Речь Постановлений построена на параллели между пастухом стада и пастырем христианским.
310
средства, как вообще не почитались средствами церковными, так в частности и здесь—в вопросе о попечении об одних и об охранении других. Мы не видим, прежде всего, чтобы отлученные ео ipso становились чем-нибудь иным, кроме того, чем они были до вступлении в церковь, т. е. язычниками или иудеями. Апостольские Постановления, как мы указывали уже, полагают в числе преступлений епископа, „если по его вине“, например—по стремительности в решениях („скор к изгнанию и отвержению“), отлученный „в язычество отступит или в ересях запутается и совершенно отчуждится от церкви“. Св. Киприан карфагенский потому между прочим и осуждал „суровость и жестокость“ в деле отлучения, что всегда была опасность, что отлученные обратятся „или на языческий путь и к мирским делам, иди перейдут к еретикам и раскольникам“,—где, разумеется, до них труднее дойти с заботою об обращении. Из этих опасений во всяком случае видно, что, так сказать, не пустить отлученного туда, куда его потянет злая воля, не было в мысли церкви, хотя видеть, что отлученный воспользуется своей свободой именно в эту сторону—было тяжело для церкви! В первые три века какого-либо иного отношения к личности отлученного, конечно, и быть не могло. И мы, действительно, видим, что иной, будучи отлучен от церкви, многие годы остается в состоянии отлученного, не обращаясь к язычеству 23). Но и в последующее время долго дело оставалось также. На 3-м вселенском соборе, напр., из дела некоего Харизия видно, что несколько человек, отлученных за свои заблуждения, пользовались свободой и даже приобретали себе единомышленников. Отлученные составили свой символ и приобретали подписи под этот символ под предлогом обращения к истинной вере 24). Около тридцати человек, отлученных за сообщество с
23) Например, Лукиан, последователь Павла Самосатского, многие годы оставался отлученным (именно — в продолжение управления трех наследовавших, в управлении, Павлу епископов). Деян. всел. собор. т. I, стр. 54.
24) Ibidem.-742-3, 745, 751 стр.
— 311
Несторием, представляются, по актам того же собора, не только свободными от всякого внешнего стеснения, но, соединившись с Несторием, они составляют свое противоопределение об отлучении самих отлучивших. ІV-й вселенский собор в числе причин отлучения Диоскора указывает на то, что Диоскор собственною властью принимал в общение отлученных соборами: это показывает, что до принятия Диоскором отлученные жиля самостоятельною жизнью даже в церковном отношении, не говоря уже о других отношениях 25). Тоже самое свидетельствует один из африканских соборов в послании к папе Целестину, прося его не принимать отлученных в Африке 26). Можно конечно подумать, что это—случаи, доказывающие не легальное существование отлученных, а только—дерзость некоторых из отлученных в то время, когда церковь не имела возможности смирить их. Но если бы это было так, то есть если бы церковь только сносила факт, не имея сил противостоять этому факту, то к искоренению существования отлученных и были бы направлены ее усилия, между тем мы видим, что правила, занимающиеся вопросом об отлучении, если и весьма много занимаются самыми отлученными, то только в соприкосновении их с церковью, а не самими в себе. Например, карфагенское правило (по нашей Книге правил 143-е) запрещает принимать доносы от тех, кто, „быв отлучен от общения, еще остается в сем отлучении“. Из 12—13 апостольских правил видно, что ничто не вынуждало отлученного оставаться в одном месте: он пользовался свободой идти, куда хочет. Упомянутое выше запрещение апостольских Постановлений— не принимать материальных пожертвований от отлученных—указывает на ту же внешнюю свободу отлученных. И вообще постановлений, касающихся того или другого вопроса об отлученных, как известно, в древней
25) Ibid,—ІII, 667 стр.
26) Императрица Пульхерия пред Халкидонским собором предписала изгонять из города лиц не призванных сюда в качестве участников собора, „будут ли то клирики, или какие-либо отлученные своими епископами“. Ibidem, стр. 114.
— 312
церкви, говоря относительно, встречается весьма много; они относятся к различному времени и все они самым бытием своим свидетельствуют, что отлученные существовали без всякого притеснения в их внешней жизни. Явственнее же всего, по нашему мнению, отношение церкви к отлучаемым в самом принципе определено теми десятью сирийскими епископами, о мнении которых мы уже имели случай упомянуть. Именно, епископы эти высказались, что тех, которые отрицают отеческую истину, они осуждают как отлученных,—„ибо какие другие наказания от нас нужны для тех, кого сделала чуждыми нам вера?“ Отлученный нечестив, явно поступает вопреки правилам церкви. Но, рассудили епископы, „относительно тех, которые отделились от церкви и не хотят иметь ничего общего с нами в предметах божественных, издавать еще какое-нибудь определение и наказывать их, как нарушителей (каких-нибудь) канонов,—нет никакой надобности, так как отчуждением от веры они отрезали себя от всего тела и далеко удалились от наших правил“. Вообще дело епископы представляют так: „когда кто-нибудь согласится следовать нашим правилам, тогда за случившиеся прегрешения мы прилагаем определение канонов: если же кто далеко но сходится с церковными канонами в том, что составляет сущность нашего внутреннего общения, то он совершенно чужд нам“ (Деян. вс. соб. IV, 523—4). Из этих, отвечающих потребностям времени и потому отчасти условных, выражений ясно одно: к не имеющим внутреннего общения нет ни· каких более отношений! частным случаем, подавшим повод высказаться таким образом, были насильственные действия последователей Нестория и Евтихия. Гражданской власти дело это представлялось делом церковным; но епископы, отвергнув возможность каких-либо отношений к лишенным общения, вопрос о нарушении собственно внешних прав церкви с своей стороны считают подсудным одному только государству: „за проступки и присвоение, допущенные“ самоуправством, „виновный должен быть судим по законам гражданским и разумным судом их исполнителей“.—Конечно, такие суждения даже и в то время были не единственные. Но истинную цер-
— 313 —
ковность этих суждений предание церкви запечатлело тем, что в самом деле—какие же можно указать наказания (хотя это—только одна сторона отношений), как определенные церковью, за состояние в отлучении и за неоказание усилий возвратить себе церковную правоспособность?— Остается одно отношение церкви отлученному: попечительность о его возвращении.
Границы, в которые заключались действия попечительности и так называемой экономии церкви в отношении к отлученным, как было замечено, должны быть найдены особенно в виду той важности, которая связывает вопрос об этих границах с вопросом о свободе совести вообще. Весьма важно, например, будут ли в самом деле попечительные действия церкви простираться до того, чтобы пренебрегать неотъемлемым правом человека на физическую и гражданскую свободу, или попечительность церкви прекращалась там, где она уже встречалась с этим правом свободы. Если бы оказалось, что действия попечительности не останавливались ни пред какими общечеловеческими правами человека, то это значило бы, что церковь в своих учреждениях всегда имела такой пункт, который в известных случаях и для известных лиц всегда мог быть обращен в орудие утеснения, — подобно тому как самое распространение истины Христовой некогда было обращаемо в орудие причинения человеку земных страданий.— Но очевидно также, что вопрос в этом виде будет тем же вопросом о последствиях церковного отлучения и в частности о том, имело ли церковное отлучение какое-либо значение для общечеловеческих отношений отлученного к христианскому обществу и обратно.
Об истории этого вопроса нужно сказать, что здесь факт предупредил самый вопрос о праве, в том смысле, что сначала, несомненно, появилось распространение последствий отлучения на чисто гражданские отношения, а потом сознана была нужда свериться с правом на таковое решение вопроса. Разумеем по истине ужасное в обществе человеческом положение отлученных в средние века, фактическое уничтожение возможности такого положения успехами в развитии истинной государственности, после чего наконец только уже и появлялись попытки анализировать с возмож-
—314—
ным беспристрастием вопрос в его первооснове, т. е. в церковном праве. Но уже то одно, что категорическое отрицание гражданских последствий отлучения, как действительного будто бы правоположения древней церкви, до сих пор еще не высказывается всеми без исключения,— по нашему мнению показывает, что или попытки эти не сделаны действительно беспристрастно, или не чувствуется еще и самая нужда сделать это беспристрастно. Образцы рассуждений об этом вопросе у людей, касавшихся вопроса о древней церковной дисциплине (и связанного с ним вопроса о церковном суде) можно указать такие. Дюпень 27) различает главные и второстепенные последствия церковного отлучения. И если, по его мнению, „собственным и первичным последствием отлучения было отнятие у отлученного тех прав, которые принадлежали ему в христианском обществе и снятие с него тех обязанностей, которые лежали на нем, как на христианине“: то все же „второстепенным следствием, по мнению Дюпеня, было то, что с отлученным не входили в близость, в купножительство, в разговор, когда к этому не вынуждала необходимость или польза“, Дюпень, правда, твердо стоит на том положении (и это было для конца ХVII столетия делом не совсем старым), что „закон благодати — не уничтожил закона природы“, не освободил человека от обязанностей, каким он повинен по природе 28). Но все это только клонилось к защите основной идеи галликанских богословов—к защите самостоятельности государства. И представляется вероятным, что если бы такой принцип (т. е. что второстепенным следствием отлучения было отрицание купножительства и т. п. 29), не взирая на его относительную умеренность, провозгласить в первые три века христианства,—то это было бы в высшей степени полезным свидетельством для гонителей на христиан,
27) Известно, что Дюпен написал научно-богословский комментарий в защиту так назыв. „Declaratio cleri gallicani de ecclesiastica potestate", An. 1682. Комментарий этот называется: „probationes propositionum declarationis" и неоднократно был печатаем.
28) Do antiqua eccles. discipl. p. 293.
29) См. указанн. probationes (изд. 1768) p. 32 и de antiq. disciplin. p. 223.
— 315
старавшихся отыскать в христианских установлениях элемент противообщественности; ибо в таком случае гонители могли бы утверждать, что в среде христианского общества скрывается элемент не могущий оставаться в мире с всеобщими требованиями и понятиями человечества,—как можно сказать это о западной церкви средних веков.
Другой истолкователь галликанской идеи Боссюэт последствия отлучения определял, как запрещение общения с отлученным in malis, in sacris, in quotidiana consuetudine и первые два термина, по теории Боссюэта, nullam exceptionem habent а второй термин exceptio necessitatis имеет и есть только добавочное вследствие отлучения (tantum excommunicationes appendix). Понятие „необходимости“, как известно, может быть весьма растяжимо в ту или другую сторону: можно видеть необходимость там, где ее в действительности нет, и можно не признавать необходимости там, где она явна. Чистые паписты, например, не видали необходимости повиноваться законной власти, если власть подпала отлучению, на основании того, что усматривали „в повиновении“ запрещенное „без необходимости“ с отлученным quotidiana consuetudo. Боссюэт, напротив, видит необходимость сделать исключение именно в этом пункте, и распространяет это исключение не только на отношения юридические, но и на многие другие. „Ни Павел, ни Иоанн апостолы“, говорит Боесюэт, „не запрещают, например, вести куплю, продажу с отлученными, когда это необходимо, но только запрещают обращаться с ними в духе общения. И какое апостольское повеление нарушит тот, кто скажет кальвинисту: здравствуй? — хотя много людей, готовых отказать толикому числу граждан не только в приветствии, но и в обязанностях общественной жизни. Это — род общественного возмущения — замечает Боссюэт—и ничего подобного апостолы нам не заповедали“, и, в заключение, решение всего вопроса о необходимых последствиях отлучения Боесюэт считает таким предметом, точное решение которого невозможно, но который должно решать с точки зрения пользы церквей, под руководством мудрости и любви христианской.—Признавая запрещенными только те отношения к отлученному, которые не вызываются общественной необходимостью, но оставляя са-
— 316
мый принцип разобщения с отлученным во внешней жизни, галликанские канонисты выше указанное место из апологии Тертуллиана о том, что отлученные лишаются sancti commercii, толкуют, как лишение commercii cum sanctis, h. e. cum fidélibus, оставляя на долю исключений из общего принципа „необходимость физическую и нравственную“, а к последней—и отношение к государственной власти 30). Бингам принимает за доказанное положение, что в древности от отлученных „и в гражданском быту бегали, как от чумы“. Гиббон рассуждает; „последствия отлучения от церкви имели частью светский, частью духовный характер. Отлученный лишался права что-либо получить от приношений верующих; узы как религиозного братства, так и личной дружбы—разрывались; он делался предметом отвращения для тех, кого он более всего уважал, или для тех, кого он более всего любил, и его исключение из общества достойных людей налагало на его личность такую печать позора, что все отворачивались от него или относились к нему с недоверием“. Вообще по Гиббону „положение отлученных было очень неприятно и печально“,—что, конечно, даже и с точки зрения Гиббона, не должно казаться удивительным, потому что и Гиббон признает, что кара эта была направлена не на одних только авторов и приверженцев каких-либо еретических мнений, но, говорит Гиббон,—„преимущественно на самые позорные деяния, в особенности на убийства, мошенничества, невоздержания“,—а эти деяния едва ли где привлекают к себе уважение! Мнение Гиббона мы отмечаем, как мнение во 1-х писателя не церковного, не имевшего целей оправдывать или поддерживать какие-нибудь вероисповедные воззрения, и во 2-х как мнение, по-видимому, сходное с другими, но в существе дела весьма отличное.
В русских памятниках церковного законодательства учение об отлучении есть в Духовном Регламенте. Регламент, имея за собой заслугу разъяснения истинного значения анафемы, однако же говорит, что „чрез анафему
30) Delor, ibid. 245. Основание такого толкования указанного выражения Тертуллиана этот писатель усматривает в словоупотреблении того времени,—Впрочем, в издании Миня такого комментария не встречаем.
— 317 —
человек подобен есть убиенному; а отлучением или запрещением подобен есть за арест взятому“. — Русская собственно богословская литература но вопросу о последствиях отлучения в древней церкви примкнула к признанию, что в числе последствий было „необщение во внешней жизни—в жилище, пище, беседе“: так определяет последствия отлучения пр. Иоанн 31). Желание поддерживать это определение можно встречать и у других исследователей.
И так, вопрос о последствиях отлучения для гражданской жизни, или—в более обширном смысле—для вне религиозной жизни, ученые скорее наклонны решать в том смысле, что по обычаям древней церкви разобщение во внешней жизни—было в числе последствий отлучения, чем в том смысле, что таких последствий не было.
Нормы отношений к отлученным можно найти в св. Писании. Сюда прежде всего нужно отнести выражение Спасителя: „да будет он тебе, как язычник и мытарь“ (Мф. XVIII, 17). Златоуст о приведенном выражении Спасителя рассуждает таким образом: „вспомни, что Спаситель везде мытаря представляет в пример самого тяжкого грешника“, и человека „самого презренного“. „Но почему Спаситель поставил такового (т. о. отлученного) в ряду с мытарями?“—спрашивает Златоуст. — „В намерении утешить обиженного и устрашить того“—не слушающего увещаний церкви. Чем же устрашить? Следуя мыслям Златоуста, должно думать именно—тем, что изгнанный из церкви, поелику но причине своего упорства бывает изгнан, становится „на ряду с людьми самыми презренными“. И всякий, сознавая возможность оказаться
31) Христ. Чтен. 1864, 111. 137. Впрочем, separatio minor и по мнению пр. Иоанна не лишало человека прав его звания и состояния (Церк. Закон. II. 77). При атом однако пр. Иоанн замечает, — что такое нелишение было тогда, „когда преступления обнаруживались только исповедью, а не судебным порядком“.—Только Неволин признает, что „церковное наказание не сопровождалось гражданскими последствиями“; к числу каковых наказаний Неволин причисляет и отлучение от церковного общения (Собран. соч. т. VI. 263).—Наши судебные уставы 1864 года не допускают отлученных от церкви ни в каком случае к свидетельству на суде под присягою (ст. 95 Уст. Угол. Судопр.).
318 —
на ряду с людьми самыми презренными, конечно, не может не страшиться и возможности отлучения. Но это поставление отлученного Спасителем наряду с людьми самыми презренными—значит ли, далее, то, чтобы по отношению к такому можно было ограничивать заповедь о любви христианской ко всем людям, другими словами,— чтобы, по выражению св. Григория Богослова—„бежать от отлученного, как от дикого зверя?“ К сожалению Златоуст, по известному своему обычаю быстро переходить от одного предмета к другому, лишил нас своего авторитетного мнения о том, какой следует дальнейший вывод из поставления отлученного в ряд людей презренных. Но если принять во внимание то, что Спаситель поставил на ряду с мытарем и язычника, то не будет несправедлив такой вывод, который отсюда иные делают, именно: Спаситель во всяком случае не заповедал относиться к отлученному строже, или даже иначе, чем, как к язычнику и мытарю, т. о. к иноверным и людям порочным; никакие сношения по делам житейским, никакое внешнее общение с ними—нигде не запрещено; и Златоуст, как увидим ниже, следуя известному выражению апостола, выразительно отмечает, как явную нелепость, ту мысль, если бы кому пришла она, что внешнее общение для христианина допустимо только с людьми праведными и запрещено -с людьми грешными. — Хотя но столь авторитетный памятник, по во всяком случае древний—апостольские постановления—выражение: „да будет он тебе, как язычник и мытарь“ комментируют так: „если он (отлученный) ожесточится—не принимай его уже в церкви, как христианина, но удаляй от нее, как язычника. Но если он пожелает каяться, то прими его (но только при этом условии его раскаяния), ибо язычника или мытаря церковь в общение только тогда принимает, когда каждый из них раскается в прежних нечестиях“. То есть, по апостольским Постановлениям низведение отлученного в разряд мытарей и грешников означает то, что они покаянием должны искать доступа в церковь так же, как этого
32) Беседы на Матф. рус. пер. ч. III, стр. 31—2. (В тексте сноски нет.- Ред. эллектр. изд.)
319-
доступа ищут язычники 33). Мы увидим, что апостольские Постановления занимаются и специальным вопросом об отношении к низведенным на положение язычников в делах общечеловеческих. Теперь же заметим только, что и из понимания выражения Спасителя апостольскими Постановлениями опять только следует, что решение вопроса об отношении к отлученным следует искать в решении вопроса об отношении к язычникам, какими в юридическом смысле становятся отлученные.
Но если Спаситель приведенными словами поставил отлученных в положение внешних и тем, хотя посредственно, определил отношение к ним,—то в вопросе этом нельзя не обратить внимания на слова ап. Павла, по-видимому устанавливающие иные отношения: разумеем слова 1 посл. Коринф. V, 9—11, и 2 Фесс. III, 14. Первое из приведенных мест заповедует не иметь общения с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем и проч.: с такими даже и не есть вместе. Второе же из этих мест заповедует—не иметь общения с тем, кто но послушает слова апостольского. И первое из этих мест явно строже заповедует относиться к называющимся братьями, но порочным, чем ко внешнему в собственном смысле, язычнику. „Коринфяне, говорит Златоуст, могли подумать (на основании прежнего послания, где апостол писал уже им, чтобы не сообщались с блудниками, ст. Я), что надобно избегать всех блудников... Так как это невозможно („ибо как возможно, чтобы человек, имея дом и детей, исполняя общественные обязанности, при таком множестве язычников всегда избегал блудников? Иначе — пришлось бы искать другой вселен-
33) В образе принятия изверженного снова в церковь апост. Постановления проводят такую параллель с образом принятия чрез крещение: „как язычника принимаешь омыв (крестив) по научении, так и сего (отлученного, в случае его покаяния), как очищенного покаянием, возвращай на прежнее пастбище чрез руковозложение, и руковозложение будет ему вместо омовения". Имеется здесь в виду, конечно, не мысль о замене крещения руковозложениѳм, а самый образ представления о том положении, какое занимали отлученные по отношению к извергнувшей их церкви.
320
ной“, — так Златоуст поясняет мысль апостола в ст. 10),—то апостол запрещает не сообщаться не вообще с блудниками мира сего, но только с таковыми из называющихся братьями. „Кто будет сообщаться с язычниками, тому апостол не запрещает есть с ними, и не заповедует не сообщаться с такими людьми из язычников потому даже, что эго не только невозможно, но и излишне“. Излишне потому, что они—внешни для апостола (ст. 12). И смысл этого как бы отказа внешним в попечительности о них Златоуст объясняет тем, что „так поступаем и мы: о детях и братьях имеем полное попечение, а о чужих заботимся не много“: т. е., помысли Златоуста, общение со внешними апостолом но запрещено, потому что забота о них не обязательна; забота же о своем согрешившем брате обязательна, а потому, как выражение этой заботы и соответствующее ей средство, и заповедуется апостолом—лишать его общения даже до указанной меры, „чтобы устыдить его“.—И так в общем смысле апостол Павел несомненно указывает отношение к согрешившему брату такое, какое строже, чем к язычнику. Но эта большая строгость дает ли основание для отношений к отлученному как к зверю, как к дикой птице и т. п.?
Как бы именно для того, чтобы не покушались никогда злоупотреблять средством предуказанным апостолом и обосновать на нем зло, хотя бы и внешнее, для человека и чтобы не понимали заповедь апостола как предуказание отношений худших, чем какие обязательны к язычнику,— тот же апостол во втором из указанных мест прибавляет: „по сообщайтесь, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата“. (2 Фессал. 3, 15). И тот, по смыслу слов апостола, кто в наказание согрешившего имеет обязанность не сообщаться с ним даже до некупноядения, тот вместе с тем имеет обязанность не считать его за врага, а за брата. И это сопоставление древние толкователи считали как бы необходимым дополнением для определения правильных отношений к недостойным общения по смыслу слов апостольских. Августин, например, не отвергая трудности совмещения заповеди апостола, данной Коринфянам, с терпимостью к
321 —
плевелам в церкви Христовой 34), указывает на заповедь апостола в послании к Фессалоникийцам, как такую, которая делает возможным церковный порядок жизни делать, так сказать, порядком любви и мира, а не вражды и разделения. Златоуст о возможности примирения двух обязанностей—удаления от согрешившего и сохранения братских отношений — рассуждал таким образом: „смотри, как скоро смягчается отеческое сердце и заметь, с какою мудростию он (апостол) поступает! Не сказал апостол (после того, как заповедал не сообщаться с согрешившими): впрочем, оказывайте им снисхождение до тех пор, пока они исправятся (будучи в таком состоянии: слово апостола должно быть твердо). Но что? Отделяйтесь, говорит, от них и обличайте, однако же—не презирайте умирающих от голода... Это наставление не маловажно: ибо так мы должны наказывать брата, чтобы он исправился. Мы должны знать, каким образом можем наказывать. Ибо, скажи мне, если бы ты имел брата (каковым по апостолу мы во всяком случае должны считать наказуемого необщением) по плоти, то неужели бы ты оставил его без помощи тогда, когда он умирал бы с голоду? Я но думаю; но ты, вероятно, позаботился бы о его исправлении“ 35). Во всяком случае, по Златоусту, если и необщение есть обязанность, налагаемая заповедью апостола, то при соблюдении этой заповеди не должно доходить до того, чтобы считать себя правым „оставляя брата без помощи тогда, когда он умирал бы с голоду“; и запрещение есть с ним не означает и запрещения давать ему есть, а посему можно судить и о всем прочем. Поэтому Златоуст то место из 2-го послания к Фессалоникийцам (III, 15), по поводу которого сказаны им только что приведенные нами слова, излагает таким образом: апостол, „сказав: не сообщайтесь с ним, потом из опасения, чтобы это самое совсем не отделило его от общества братии,—ибо усомнившись в самом себе он мог бы скоро погибнуть, если бы ому отказали в ободрении,— прибавил: но не считайте его за врага“ и проч. 36). И
34) Подробнее мнение Августина—ниже.
35) Беседы на 2-е послан. к Фессалон. русск. пер. стр. 74—4.
36) Злат. ibid.
— 322 —
так, кому известно, что Златоуст не имел ни склонности, ни привычки в понимании вещей оставлять что-либо „на теорию не прямых последствий“, тот из таких рассуждений его справедливо умозаключит, что по крайней мере лично Златоуст не видел у ап. Павла даже и намека к возможности оправдания какого-либо, хотя бы только косвенного, причинения вреда отлученному под предлогом выполнения заповеди о необщении с таковым, и что, следовательно, всякое толкование слов апостола в пользу известной теории произвольно.
Наконец, как место из Св. Писания, на котором можно обосновать учение об отношении к отлученным, указывают на слова 2-го послания ап. Иоанна ст. 10 — 11, запрещающие принимать в дом и приветствовать того, кто приносит ложное учение.—К сожалению мы не имеем древних свидетельств того, понимаемы ли были слова апостола в том смысле, какой хотят видеть в них для вопроса об отлучении. Нет сомнения, что прямой смысл их не может подлежать никакому смягчению, т. о. никакой метафоры тут усмотреть нельзя, подобно тому, как Златоуст объяснял например заповедь Спасителя об исторжении соблазняющего глаза 37). Один из известных новейших комментаторов, может быть в виду этой невозможности какого-нибудь смягчения очевидного факта, усмотрел в словах апостола прямо „нетерпимость свойственную (будто бы) тому веку“, вследствие „еще невозможности тогда высшего взгляда, по которому человек даже в его заблуждениях остается человеком и предметом любви, и уважения“ (де-Ветте). Другие в заповедь апостола Иоанна влагают, если так можно выразиться, такой смысл: не отказ в гостеприимстве и приветствии сам по себе важен, — это только одна из частных форм обнаружения одной и той же идеи. Идеей же этой служит обязанность открытого отрицания общности со лжеучителями, или даже только терпимости к ним. Посему заповедь „не принимать в дом и не приветствовать“ — равносильна заповеди: избегать всех вообще внешних актов, которые могли бы скрывать то отвращение, которое мы питаем к делам и стрем-
37) О сем—ниже.
— 323 —
лениям лжеучителей. А так как гостеприимство и приветствие суть совершенное выражение человеческого общения и уже никак не могут обозначать того отвращения, которым христиане обязаны по отношению к лжеучителям,— то естественно, что подобные акты не могут быть безразличны, а следовательно и позволительны по отношению к лжеучителям 38).—При этом обобщении комментаторы соображают: „если любовь к Господу требует ревности о славе Его имени, равно как и любовь к брату не может спокойно смотреть, когда извратители истины хотят отторгнуть от нее брата“,—то „и эта ревность об истине, однако же, любви не исключает“: этот тезис сам собою подразумевается, как раз уже высказанный апостолом 39).—Но кому бы однако такие соображения ни принадлежали, мы должны сказать, что они не представляются противными тому, как понимал мысль апостола Иоанна о необщении с лжеучителями один из древних учителей церкви, именно Св. Ириней (о чем ниже, так как Ириней высказался не в качестве истолкователя писании ап. Иоанна, а в качестве истолкователя одного из преданий об апостоле).—Если же так, то представляется позволительным поставить такие вопросы: когда принятие в дом или тому подобные акты в каком-нибудь случае явно не обозначали бы признания общности со лжеучителем, как с таковым (напр., когда принятый в дом лжеучитель находился в опасности потерять жизнь при отказе принять его, как в случае, предусмотренном VI вссл. соб. пр. 88 40): были бы подобные акты противны духу постановлений апостола? Или же на верных сынов церкви на-
38) См. извести, комментарии Lücke и Sander'a.
39) Sander, S. 313.
40) Как известно, правило это, запрещая вводить животных „внутрь священного храма“, делает и такое исключение: „разве кто путешествуя, стесняемый величайшею крайностью, и лишенный жилища и гостиницы, остановится в таковом храме,—потому что животное, не быв введено в ограду, иногда погибло бы, и сам он, потеряв животное, и потому лишаясь возможности продолжать путешествие, был бы подвержен опасности жизни. Ибо—мы знаем, что суббота человека ради бысть, и потому всеми средствами пещися должно о спасении и безопасности человека“.
— 324 —
лагалась обязанность механического последования наставлениям апостола, без всякого стремления к различению их духа от буквы? Вообще—можно ли и к заповеди апост. Иоанна прилагать тот же критерий различия между необщением как церковно-педагогическим средством охранения верных церкви (каковое средство притом, по мысли Златоуста, ни в каком отношении не должно быть разрушительным, см. выше), и—необщением как будто бы единственно и исключительно законным отношением к отлученному,—тот критерий, который, точно следуя словам ап. Павла, Златоуст прилагал к вопросу о необщении с согрешившим братом (так как заповедь апост. Павла и апост. Иоанна относятся, собственно говоря, не к одинаковым случаям)? Нам думается, что истолкование не предвзятое не дает возможности ответов на эти вопросы таких, кои утверждали бы, что—отлученный ео ipso, чрез свое отлучение, становился вне покровительства христианского человеколюбия, во имя того только, что апостол любви заповедывал—избегать лжеучителей...
В церковных памятниках после апостольского периода мнения и практика вопроса о должном отношении к отлученным начинает уже иметь свою историю, т. е. вопрос получает не довольно — тем более не буквально-однообразные решения. В ряду этих памятников первое место, по определенности и ясности решения вопроса, должно быть отведено апостольским Постановлениям. Кроме определенности, решение вопроса здесь важно потому еще, что апостольские Постановления, кажется, относятся к тому времени, когда эпитимии не получили еще в дисциплине церкви преобладающего значения: в это время всякий тяжкий грех, наличность которого должным образом установлена, мог быть очищен покаянием не внутри церкви, а только вне ее, после отлучения, —когда на ряду с неправильным изгнанием из церкви считалось злоупотреблением и попущение оставаться в церкви, баг отлучения, для лиц, которые тяжко согрешали 41). Отлучения в это
41) „Уличенных, если они не изменят поведения, да отвергнется епископ. Если же он, будучи недобросовестен, желает еще угодить кому-нибудь, то ради корыстолюбивого принятия подарков беззаконно пощадит
— 325 —
время, следовательно, были сравнительно часты, а в свою очередь часто должны были встречаться и отлученные, хотя конечно и не столь часто, как необращенные, язычники и иудеи. Это стало быть, — еще должно прибавить, — было время, когда последствия отлучения не составляли собою вопроса одного теоретического интереса, но имели интерес применения на деле. Из апостольских Постановлений, как мы отчасти знаем, видно, что новацианская идея о непринятии падшего снова в церковь в эпоху появления Постановлений уже высказывалась, равно как высказывалась и идея строгого внешнего разобщения с отлученными. Поэтому Постановления отвечают на обе эти идеи: на первую—утверждая, что не принимать кающегося значит предавать его злоумышленникам, „волкам“, ожидающим его погибели вне церкви, хотя, пока отлученный не кается и сохраняет на себе безобразную печать греха, он „не надобен церкви“, как безобразный член тела, что можно отлучать и принимать и не один раз 42); на вторую—целым учением о пределах необщения с отлученными. Постановления поэтому касаются; а) общего вопроса о сношении с отлученными, b) вопроса о возможности или невозможности совместной с ним жизни и наконец с) в чем действительно общение ни в каком случае не допустимо.
Итак, прежде всего—„должно принимать кающегося“.
согрешившего, попустит ему оставаться в церкви“ и проч. „Если мы не отлучим беззаконного человека от церкви, то сделаем дом Господень вертепом разбойников». Русск. перев. стр. 25, 36—37. Сравн. приведенные прежде выражения:—„когда увидишь ты кого согрешившим, то прикажи извергнуть его вон“ и т. п. — Обратное злоупотребление — изгнание из церкви „за условленные (с обвинителем) подарки“ (русск. пер. стр. 72—73) указывает на то же самое, именно, что—в случае доказанности вины в тяжком грехе прежде всего выступал вопрос об изгнании из церкви.
42) Апостольские Постановления рассуждают о том случае, когда раз отлученный и по раскаянии принятый в церковь, снова „по вступлении в церковь подобным образом мятежничает“. Такового снова извергнуть, как заразу.—Постановления, по-видимому, не предусматривают, что делать, если вторично изгнанный снова будет искать вступления в церковь. Может быть должно заключить отсюда, что таких случаев не было, или что для этих рецидивистов вопрос решался отрицательно,
326 —
И принимать должно „нимало не колеблясь и не стесняясь теми, которые говорят немилосердно, что с такими не должно обращаться, даже иметь общение в слове. Такие внушения принадлежат неведущим Бога и зверям жестоким, ибо—не знают, что надобно беречься общения с согрешающими не в слове, но в деле“. „Писание (Иезекииля XIV, 13—14; XVIII, 20) весьма ясно показало, что праведный обращающийся с неправедным не погибает вместе с ним. Ибо в этом мире и праведные и неправедные соединяются друг с другом общением только жизни, а не праведности; но в этом (общении жизни) любящие Бога не согрешают, напротив, подражают еще Отцу своему небесному, повелевающему солнцу своему восходить над праведными и неправедными и посылающему дождь свой на злых и добрых. И от этого нет никакой опасности для праведного, ибо каждый будет отвечать сам за себя“. После указания исторических примеров, доказывающих, по мнению Постановлений, что одно жительство вместе с виновным не составляет вины,—Постановления вопрос о таковом жительстве заключают: „и так—не должно внимать тем людям, всегда готовым убить, ненавидящим человеков и благовидно причиняющим смерть; один за другого не умирает... И не на то должно смотреть, какова воля людей жестокосердых, но на то, какова воля Бога и Отца всего чрез Иисуса Христа“ 43).
Эти наставления, по-видимому, обращены ко всем людям. Тоже и также советуется и епископу: „впадшим в проступок однажды или в другой раз ты, епископ, не гнушайся, и слова Господня не возбраняй ему, и из общего жительства не выгоняй его, ибо и Господь не отказывался есть с мытарями и грешниками... Итак с отлученными вами за грех обращайтесь и живите вместе, заботясь о них, утешая их, поддерживая их“ 44). Вообще совместная жизнь с отлученными за грех, по взгляду Постановлений, но противна воле Божий, а отрицание ее— выдумано людьми жестокими. Но этого мало: „видя, как
43) Русск. перев. стр. 29—31.
44) Ibid. стр. 70.
— 327 —
Бог наш благ и человеколюбив, и не оставляя места для предположения тем, кои хотят судить бесчеловечно и совершенно отвращаться согрешающих и не иметь общения в беседах утешительных, могущих привести к покаянию“,—мы, „вопреки таковым, должны утешать согрешивших и возбуждать к покаянию, а не предполагать, что за любовь к ним сделаемся общниками прегрешений их 45) Это—очевидно—изложение положительной обязанности, существующей по отношению к отлученным, и обязанность эта Постановлениями формулирована так же, как мы ее формулировали выше. Несколько иное отношение, кажется, апостольские Постановления устанавливают к отлученным лжеучителям или еретикам, но всей видимости отделяя их „от отлученных за грех“, т. е. за акты воли, а не за ложное учение. „Безбожных еретиков, которые не раскаиваются, отделяйте и открыто выгоняйте из церкви Божией, а верующим объявляйте, чтобы всячески удерживались от них и не имели с ними общения ни в разговорах, ни в молитвах. Бегайте общения с ними и будьте чужды мира с ними“ и т. п. 46) Но чтобы беспристрастно оценить такие выражения, нужно поставить вопрос: отрицается ли здесь та же обязанность заботы и любви к еретику, как к человеку, которая заповедана по отношению к отлученному за грех? Ответ на это дают сами Постановления, ясно различая свою заповедь о необщении с еретиками от заповеди о должном отношении к ним по началам христианского общежития: „когда приходит учитель, то от души снабжайте его нужным, а лжеучителю хотя давайте, что нужно, но заблуждения его не принимайте и вместе с ним не молитесь, чтобы не оскверниться с ним“ 47). И должно думать, что заповедь о необщении в слове относится к слову потолику, поколику слово лжеучителя может поддерживать его лжеучение, т. е. по вопросам веры. Ибо апостольские Постановления в одном месте, как бы во избежание всяких разнородных воззрений на
45) Ibid. стр. 33.
46) Ibid. стр. 188-90.
47) Ibidem. 225.
328 —
дело, рассуждают: „сие же заповедуем, чтобы не отвратить сближающихся с нами, ибо знаем, что и встреча с благочестивыми часто полезна нечестивым, а вредно одно общение в суеверии“. И „все это сказано вам в предостережение ваше“ 48).
И так, по взгляду Постановлений, а) единственно и безусловно запрещенная вещь по отношению к изверженным из церкви—„общение в суеверии, общение в нечестии“ и т. п.; б) все остальное, хотя бы что с первого взгляда и казалось относящимся к суеверию или нечестию,—не запрещено, поколику соблюдено предостережение против возможности иметь общение в суеверии и нечестии. Но и при этом соблюдении предосторожности в) не должно предосторожность со стороны верных обращать в средство нанесения разных лишений неверным в их общечеловеческой жизни; им принадлежит даже более, чем одно нелишение: принадлежит и право на попечение о них, поколику древняя церковь имела в своем распоряжении средства помогать нуждающимся, другими словами, предел в необщении с изверженными— не рассматривать их как „дикую птицу“ или бешеного зверя, а человека, имеющего право на человеческие отношения.
Мы должны заметить теперь, что исследователи желающие необщение понимать в смысле лишения человека его человеческих отношений, обыкновенно не касаются апостольских Постановлений, как памятника исторического, но указывают другие факты из памятников приблизительно соответствующей Постановлениям древности. Мы не будем неправы, если будем утверждать, что не только вопрос об отношении к отлученным, но и вся церковная дисциплина впоследствии приняла характер принудительный— почти тот же, что, с известного времени, мы должны были признать существовавшим и по вопросу о средствах распространения христианской веры. Во всяком случае, воззрения Постановлений не сохранились всюду даже в продолжение эпохи вселенских соборов. Но мы будем оспаривать силу значения именно тех фактов, которые обыкновенно приводятся исследователями, оставляющими
48) Ibid. 127.
329 —
без внимания взгляд апостольских Постановлений, как доказательство того, что иные воззрения суть воззрения всеобщие, имеющие за себя авторитет древности и каноничности, и что следов. воззрения Постановлений суть воззрения особенные, не канонические, потому—не имеющие для дела значения.—До эпохи I вселенского собора такими, имеющими будто бы в этом направлении доказательную силу, фактами считается: свидетельство Тертуллиана, изложенное по вышеприведенному способу, т. е.—что выражение: sancti commercii—равно: commercii cum sanctis, a sancti в свою очередь то же, что—верные христиане, находящиеся в общении с церковью 49). Епископ Фирмилиан в известном послании к Киприану удостоверяет, что епископ римский Стефан, не допустив к себе на личное свидание послов африканских, „приказал при этом, чтобы никто не принимал их и в дом свой; чтобы пришедшим было отказываемо не только в приветствии и общении, но и в праве на гостеприимство“ 50). Такой факт сам в себе не подвергается сомнению. Но относительно двух следующих фактов мы должны оговориться, что хотя они обыкновенно и приводятся по вопросу об отношениях к отлученным, но при этом опускается из виду то обстоятельство, что дело идет, собственно, не об отлученных, а о еретиках—что не всегда было одно и тоже 51). Эти факты: суждения Киприана и суждения Иринея лионского. Суждения Киприана об отношении к отлученным, действительно, если не прямо противоположны суждениям об этом предмете апостольских Постановлений, то близки к изложенным нами выше суждениям их же об отношении к лжеучителям. Киприан, в ответ на просьбу некоего Квирина, просившего Кип-
49) Кроме новейшего писателя, указанного выше, этого же мнения держится Дюпень (ibid.). Кобер, впрочем, усматривая здесь некоторую натяжку, на приведенное место Тертуллиана не ссылается.
50) Migne, ser. lat. III, 1174—5. Существует спор о том, кто были эти послы (ibid. not), но для вопроса это—безразлично.
51) Поэтому и не все ссылаются на эти факты, наприм., Дюпень не пользуется ими в главе de effectis excommunicationis. Но из старинных— Бингам, из новейших — Кобер, приводят эти факты в качестве данных для истории отлучения в первые три века.
— 330 —
риана извлечь из писания „отрывки относящиеся к благочинию нашего вероисповедания“, между прочим советует: „не должно заводить беседы с еретиками“ 52). По поводу раскола Новациана Киприан неоднократно советует „бегать волков в овечьей коже, напоенного ядом языка диавольского, бегать пагубного разговора с таковыми, как заразы смертной“ и тут-же, по-видимому не по отношению только к новацианам, говорит: „должно отвращаться и должно избегать того, кто отделен от Церкви“. Суждения св. Иринея, по поводу известного 53) рассказа о встрече ап. Иоанна в бане с еретиком Коринфом, а также и встречи мученика Поликарпа с Маркионом, выражаются в следующих словах: „такую осторожность имели апостолы и их ученики, чтобы даже в слове не иметь общения с кем-либо из тех, которые искажали истину“. Рассказ, давший повод к такому суждению, принял в конце IV века несколько иной вид у св. Епифания кипрского. Именно, Епифаний несколько распространяет рассказ об Иоанне Богослове и муч. Поликарпе, хотя, вероятно, и заимствует его у Иринея же или, может быть, и у Евсевия, сделавшего буквальную выписку из Иринея. Ио если сравнить суждения самих рассказывавших: Иринея и Епифания, то нельзя но видеть, что писатель ІІ-го века— Ириней и писатель IV’ века—Епифаний из одного и того же факта выводят уже различные правила благоповедения, или, лучше сказать, придают фактам различный смысл. Ириней по поводу рассказанного им выводит только правило об осторожности обращения с искажающими истину, и самые поступки ап. Иоанна и муч. Поликарпа разумеет как действия осторожности, по не той исключительности, граничившей с враждебностью, которую впоследствии выдавали, как подлинную и неизменную заповедь церкви. Епифаний же излагает дело так: „апостол Иоанн, говорит Епифаний, никогда не моясь, побужден был ду-
52) Твор. в рус. пер. II. 173.
53) „Иоанн, в Ефесе, пришед в баню и увидев в ней Коринфа, выбежал из бани не мывшись и сказал: „убежим, чтобы не упала баня, потому что в ней враг истины—Коринф“. Ирин, против ересей, рус. пер. 278. „И сам Поликарп при встрече с Маркионом, сказавшим ему: знаешь ли меня“,—отвечал: „знаю первенца сатаны“ (ibid.).
331 —
хом Святым идти в баню“ и когда апостол узнал о присутствии еретика, 54) „возмутившись, оставил баню“. При рассказе об этом Епифаний замечает, что все это случилось по особенному намерению Божию, „чтобы оставить нам на память урок истины, что одни—суть рабы Христовы, а другие сосуды лукавого и врата адовы“ и проч. Какой же урок? Епифаний, как видно, не повторяет того урока, какой заключается в этом рассказе по мысли Иринея, и едва ли уже это случайно. По всей видимости, Епифаний действительно понимает уже несколько иначе принцип необщения во внешней жизни с теми, кто враждебен был церкви, чем понимал это, на основании примеров апостола Иоанна и мученика Поликарпа, его видимый первоисточник—Ириней: ибо известна большая строгость Епифания ко всем заблуждениям.
С приближением к эпохе IV—V веков число фактов, могущих давать указания о последствиях отлучения в смысле противоположном суждениям апост. Постановлений, по-видимому, увеличивается. Так—обыкновенно указывают на суждения Василия Великого по поводу известных уже нам случаев отлучения. Когда св. Афанасий александрийский уведомил св. Василия об отлучении пм жестокого и распутного военачальника, то Василий В. ответил, что „и в каппадокийской церкви все признают его (отлученного) достойным омерзения и не хотят иметь с ним общения ни в воде, ни в огне, ни в крове“ 56). Но поступили ли так и в том месте (в Ливии), где находился сам отлученный? Гарнье, комментируя это место из письма св. Василия, выражает догадку, что в Ливии этого не было сделано, т.-е. св. Афанасий александрийский не провозгласил, как последствие отлучения, лишение
54) Но Епифанию Евиона, а не Керинфа, как передает Ириней. Бароний по поводу этого замечает: „что бы не сказать, что Епифаний ошибается, пристойно будет предположить, что и тот и другой (Евион и Керинф) находились в бане вместе, и что между ними существовала великая приязнь, обуславливавшаяся сходством их нечестия“ и проч. Бароний, таким образом, предполагает, что Епифаний для своего рассказа имел источник независимый от Иринея. (Bingh. VII, 99).
55) Творения Епифания рус. пер. II, 252,
56) Творения ч. VI, 161-2.
— 332 —
общения с отлученным в воде, огне и проч.; но не провозгласил только потому, что не мог этого сделать, так как отлученного, как лицо официальное, в Ливии никто не мог бы избегать в отношениях нерелигиозных. „Но если бы этот отлученный явился в качестве частного лица в Каппадокию, то заслуженно подпал бы под эти знаки бесславия“; и в параллель этому Гарнье указывает на другой случай, где такого неудобства налагать знаки бесславия не было и они были действительно наложены: разумеются выражения Василия Великого по известному нам случаю отлучения за похищение девицы и по случаю отлучения еще одного „негодного человека“. В самом деле, отлучая, как мы знаем, не только похитителя, но и все селение, Василий Великий прибавляет: „отлучи от общения в молитвах, чтобы все научились похитителя, как змею или другого какого зверя, почитая общим врагом, гнать от себя“ и т. д. В другом месте: „чтобы не оскверниться вам общением во грехах... пусть будет отлучен и от всякого иного общения со святыми“. „Может быть и очувствуется он, когда все будут его обегать“. И еще: „пусть будет объявлено, что не должно принимать его ни в какое общение но делам житейским“ 57). Суждения Василия Великого, конечно, противоположны суждениям апостольских Постановлений и должны представляться в высшей степени благоприятными для теории гражданских последствий отлучения в смысле средневековом. На греческом востоке в следующем веке встречаем еще тоже самое, и у того же Синезия. Именно — Синезий обязывает „не здороваться с отлученным“. Если бы кто презрел это отлучение, тому Синезий угрожает, что он презрителю „не подаст руки, не будет есть с ним за одной трапезой, будет ли таковой левит, пресвитер или епископ“. Такого же отношения к отлученному, по-видимому, держался и Кирилл александрийский. По крайней мере в письме к Несторию он выражался, что „плотское расположение“, т.-е. естественное расположение к человеку, должно быть соразмеряемо с высшими интере-
57) Basilii орр. ed, Garnier t. III p. 228. 619. Ср. рус. пер. ч. VII, стр. 268, 285-6.
— 333 —
сами и потому, по его мнению, добрые отношения к человеку не должны останавливать преследования в человеке еретика 58). Собор Константинопольский, отчуждая от церкви Евтихия, прибавляет: „пусть все, которые после этого будут разговаривать или сходиться с ним, знают, что и сами они повинны будут эпитимии, как не уклоняющиеся беседы с ним“. Это, конечно, теоретические положения, но их дополняют и рассказы о действительных случаях. Например: мылся в бане один еретический епископ, известный Евномий. Видя, что другие из прибывших в баню не идут в одну с ним ванну и потому думая, что не идут оттого, что не хотят стеснять его по уважению к его епископскому сану,—Евномий, человек, по-видимому, кроткий, чтобы самому не стеснять других—поскорее ушел из бани. Но дело было не в этом. Лишь только он ушел, оставшиеся в бане православные поспешили выпустить воду, как оскверненную еретическим прикосновением, вымыли ванну и согрели себе повой воды. —Это, очевидно, далеко отличалось от слов Иринея, который из примера апостола относительно мытья в бане не вывел, как мы знаем, никакой теории осквернения водой. У церковных историков существуют и другие рассказы, показывающие, что, по крайней мере, в среде простого народа в эпоху, когда высказывались приведенные суждения, обращалась не только идея необходимости общежительного разъединения со внешними церкви, —идея, в основе которой лежала все-таки та мысль, что не что-либо физическое в отлученных делает их недостойными общения верных, но чисто нравственные их свойства; но и эта идея возможности, так сказать, вещного и посредственного осквернения при общении с отлученными, т.-е. что даже неодушевленные предметы (вода—выше, другие предметы—см. у Созомена) от употребления их внешними делаются запрещенными для употребления их верными. А это во всяком случае указывает на то, что идея необщения, хотя быть может не в столь крайней форме, существовала: не мог же и про-
58) Деяния всел. соборов. I, 388—9.
— 334 —
стой народ сам создать без всякой основы такие понятия об отношении ко внешним.
Но в особенности важною для истории учения об отношении к отлученным представляется, собственно для запада, полемика Августина по вопросу о терпимости в церкви членов несовершенных—„плевел“, применительно к выражению Св. Писания.
Как известно, донатисты думали, что „плевел“, т. е. видимо согрешивших, терпеть в церкви не должно; иначе церковь теряет свойственную ей святость. Августин доказывал, что, напротив, „плевелы предпочтительнее терпеть до жатвы“, т.-е. до наступления всеобщего суда Божия, и что от плевел удаляться должно, но не внешним образом, а в сердце. Но и Августину представлялся вопрос: а если кто-нибудь скажет так: (если должно удаляться только в сердце, то) „каким же образом мы тогда можем исполнить повеления апостола, запрещающего с таковым вкушать даже пищу?“ Из слов Августина видно, что слова апостола в 1 посл. Коринф. V, 10—11, сторонники строгих отношений к плевелам толковали таким образом: в ст. 10 апостол не запрещает общения с „блудниками мира сего“ (с язычниками), желая, конечно, чтобы христиане отвращались таковых в сердце, т.-е. в чувстве, в расположении; но в ст. 11 апостол ясно дает разуметь, что—„со всяким злым христианином“ (что и есть плевелы) мы не должны иметь и такого общения, какое в жизни имеем со внешними (pagani). Что же касается до отделения в сердце, которое, по-видимому, иные вместе с Августином считали достаточной степенью необщения с плевелами, то такое отделение, говорили противники Августина,—„мы должны наблюдать по отношению и ко всякому порочному человеку, будет ли то изверженный из церкви, иудей или язычник 59). Ясно, таким образом, что противники Августина не довольствовались теорией необщения в сердце и обосновывали это недовольство на заповеди апостольской.—Что же, однако, отвечал на это Августин? Августин не оспаривал принципиально самого возражения, т.-е. не утверждал, напри-
59) Орр. edit. Paris 1837, t. IX, p. 131.
— 335 —
мер, что заповедь апостола неправильно понимается, но доказывал, что церковь должна иногда поступаться и строгостью утвердившихся правил ради интересов церковного мира. Поэтому достаточно и удаления от плевел в одних только делах их (in sola cum eis voluntatis et cordis separatione), если есть опасность схизмы от поступления по правилам. Когда же таковой опасности нет, тогда— „пусть бодрствует строгость дисциплины, в которой (дисциплине) настолько же важно исправление нечестия, насколько приятно сохранение любви; тогда (когда нет этой опасности), строгость служит более в пользу исправляющему, нежели преступному противнику; тогда спасительно и удержаться от общения с ним, не вкушать с ним и пищи, но не по побуждению вражды, а по побуждению любви братской“. „И сколь много добрых христиан — говорит Августин —которые не усомнятся поступить так с теми, соприкосновение с коими по причине их неисправимости, повредит людям, о коих они (такие добрые христиане) имеют особенное попечение!“—Но по Августину и этой готовностью многих добрых христиан, увлекаться не нужно для того, чтобы следовать принципу строгости, а нетерпимости: ибо—говорит Августин—„сколь легко низвести (виновного) со степени клира, исключит из числа тех, коих питает церковь, или даже и из самого общества мирян и приказать, чтобы и все прочие не вкушали с ним даже пищи“, легко когда виновный— один: „па столько же не легко исключить и отделить от сообщества с добрыми—тогда, когда виновных в каком-либо деянии—множество“ 60).
Важность этих рассуждений Августина заключается в том, что из них видно: а) у противников Августина мысль об извержении из церкви плевел соединялась с мыслью о непозволительности с ними внешнего общения, даже (etiam) до необщения в пище. Такое понимание необщения, как из предшествующего видно, было даже аргументом за невозможность терпимости в церкви плевел: плевелы, представилось, уже потому должны быть вне церкви, что, будь они внутри церкви, к ним нельзя
60) Ibid. р. 135 и др.
336 —
было бы соблюсти должных отношений. Как, в самом деле, уклониться от внешнего сообщества с теми, с кем продолжает связывать сообщество установлений церковных? Едва ли, опять заметим, противники Августина сами создали ad hoc такой образ понимания необщения, потому что—б) тех же мнений был и сам Августин: принцип справедлив, по его взгляду, но только приложение его должно подчиняться соображениям возможности или невозможности его выполнения и уступать пред возможностью большего вреда для церкви от строгости соблюдения правила, нежели какой может произойти от его нарушения.
Если всем приведенным мнениям давать значение свидетельств воззрения церкви, то должно будет признать, что принцип необщения с отлученными во внешней жизни — существовал в христианской церкви, и следовательно—мероприятия церковной дисциплины простирались и на отношения вне-церковные. — Итак, что же должно заключить об общем духе воззрений церкви на этот предмет? Мы думаем, что возводить необщение во внешней жизни в общий закон церкви по отношению к отлученным — невозможно даже и в виду всего вышеизложенного,— ибо существует много иных фактов, которые представляли бы собой ничем необъяснимое противоречие церкви самой себе, если бы эти иные факты не освещали несколько иначе, чем с первого раза представляется, и те факты, которые указываются сторонниками теории противоположной.
Нечего и говорить, что древнейшее из свидетельств, Тертуллиана является только тогда важным свидетельством, когда слововыражение употребляемого текста, хотя бы и одним словом (cum), бывает дополняемо. При таком способе обращения с памятниками, как известно, можно мнимо уяснить многое и более важное. Поэтому то, может быть, не все пользуются этим свидетельством. Пусть и папа Стефан поступил так, как рассказывает о нем Фирмилиан 61). Но не ослабляется ли это, уже
61) Епископ Кесарии каппадокийской, следов., Василий Великий был одним из его преемников.
— 337 —
достоверное, свидетельство о действительном факте той жестокой иронией, почти сарказмом, с которым относился к поведению Стефана сам Фирмилиан? Вот текст письма Фирмилиана в том месте, где заключается известие о папе Стефане: „как прилежно исполнил Стефан спасительные повеления апостола (имеется в виду Еф. IV, 1—6), поставляя на первом месте смиренномудрие и кротость! Ибо что смиреннее и кротче того, что со столькими епископами со всей вселенной стал разногласить, особым родом раздора нарушая мир с каждым, то с восточными, то с вами—полуденными, легатов которых он принял так терпимо и кротко, что не допустил их даже и налицо, а при этом—памятуя еще о снисхождении (dilectionis) и любви!—повелел всему братству, чтобы не принимали их в дом“ и проч.; „и значит ли это, что он—сохранил единение духа в союзе мира, когда отделился от единения любви и братьям сделал себя во всем чуждым, и когда, вопреки таинству и вере, разногласию противопоставил ярость?“ 62). Дюпень по поводу этих слов замечает: „видишь, что Фирмилиан лишение крова и гостеприимства по считал в собственном смысле последствием отлучения“ 63).—Если, далее, Ириней и Епифаний в своих рассказах имеют в виду один и тот же факт, и если допустить, что Епифаний готов был сделать такой же вывод из действий ап. Иоанна и муч. Поликарпа, какой подходил бы к указанному выше случаю с Евномием, и если этот вывод принять в качестве канонического мнения, то это будет значить, что мы в собственном смысле выбираем мнения: ибо тогда почему же должно будет следовать (или правильнее—угадывать) мысли Епифания, а не Иринея—лица не менее почтенного в церковном предании? А мы между тем видели, что Ириней никакого иного урока здесь в действиях ап. Иоанна,
62) Migne, ser. lat. III. p. 1174—5. „Подобную же иронию употребляет Лактанций, когда говорит о жестокости Максимиана относительно тех обманщиков, которых он приказал собрать всех вместе, вывезти на кораблях в море и там—утопить. Лактанций говорит: „Максимиан был столь сострадателен, что заботился, чтобы никто в его царствование не был несчастен". Примечание Вамозия, ibid.
63) De antiqua eccles. discipl. p. 294.
— 338 —
кроме „осторожности“, не видел. А от такой осторожности, и при том самим Иринеем признаваемой как крайняя ее степень („даже в слове“), до отношения как к зверю—очень еще далеко.—Но теория отношений к отлученному, как к зверю, или по крайней мере, как к зараженному ядом ехидны, по-видимому, неоспоримо выражается уже у Василия Великого; и потому его словами обыкновенно с такой охотой пользуются все желающие такого отношения. И отношение Василия Великого к этому вопросу тем важно, что, выраженное в его письмах, известное нам суждение, по-видимому, согласуется и с другими его суждениями: так, в известных „нравственных правилах“ он учит, что „должно удаляться тех, которые не приемлют Евангельской проповеди и не пользоваться их благодеяниями даже в необходимых потребностях тела 64);—что как мотив отлучения „от всякого иного общения“ (кроме молитв, что, по-видимому, равносильно выражению следующего письма: „общение по делам житейским“)—Василий Великий поставляет: „чтобы но оскверниться вам общением в грехах“, т. с.— как мы замечали—мысль явно противоположная мысли, выраженной в Постановлениях апостольских, о том, что общение в жизни не означает еще непременно и общения во грехах. Но, спрашивается, есть ли в выражениях Василия Великого достаточные данные, чтобы утверждать, что—полное разобщение с отлученными в делах житейских, помысли Василия Великого, только потому должно следовать, что состоялось самое отлучение, и можно ли думать, что если бы отлучения не было, то Василий Великий но посоветовал бы и этого разобщения? Нам думается, что причиной необходимости внешнего разобщения для Василия Великого послужил не один факт отлучения: здесь было только совпадение двух обстоятельств, из коих и одно без другого могло бы вызвать такой же совет со стороны Василия Великого. В самом деле—наглый изверг носил имя христианина. Это имело весьма важное значение и тем более, что при вступлении в церковь требовалось, как мы знаем, оставление всех профессий, в которых чело-
64) Творения. ІII, 474.
339 —
век мог быть в двусмысленном положении пред требованиями любви христианской; дисциплина же христианская тогда не оставалась только в букве Кононов и, что еще важнее, христиане сохраняли, так сказать, корпоративный дух, заставляющий каждого все нехорошее в каждом отдельном сочлене—как бы переносить на себя в качестве пассивного соучастника в делах другого 65). Неудивительно поэтому, что с таким отлученным никто не хотел иметь общения ни в воде, ни в огне и проч. Это было просто выражением глубоко возмущенного христианского чувства, которое не могло мириться с возможностью систематических злодеяний для человека, носившего имя христианина. Такого отлученного можно было удаляться не как человека, на которого пала церковная кара, а как человека, внушавшего отвращение своими поступками, помимо преследования со стороны церковной власти. В числе причин отлучения, как мы знаем, могли быть как специально церковные (теоретическое отвержение основ христианства, нарушение специальных постановлений церкви), так и общие преступления (убийство, насилие, притеснение). В последнем случае в христианском обществе отвращение к преступлению могло замечаться ранее, чем наступила даже кара церковного закона. Ужели же церковной власти нужно было запрещать обнаружение в среде ее членов чувства отвращения ко злу, сколь бы ни было обязательно снисхождение к впадшему в грех?... Этим, далее, нам представляется вероятным, должно объяснить и те жесткие выражения, которые Василий Великий употребил об отлученном, когда велел гнать его, как „змею или зверя“: зверем таковой в глазах Василия Великого стал не после отлучения, а еще до отлучения, потому что „на-
65) Несколько ранее, как известно, изгнание людей порочных и преступных из среды христианского общества служило даже одним из аргументов политических апологий за христианство. Если апологеты в том факте, что христиане не терпят в среде своей убийц, воров, прелюбодеев,—видели право на терпимость к христианству, то не удивительно, что и теперь, когда церковь была свободна во всем, те же понятия имели свою силу и выражались в необщении с подобными людьми,—дабы все еще существовавшие враги внешние не могли покивать глазами на состав и внутренний распорядки христианского общества.
340 —
рушал законы общежития“, да и но тогда ли нравственность христианского общества стала менее строга, когда в таких деяниях, за какие отлучал Василий Великий, перестали видеть зверонравие и стали ограничиваться тем, что предоставляли отлученному раскаяться, без всякого активного отношения к нему христианской общины, которое видно из писаний Василия Великого? 66)—Таким образом, во первых, то, что христианское общество к иным отлученным равнодушно и не могло быть по самому существу вины их отлучения, и было бы даже жаль, если бы случалось иначе, так как известно, что безразличие в обществе к людям зла и порока служит опасным признаком в нравственном состоянии общества; а, во вторых, то, что в случаях отлучения, известных нам из практики Василия Великого, разобщение во внешней жизни видимо следует не по свойству отлучения, а по свойству деяния, послужившего виной отлучения,—возлагает на исследователя обязанность — не считать Василия Великого за основателя или последователя теории, по которой гражданские или, правильнее, естественные право лишения следуют за отлучением ipso facto, как тень за телом. И вообще, как нечто только случайное или условное, разобщение с отлученным, конечно, могло быть, но—как разобщение со злым, а не как с отлученным. Было, конечно, и желание—не подействует ли стыд и страх лишения доброго имени (в особенности, когда отлученный не упорствовал в своем заблуждении или в своих противонравственных действиях, а был только падшим) 67) в качестве средства могущего возвратить в лоно церкви (ср. выражение Василия Великого); но это побуждение едва ли всегда имело силу. Василий Великий, например, видимо не думает, чтобы ливиец, отлученный Афанасием, устрашился лишения общения в огне, воде и, наоборот, выражает надежду в другом случае („может быть и очувствуется“),
66) Отлучение в таком виде, по рассказам, существует теперь у некоторых из сектаторов.
67) Срав. выше характерное изображение Гиббоном нравственного положения того, кто подвергался отлучению. И это изображение нельзя будет признать ложным, припомнив хотя бы то, что отторгавшимся от церкви в язычество приходилось снова «росить доступа в церковь.
— 341
когда отлучает просто какого-то негодного человека. Может быть эта-то надежна вместе с заботою об „осторожности“, пример которой Ириней усматривал в поступках ап. Иоанна и мученика Поликарпа, вызывала, особенно в важных случаях, предостережение—„не разговаривать“ с отлученными. Но это никак не обозначало общего закона, подобно как таковым было —не молиться с отлученным; еще менее это мыслилось, как составная часть отличительного акта (ибо если бы это было необходимой частью, то защитникам известной теории не приходилось бы с таким усилием выводить мнимый закон из такого ограниченного количества фактов: тогда это было бы видно в любой отлучительной сентенции), и еще менее—чтобы предостережение означало как бы непризнание в отлученном человеческих свойств. Так, по-видимому, и обставленная всеми аргументами мысль Августина о необщении („преследование отлученного страхом и стыдом“) однако у него же получает и ограничение: прервание отношений представляется как „лишение братского общения“ (separatio de fraterna segregatione); по это лишение, по Августину, „не отделяет однако же отлученного от братской любви“. Было ли бы однако же согласно с братскою любовию, если бы следствия отлучения поставлены были так, что — все были бы немы для отлученного, — когда все бежали бы от него, когда для него христианское население было бы только пустыней? Наконец, должно сказать, что и характерный пример Синезия мало уклоняется от действия силы высказанных уже соображений. Снисходительный ко многим другим, с кем мы встречаемся б истории древней церкви, и из незаслуживающих такого снисхождения, Гиббон однако же признает, что отлученный Синезием Андроник—был „чудовищем Ливии“. Стало быть, удивительного ничего не было бы, если бы он возбудил к себе отвращение даже и без предупреждения со стороны отлучавшего о том, что он достоин всякого отвращения. Если какая сторона особенно заслуживает здесь внимания, то — случай нечастого распространения отлучения на лицо облеченное властью, что, как мы имели случай заметить, есть обстоятельство частью возвышающее свойства церковной дисциплины, частью — послужившее неудобным
342 —
для гражданской жизни прецедентом на последующее время.
Но если так, если последствия отлучения не делали сами по себе человека „дикой птицей или зверем“, то почему же позднее апостольских Постановлений мы встречаем как бы недомолвку относительно столь важного предмета, т. е. относительно того, как должны верующие относиться к отлученным: понимать ли им, например, запрещение разговаривать как только предохранительную меру, или—как карательную меру, составляющую необходимую часть отлучения?—В ответ на это должно сказать, что собственно для научного решения такого вопроса достаточно одной отрицательной посылки, каковой служит молчание канонов общего характера (а не частных сентенций, вызванных специальными случаями) о том, что в число последствий не входит разлучение в жилище, пище, разговорах и т. п. Мы видели, что всего точнее, из фактов общего церковного законодательства, отношение к отлученному определяют правила апост. 10 -11 и антиох. 2-е. А здесь нет и намека на то, что для людей пребывающих в единении с церковью обязательно прервание внерелигиозных отношений с отлученными, даже Вальсамон, обыкновенно наклонный скорее увеличивать в подобных случаях строгость правил, нежели смягчать, и тот прибавляет, что „разговаривать с отлученными не воспрещается“. Видели мы также, что отлучительные сентенции Сардикийского собора, собора Гангрского 68), все трактуют но о частных отношениях верующих, а только об отношениях церковных. Но если этого умолчания недостаточно, то и для распространения смысла закона нужно, чтобы закон в распространенном смысле по меньшей мере не противоречил другим ясно выраженным законам. Распространение же в указанном смысле ясно противоречить одному, правда не канону в специальном смысле слова, но закону христианской жизни: вносить в общества человеческие не войну,
68) Так называемые анафематизмы Гангрского собора мы относим к сентенциям частного характера потому, что они вызваны собственно частным случаем — заблуждением евстафиан.
— 343 -
но мир. Но это был уже известный христианскому обществу принцип; он всюду подразумевался, и—вот одна из причин, как можно полагать, этой кажущейся недомолвки по предмету нас занимающему в канонах.— Можно, конечно, спорить (и это было так!) и о том, что служит выражением любви к ближнему и что составляет в действительности только небрежение и о себе и о ближнем,—но на это мы уже имеем ясный ответ в учении об отношении к так назыв. внешним, каковыми, как мы знаем, мыслились отлученные,—мыслились как люди более недостойные пребывания в церкви, как люди вне ее ограды и т. п. Мы не будем касаться здесь этого (учения) в его подробностях. Однако и при самом легком соприкосновении с вопросом об отношении ко внешним нельзя не прийти к мысли, что мерою отношений ко внешним вообще служило тоже самое, что апостольские Постановления полагали в меру отношений специально к отлученным 69). Златоуст, например, как общий принцип отношений ко внешним в делах нерелигиозных считает: свобода отношений, только бы отношения не вредили религия,— что—нельзя не согласиться— даст совершенно иное освещение всем фактам и правилам, которые обыкновенно приводятся для основания суждений о последствиях отлучения. Мы уже знаем, что в одном месте Златоуст, на основании слов апостола в 1-м послан. Коринф. V, 9—11, считает возможным не прерывать сношений не только с внешними вообще, но даже и с порочными из внешних,—вполне разделяя мысль апостола, что при иных началах общественной жизни христианам пришлось бы искать иной вселенной. Если посмотреть другие места творений Златоуста, то должное поведение в отношении к людям чуждым церкви им представляется в том же виде, как и в Постанов. апостольских. Златоуст об отношении, хотя бы к ано-
69) Признаком этой одинаковости меры вообще служит даже то обстоятельство, что когда людей, заслуживавших отлучение и на самом деле отлучаемых стало оказываться много, то было установлено, что в случае желания таковых снова вступить в церковь они проходили те же самые испытательные степени, как и только что ищущие вступления в церковь.
— 344
меям, говорит: „кто не будет оплакивать их бессмысленность и крайнее безумие?“ Тем не менее однако же— „не будем сердиться на них и обращаться к ним с гневом, но кротко будем беседовать с ними, ибо нет ничего сильнее кротости и скромности!“ О том, чтобы бегать таковых—не может быть следоват. и речи. Златоуст ведет речь даже о дружбе с подобными людьми и говорит следующее: „если дружба с ними вредит и влечет к участию в нечестии, то, хотя бы то были родители, удались от них; хотя бы то был правый глаз исторгни его (Мф. V, 29)“, т. е. по объяснению этих слов Златоустом, „хотя бы кто для тебя был так любезен, как правый глаз,—вырви его и расторгни свою дружбу с ним“ 70). Вообще, „если дружба причиняет вред, то будем избегать их (аномеев) и удаляться; а если друзья нисколько не вредят в отношении к благочестию—то будем сами привязывать и привлекать их к себе“ 71). Правда, Златоуст не советовал и совсем безразлично сноситься с людьми внешними для церкви. Но единственной мерою для ограничения безразличного отношения ко внешним служит степень возможного вреда для людей слабых в ведении 72) и эта степень должна определять меру осторожности в сношениях. Отношения к тем же аномеям Златоуст, например, разграничивает так: „тем, которые более сильны, непреклонны и не могут получить никакого вреда от сообщения с больными (по Златоусту, заблуждающиеся аномеи—больные), тем, я говорю, не должно отступать от них; а кто более слаб—тот пусть избегает их сообщества, пусть удаляется разговоров с ними, чтобы дружественное отношение не послужило поводом к нечестию“. „Так поступал и Павел: сам обращался с
70) Исторжение соблазняющего правого глаза Златоуст изъясняет так: „Господь (здесь) говорит не о теле, ибо как это может быть? Если бы он говорил о природе тела, то вина (соблазна со стороны тела) падала бы на Создателя природы». Притом „надобно было исторгнуть не один глаз: ибо если останется левый, то он также будет соблазнять владеющего им".
71) Слова на раз. случ. т. I, 369 и дал.
72) Ibid, стр. 391—2.
— 345 —
больными, а учеников и более слабых отклонял“ (1 Кор. 9, 20—21, 15. 33). Или: „если врач приходит к больному, то часто приносит пользу и ему, и самому себе, а слабейший, обращаясь с больными, вредит и самому себе, и больному: больному он не может доставить никакой пользы, а сам себе он вредит—заражаясь болезнью, чему подвергаются взирающие на больных глазами, навлекая на себя несколько их болезни,—то же испытывают и обращающиеся с богохульниками, если сами они слабы, навлекая на себя великую часть нечестия. И так, чтобы нам не причинить себе вреда—будем избегать общения с ними, моля Бога избавить их от заблуждения“... Конечно, легко усмотреть возможность вреда даже в одном физическом соприкосновении со внешним и слова Златоуста обратить как раз в пользу противоположной мысли. Но кажется никак уже нельзя обратить их в пользу той мысли, что неверный церкви для верного ей должен быть тоже, что зверь, по отношению к которому необязательны законы собственно человеческого общежития, самая возможность которого мыслима при наблюдении иных отношений, чем какие Бог дозволил к зверям, поставив однако же в нравственно-доброе дело и милование скотов... В древней церкви высказывалось и опасение того, чтобы на христианское общество но пало подозрение именно в отрицании общечеловеческих законов общежития не только в применении к извергнутым из церкви, но и вообще к иноверующим. И это должно быть совершенно понятно: для противников церкви противное этому было бы важным доказательством противообщественных стремлений, скрывающихся внутри церкви. Там, где дело шло о лучшей стороне законов общежития, именно—сострадании, милосердии,—там не разбирали, кому оказать сострадание, помощь и т. п.—верному, иди отлученному, или даже совсем язычнику. Известно, например, что в IV в. император Юлиан к досаде своей должен был сознаться, что христиане во время голода помогали хлебом и язычникам 73). В V веке, когда
73) Созомен Истор. 350. II „Юлиан, замечает Гиббон, по-видимому был оскорблен тем, что милосердие христиан помогало не только их собственным, но и языческим беднякам“. T. II. 66.
346 —
одному из преемников Златоуста по константинопольской кафедре—Аттику кто-то доставил несколько денег для раздачи неимущим во время голода, то, отдавая деньги доверенному пресвитеру для соответствующего употребления, епископ этот предупреждал пресвитера: „когда будешь давать, не обращай внимание на вероисповедание, но имей в виду только одно—напитать алчущих, не разбирая, по нашему ли они мыслят“ 74). — Гиббон высказывает предположение, что милосердие христиан „весьма существенно содействовало распространению христианства“. „Перспектива немедленной материальной помощи и покровительства в будущем—говорит Гиббон—привлекала в гостеприимное лоно церкви многих из тех несчастных существ, которые вследствие общего к пим равнодушия сделались бы жертвами нужды, болезни и старости“. Но, ведь, и церковь принимала свои меры к предупреждению того, чтобы в ее лоно не вступали люди имея в виду не веру, а единственно ее гостеприимство, т. е. братские, истинно-человеческие отношения к прозелитам и единоверцам 75).
74) Сократ. Истор. русск. перев. стр. 545.
75) Ср. те вопросные пункты, которые были задаваемы христианским прозелитам, когда они заявляли о своем желании принять крещение— наше исследование о свободе совести, Москва 1883, стр. 79.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
