13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Питирим (Нечаев), архиепископ
Питирим (Нечаев), архиеп. О Блаженном Августине
Файл в формате pdf взят на сайте http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
Правообладателем разрешена публикация только на нашем сайте.
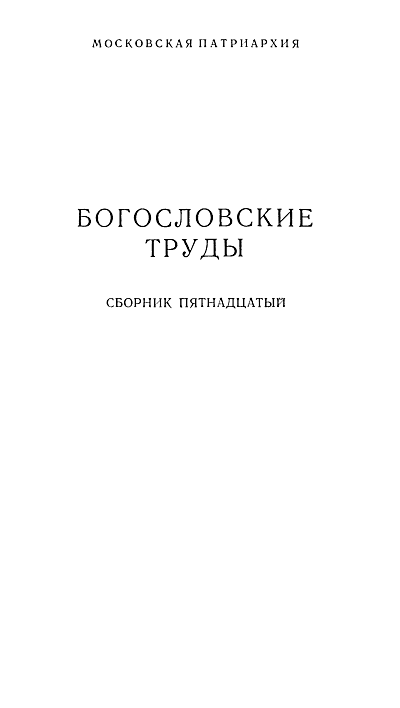
Разбивка страниц статьи соответствует оригиналу.
ПИТИРИМ,
архиепископ Волоколамский
О БЛАЖЕННОМ АВГУСТИНЕ
I
Жизнь Блаженного Августина пришлась на тяжелое время. Давно миновала пора «римского мира»: внутри государства не прекращались неурядицы; императорский престол стал игрушкой солдатского своеволия и людского честолюбия. На Севере и на Западе поднимались варвары; с Востока грозило персидское царство, сильное своей организацией и войском. Войны требовали денег и денег, налоги увеличивались вдвое и втрое на памяти одного поколения. Место свободной, вольно избранной деятельности занял принудительный труд людей, пожизненно прикрепленных к своей работе и должности. Единственным действительным средством управления людьми считается страх. Телесное наказание для римского гражданина в I—II вв. н. э. немыслимо; теперь декуриона, члена правящей верхушки в своем городе, можно высечь. Горе общине, навлекшей на себя гнев императорского чиновника; ее членов искалечат на дыбе и обратят в нищих. Уверенности в завтрашнем дне нет, нет ничего прочного и стойкого.
Сознавал ли этот мир, потрясенный в самых основах своих, что он доживает последние дни? Как будто нет. Надписи из Африки говорят о «Золотом веке, царящем всюду» (Année epigraphique, 1911, № 217), о «юности и силе римского имени» (J. М. Reynolds and J. В. Ward-Perkins. The inscriptions of Roman Tripolitian, p. 134, № 471). Пруденций писал, что долгая жизнь научила Рим презирать то, чему есть конец (Symmachum 2. 660). Но римское искусство уже не знает реалистического портрета: эти люди с застывшим взором, устремленным вверх, не видят того, что вокруг: они заняты своей внутренней жизнью. Претекстат, один из последних крупных сенаторов язычников, презрительно отмахивается от своих обычных титулов и говорит, как об «истинном благословении» о мистическом посвящении (CILVI. 1779). Амвросий приехал в Милан в качестве правителя — и стал епископом; Павлин, знатный и богатый человек, перед которым открывалась блестящая карьера, вдруг покинул Галлию и стал монахом в маленькой неизвестной Ноле. Христианство, которое представлялось его апологетам силой объединяющей и примиряющей, вызвало новые раздоры и смуты: старая религия враждовала с новой; в самом христианстве возникали ереси и расколы. Иероним писал о маленькой девочке, родившейся в ту пору: «в таком мире появилась на свет Пакатила. Несчастья окружали ее во время ее игр. Она научилась плакать раньше, чем смеяться...» (Hier. Ер. 128. 5).
Блаженный Августин родился 13 ноября 354 г. в Тагасте (ныне Сук-Арас в Алжире). Местность была цветущей; мальчик, подрастая, видел вокруг себя ту красоту дольнего мира, к которой был так восприимчив всю жизнь,— землю, возделанную руками человека: хлебные нивы, сады, масличные рощи,— и густые леса на горах, где укрывались «африканские звери», о которых мечтали устроители охот в амфитеатрах.
4
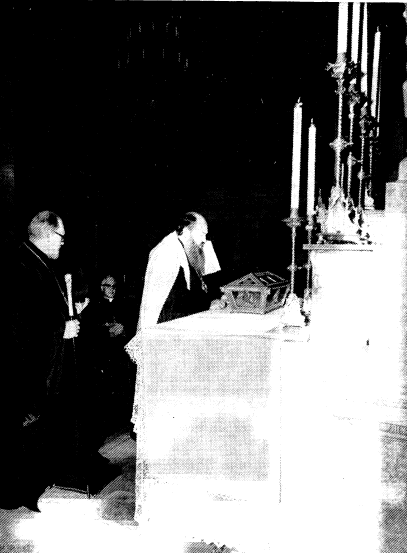
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим у мощей блаженного Августина во время посещения храма его имени в г. Павии, Италия, 16 октября 1975 года
«Блистательный совет Тагасты», как именует себя в надписях городская дума города (CILVIII. 5145, 5146, 5150), управлял городком небольшим и небогатым, который, однако, был для своей округи центром римской цивилизации. По намекам, разбросанным в «Исповеди», можно составить себе некоторое представление о жизни простого гражданина Тагасты: он знает всех в городе, и все горожане знают его; измены жене, имущественное положение, случаи, с ним приключившиеся, живо обсуждаются в домах и на улицах. Каждый несет на себе бремя забот, своих собственных и общегородских; дружеская болтовня и сплетни служат развлечением и отдыхом. Город как будто совершенно романизирован: латынь — не только язык официальных документов и надписей; скромные ремесленники, кое-как справляясь с падежами и глаголами, сочиняют себе латинские надгробия; на улицах и в домах звучит латинская речь, школа латинская. Латынь была родным языком для Августина. Латинскую цивилизацию приняли добровольно и от всего сердца. Но она оказалась не в силах переделать духовный облик этих новых римлян, унаследованный от длинного ряда берберских предков. Берберская кровь текла не только в жилах всех коренных жителей Тагасты, но и всех уроженцев Африки. Африка создала совершенно новый тип «интеллигента», своеобразно воспринявшего латинскую культуру и переработавшего ее «по-африкански» в соответствии с исконными национальными чертами. Латинский язык африканских авторов приобрел своеобразную, свою, окраску; он перегружен всякими ухищрениями ораторского искусства, цветист, ярок и порой утомителен; африканское христианство напряжено и взволновано, христианам Африки нужно общение с потусторонним миром, и они приводят себя в экстатическое состояние опьянением и танцами. «Числа и миры» не для этих людей: у них всё через меру, всё через край. Вергилий, ощущавший с исключительной остротой трагизм не только человеческой судьбы, но и судьбы всего земного, сдержан и осмотрителен в самой глубокой своей скорби: она не перечеркивает для него всего мира. Для Августина смерть его юного друга была крушением мира, и он выбрался из-под его обломков только благодаря неистребимой жизненной силе физически здоровой юности. Африканец целиком отдается тому, что его захватило, будет ли это искание истины или «любовь любви»; во время религиозных гонений эти люди сами ищут страданий и смерти, так что епископу Карфагенскому приходится сдерживать их пыл; религиозное рвение донатистов, доводившее их до самоубийства, граничит с опьянением и безумством. Покои и равновесие не для этих сердец; они всегда в напряжении, в борьбе: фигуры с Пергамского алтаря, а не с эллинских фризов. «Древний хаос» неизменно «шевелится» в африканской душе, и Августину удалось обуздать его только годами суровой монашеской дисциплины и строгим сознанием своей ответственности за тысячи и тысячи душ.
Семья, в которой он родился, была отнюдь не богата: Августин вспоминал, что члену городского совета, отцу его Патрицию, принадлежало только несколько небольших участков земли. Чтобы дать сыну высокое образование, Патриций и вся семья должны были урезывать себя в самом необходимом и ходить в обносках. Цену образованию в Тагасте знали: через него шел путь, выводивший человека из скудости и дремы провинциального городка на «белые дороги» почестей и богатства. «Я родился в деревне от бедного и необразованного отца; занятия литературой и науками дали мне возможность жить жизнью знатного человека»,— писал современник Августина и тоже уроженец Африки Аврелий Виктор (De Caesar. 20. 5). Патриций, язычник, и его жена, Моника, ревностная христианка, во многом между собой несогласные, единодушно решили послать сына в Карфагенскую риторскую
5
школу, но мотивам, правда, разным: у отца были о сыне «совершенно пустые мысли»: он мечтал о его блестящей карьере; мать рассчитывала, что образование приведет Августина к христианству.
У Августина не было никакой душевной связи с отцом: для рассказа о смерти друга у него нашлись слова, которые через полторы тысячи лет ударяют по сердцу. О смерти отца он упомянул между прочим, в кратком примечании. Крепкая неослабная любовь с обеих сторон связывала сына с матерью.
Моника была женщиной незаурядной. Она сознательно держалась в тени, но незаметно и неслышно управляла всем домом. Ее здравый смысл и житейский такт помогли ей установить в семье лад и склад, поражавший всех кумушек Тагасты. Она умела ждать, и шла к своей цели неторопливо, но неуклонно. Мужа, человека совершенно равнодушного к религии, «не имевшего о Боге никаких мыслей» (II, 8), она в конце концов привела к христианству. Сама она, дочь христианской семьи, была убежденной христианкой, строго соблюдала обычаи африканской Церкви (пост по субботам, долгие всенощные богослужения на могилах мучеников), верила, как и все вокруг, в таинственные голоса и откровения, посылаемые в снах. Эта мистическая настроенность прекрасно уживалась с трезвым учетом житейских требований. Решение Патриция отправить Августина в Карфаген было живо поддержано Моникой (а, может быть, незаметно и подсказано ею); она настояла на разрыве Августина с женщиной, с которой он прожил пятнадцать лет, от которой имел сына и к которой был крепко привязан. Этот разрыв обошелся ему дорого, но Моника прекрасно понимала, что карьере сына существенно поможет законный брак с девушкой из богатой и знатной семьи. Августин послушался. Ему, видимо, было трудно перечить этой настойчивой, требовательной и властной любви, от которой иногда бывало трудно дышать: сбежал ведь он уже взрослым, самостоятельным человеком, тайком от матери в Рим. Независим он был в своих духовных исканиях. Возможно, что неутихающая тревога матери, ее молитва и слезы о нем. еретике и скептике, в какой-то мере содействовали его возвращению в Церковь, но не следует преувеличивать ее влияния, как это делает большинство западных ученых. Августин в своих исканиях истины шел собственной дорогой: гнев Моники, выгнавшей его, манихея, из родного дома, не отвратил его от манихейства; не из послушания матери, а долгим и кружным, своим путем пришел он к Церкви.
Родители дали Августину наилучшее для того времени образование. Он прошел полный курс его — от начальной школы в Тагасте до «университета» — риторской школы в Карфагене.
Риторская школа сейчас не в чести ни в нашей науке, ни в западной. Недостатки ее слишком очевидны, чтобы ее можно было защищать в целом. Образование, которое она давала, с нашей точки зрения, крайне скудно: ни точных наук, ни естествознания, ни истории — только знакомство с классической литературой и то весьма урезанное: Вергилий, Цицерон, Саллюстий, Теренций — вот все авторы, которых Августин читал в школе. Учитель комментировал разбираемый на уроке текст, обращая главное внимание на его литературные достоинства и недостатки, и вплетал в этот комментарий случайные и разрозненные сведения, нужные для понимания текста. Питомец риторской школы не выносил из нее настоящего солидного образования. Она давала ему другое, и здесь заслуга ее неоспорима: она учила умению обращаться со словом, искусству использовать его вес, его силу. Для хорошего выученика этой школы язык становился богатейшим инструментом, с помощью которого можно было передавать самые сложные переливы мысли и чувства. Если хозяином инструмента оказывался «фигляр презренный», то из его рук выходило изукрашенное
6
оттенками словесного мастерства, но безнадежно слабое слово, превосходное понятие о котором дают суазории и контраверсии в книге Сенеки-отца. Но когда инструмент оказывался в руках мыслителя и художника, то возникали произведения высокой красоты и большой силы. И Тацит, и Августин вышли из риторской школы.
Следуя школьному распорядку занятий, Августин должен был прочесть диалог Цицерона «Гортензий»; Цицерон, следуя Аристотелю, доказывал, что все земные блага ничего не стоят по сравнению с мудростью, и что достойна человека только жизнь, посвященная ее поискам. Через двадцать с лишним лет Августин помнил, какое впечатление на него произвела эта книга: «мне вдруг опротивели все пустые надежды, бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении» (III. 7). Только одним способом можно было успокоить это смятение: надо полюбить мудрость (diligerem), искать ее, найти (quaererem, adsequerer), овладеть ею, «прильнуть» к ней (tenerem, amplexerem), то есть проникнуться ею, жить по ее предписаниям. Как видим, «мудрость» (sapientia—philosophia) для Августина означала отнюдь не ту научную дисциплину, которую мы разумеем под именем философии. Это было практическое руководство, помогавшее человеку понять свое Божественное происхождение, победить тщеславные мечты и надежды на мирской успех и утвердиться на пути самоусовершенствования, который и приведет его к Богу. Одно смущало Августина: в «Гортензии» не было имени Христа, а «все произведения, где не было этого имени, пусть художественные, отделанные и полные истины, не захватывали меня целиком» (III. 8). Обращение к Библии в поисках мудрости было вполне естественно: Августин вырос в христианской среде (языческий нигилизм отца никакого влияния на него не имел), был в качестве катехумена введен в Церковь и не думал порывать с ней. Христианская интеллигенция IV в. воспринимала христианство именно как подлинную мудрость. На саркофагах этого времени Христос обычно представлен, как учитель, окруженный учениками, которых он поучает мудрости. «Здесь, здесь то, что все философы искали в течение всей своей жизни и не могли уследить, найти... Тот, кто хочет стать мудрым человеком, настоящим человеком, пусть слушает голос Господень» (Lactant. Divinae Inslitutiones III. 30).
Библия отпугнула Августина: блестящего ученика риторской школы коробил латинский язык ее переводов, библейские сказания казались «нелепостью» (VI. 6; ср. III. 42); рассказ о сотворении человека по образу и подобию Божию — оскорблением Божественного достоинства. Беседовал ли по этим вопросам Августин с представителями Церкви? — вряд ли; да беседа эта добрых результатов и не дала бы, Африканская Церковь была крайне консервативна, и верному христианину полагалось не задавать неуместных вопросов. Августин же гордился своим умом, полагался на него (см. рассказ о том, как он овладел «Категориями Аристотеля». IV. 28) и отнюдь не был склонен признавать «чудо, тайну и авторитет». И тут он попал (incidi и inciden обычно с оттенком случайности: «наткнулся», «неожиданно встретил»; в среду манихеев, которые в толковании Ветхого Завета были остроумны и сильны; возможно, что с разговоров на ветхозаветные темы и завязалось у Августина знакомство с манихеями.
Манихейство вышло не из Церкви; это не ересь, вроде арианства а самостоятельная религия. Основатель ее, Мани, много писал, но от его книг ничего не сохранилось. Источниками для ознакомления с манихейством служат: 1) произведения церковных писателей, в первую очередь, сочинения Блаженного Августина, направленные против манихеев; 2) историки-арабы IX—XII вв. и 3) фрагменты манихейских догматических текстов, найденных в 1900 г. около Турфана (китайский Туркестан) и в 1931 г. в Египте, в Фаюме. Весь этот богатый и разно-
7
образный материал ознакомил исследователей и с биографией Мани и с характером его учения.
Мани родился в 216 г. н. э. в Вавилонии в знатной семье, родст-венной царскому дому Арсакидов. В детстве и юности у него были какие-то видения, побудившие его основать новую религию. Он — странник и миссионер, блестящий проповедник, обошел со своей проповедью Иран, был, может быть, даже в Индии; своих учеников посылал далеко на Запад проповедовать его учение. Благосклонно принятый в молодости при дворе (он был в штабе Шапура I во время его похода против Рима в 242—244 гг.), он был замучен при Баграме I в 277 г. по наущению магов, обвинявших его в разрушении государственной религии персов. Его последователей стали жестоко преследовать; спасаясь от преследований, они распространили учение Мани далеко на Восток и на Запад. В IV в. манихеи были в Африке, в Италии, в Испании и Галлии. Христианство в то время вряд ли встречало более сильного противника.
Манихейство — не национальная религия, имеющая в виду определенную страну и народ, вроде иудаизма или магометанства: оно обращается ко всем странам и ко всем народам; оно обещает спасение всему человечеству путем высшего, совершенного знания. Знание это открывает душе ее истинную природу:
«Я познал мою душу и тело, которое тяготеет над ней.
Они были врагами с самого сотворения мира»
(C. R. С. Allberry. A Manichean Psalmbook, p. 56).
Душа — частица божества, потерявшаяся в материи, от которой и надлежит ее освободить.
«Я сбрасываю эту жалкую оболочку плоти,
Я заставляю чистые ноги моей души уверенно попирать ее»
(Op. cit., р. 99).
Путь спасения состоит в отрыве души от мира, в прогрессивном изничтожении в человеке всего материального. Эта сотериология вписана в общее учение о наличии двух начал в мире: Добра и Зла. Манихейский миф повествует о двух царствах: на севере находится область Добра и Света, и во главе ее стоит Отец Величия; на юге лежит царство мрака, которым управляет Царь Мрака. Оказавшись однажды на границе с областью Света, он замыслил победить ее и ею овладеть. Начинается борьба двух начал, светлого и темного. Отец Величия посылает в область мрака различные эманации своей светлой сущности, они смешиваются с частицами мрака и утрачивают свой первоначальный свет, но в то же время ослабляют и темные силы: возникает некое смешение обоих элементов, светлого и темного, доброго и злого — появляются мир и человек. Вечная борьба двух начал приведет к постепенному высвобождению светлых частиц, которые солнце и луна, эти «небесные корабли», переправляют в царство света, все время таким образом увеличивая его силу.
«Свет пойдет к свету...
Свет должен вернуться на свое место...
Мрак падет и не восстанет»
(Op. cit., р. 215).
Манихейство предлагает как бы цельную систему знаний, в которой всё объяснено: происхождение мира, природа души, цель человеческой жизни; даны этические предписания и обещана конечная победа добра. Не только объяснена причина зла, но и указан выход из его царства: отойти от этого мира, максимально отречься от всякой земной деятельности, от семьи, работы, собственности. Знаменательно, что императоры: римский Диоклетиан в 297 г. н. э. и китайский Лу-Лиу в 1166 г. распорядились сжечь книги Мани. В манихейство шли люди из самых различных слоев общества: богачи и бедняки, при-
8
дворная знать и простецы-ремесленники. К манихейству благоволили упрямые язычники, справедливо видевшие в нем угрозу христианству; среди манихеев были и язычники, внутренне давно порвавшие с язычеством, но не принявшие и библейских сказаний и отворачивавшиеся как от безумия от повествований Евангелия о крестной смерти и Воскресении Христа, и члены христианской Церкви, мечтавшие о ее преобразовании более высокими этическими требованиями (к таким принадлежал и Фавст из Милева).
Со свойственным ему умением «видеть себя» Августин точно объяснил причину своего перехода в манихейство. Ему нужно было оправдать и обосновать свою веру разумом, и манихеи как раз обещали «каждого, кто пожелает их слушать, привести к Богу и освободить от всех заблуждений, руководствуясь только одним разумом, отказываясь от авторитета и его угроз... (христианам) приказывают верить, а не рассуждать. Они же никого не принуждают к вере, а открывают истину по предварительном обсуждении ее. Кого не соблазнили бы подобные обещания? тем более юношу, жаждавшего истины... болтливого гордеца» (De util. cred. I. 2). «Гордец» решил, что «следует больше доверять тем, кто учит, а не тем, кто приказывает» (De beata vita I. 40).
Кроме того, манихеи удачно, как показалось тогда Августину, решали проблему зла. Он обладал исключительно острым восприятием вины, греха. Это свойство заставило его вспоминать о себе, ребенке, как о «маленьком мальчике и великом грешнике» (I. 19); оно превратило мелкую кражу скверных груш в тяжкое преступление — этот эпизод вплелся яркой нитью в ткань горьких мыслей о человеческой душе, бескорыстно любящей преступление,— оно нарисовало ему его же в юности, как некое чудовище испорченности и порока — портрет, отнюдь не соответствовавший, по свидетельству современников, действительности, ставший хрестоматийным в позднейшей церковноисторической литературе. Пусть все это излагается в «Исповеди» с точки зрения епископа Гиппонского, а не двадцатилегнего юнца, но нет сомнения, что этого юнца тревожили укоры совести и возмущало зло вокруг. Ему не нравилось собственное поведение — молился же он о даровании ему целомудрия — неизменно отвратительны были поступки «опрокидывателей» (eversores III. 6). Вопрос о том, откуда зло, «замучил меня в юности и, усталого, толкнул к еретикам»,— писал Августин в 388 г. (De lib. arb. I. 2, 4). Манихеи не только объясняли происхождение зла, они прощали виноватому вину и снимали ответственность за нее: грешит не человек, а те частицы злого начала, которые в нем есть: «мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мной и в то же время мною не было» (V. 18).
Августин увлекся манихейством: он водил дружбу, вероятно, с видными манихеями, понимавшими, какое приобретение для них этот юноша, и она, видимо, ему льстила: «эта дружба, как цепь, много раз обвилась вокруг моей шеи»,— вспоминал Августин (De duab. anim., 9. 11); он прочел «груды толстых манихейских книг» (3. 10), проповедовал манихейство. Человек горячего и нежного сердца, обладавший редким даром к дружбе без износу, он обратил в свою новую веру ближайших друзей: того безымянного юношу, смерть которого заставила его бежать из родной Тагасты, Алиппя, своего покровителя Романиана. Были и другие: Августин вспоминал о «пагубных победах», которые он одерживал над «неопытными христианами», тщетно старавшимися отстоять свою веру (De duab. anim., ук. место), перед напором его логики, красноречия и просто его личного обаяния. «Своей жалкой и безумной болтовней разрушал я христианскую веру» (De dono persever. 20. 53).
Августин оставался манихеем, по его словам, «лет девять»: в те-
9
чение этого времени он постепенно от них отходил. Многое способствовало этому отходу: несостоятельность манихейской метафизики (если силы мрака могли нанести ущерб божеству, то, следовательно, оно не обладает полнотой совершенства и силы, а если не могли, то за-чем ему было вступать с ними в борьбу? — вопрос Небридия, который он «любил предлагать») (7. 3); убедительные речи «некоего Элпидия», выступавшего против манихеев (5. 21); чтение книг по астрономии. Августин с его честным умом не мог не смущаться при сравнении строго обоснованных и опытом проверенных астрономических данных с «нескончаемыми баснями (манихеев) о небе и звездах, о солнце и луне» (5. 12). И люди разочаровывали: «избранные» отнюдь не соблюдали предписаний манихейской этики (De mor. manich., 19. 67—73); Фавст, авторитетнейший человек у манихеев, оказался совершенным невеждой. Августин надеялся, что он развернет перед ним страницы манихейского учения, ему еще неизвестные, и увидел, что ждать нечего: «знакомство с ним подрезало все мои старания подвинуться в этой секте» (5. 19).
Августин избрал для себя карьеру преподавателя и преподавателем был прекрасным: метод его обучения был для того времени необычным. Мы можем составить некоторое понятие о нем, пользуясь его сочинением «Об обучении катехуменов» и диалогами, в которых изображена жизнь в Кассациаке. Августин считался с психологией отроческого и юношеского возраста (совершенная новость для того времени), старался разбудить мысль своих учеников, приучал их к самостоятельному мышлению, умел по-новому, свежо и неожиданно, прокомментировать школьный текст и воспользоваться им для нравственного урока. И школьная деятельность, и победы в литературных состязаниях, и близкое знакомство с проконсулом и провинциальной знатью (Фирмин) — все сулило блестящую карьеру и внушало уверенность в собственных силах. Карфаген становился тесен для Августина — и он переехал в Рим.
Рим встретил его неласково: он сразу же тяжело заболел, а вскоре разочаровался и в школьных римских порядках. Твердое положение могло доставить ему только место ритора в государственной школе. Как раз такое оказалось. Депутация медиоланцев обратилась к Симмаху, префекту Рима, с просьбой порекомендовать им учителя для их риторской школы. Устроен был конкурс; за Августина хлопотали его манихейские друзья, жившие в Риме, и Симмах остановил свой выбор на нем. Что пробная речь Августина, несмотря на его африканский акцент (De ord. II. 17. 45), Симмаху понравилась, это вполне вероятно, но были у него свои цели, заставившие предпочесть Августина. В Милане в это время находился императорский двор; учитель риторики, состоявший на государственной службе, обязан был писать официальные панегирики императору и консулам данного года. Эти речи были не просто риторическими упражнениями: их автор должен был умело и убедительно в хвалебных тонах представить политику правительства: он «организовывал общественное мнение» (см. A. Cameron. Wandering Poets; „А literary Movement in Byzantine Egypt Historia”, 1965, B. 14, стр. 470—509). Роль была чрезвычайно важной, и Симмах, убежденный язычник, горячо, но безуспешно отстаивавший старую римскую религию, потерпевший уже тяжелые поражения в этой борьбе, очень охотно поручил эту роль манихею, человеку, принадлежавшему к общине, которая была опасным врагом Церкви.
Августин прибыл в Милан с полной сумятицей в душе. Ему, еще молодому, по-земному честолюбивому, уверенному в своем уме, было горько думать, что его «так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания» (6. 5); он хотел «изобличить манихейскую ложь»
10
(V. 25), и скептицизм Новой Академии пришелся ему тут как раз по душе (с ее философией он ознакомился через трактат Цицерона: Асаdemica). Манихеи утверждали, что они обладают полнотой знания; по мнению «Академиков», совершенное знание вообще недоступно человеку; безрассудно настаивать на безусловной истинности любого учения: человеку, в его поисках истины, удается только отвергать ложные теории: «У меня зародилась мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые Академиками: они считали, что все подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна» (V. 19): «отыскать истину я отчаялся» (VI. 1).
«Моими рулевыми были Академики» (De bcata vit I. 4),— писал, Августин, но к людям, которые могут жить отрицанием, он не принадлежал. «Когда я был в Италии,— вспоминал он впоследствии,— я часто вел беседы с самим собой о методе нахождения истины, часто казалось мне, что найти ее невозможно, и течением моих мыслей меня уносило к Академии. А с другой стороны, когда я думал о человеческом уме, таком сильном, таком проницательном, так далеко видящем, мне начинало казаться, что скрыта не истина, а метод, которым ее можно найти. Его можно получить от авторитета. Как, однако, найти этот авторитет, когда его предлагало столько учителей, споривших между собой! Тут передо мной вставала непроходимая чаща, и через некоторое время я устал от попыток пробиться сквозь нее; вопреки всему, однако, мой ум непрестанно подгоняло желание открыть истину» (De util. cred. 8. 20); «душа моя жила в напряженном искании и беспокойном размышлении»,— вторит «Исповедь» (VI. 3). Пока что он решил оставаться «на той ступени, на которую его поставили родители» — быть в Миланской церкви катехуменом. Решение это было подсказано и тогдашними честолюбивыми мечтами Августина: перед ним открывалась блестящая карьера, и принадлежность к официальной Церкви, хотя бы только в качестве катехумена, обеспечивала в известной мере продвижение но этой «широкой дороге мира».
По прибытии в Милан Августин явился к миланскому епископу Амвросию. Амвросий был не только крупнейшим церковным деятелем того времени: огромно было его влияние на ход государственных дел вообще. Западная Церковь обязана своим торжеством в значительной степени ему: старания языческой партии уберечь язычество были сокрушены им [Амвросий обратился непосредственно к императору Валентиниану II, грозя ему отлучением от Церкви, если он согласится на просьбы язычников (ср. 17)]; из борьбы с арианами Святитель Амвросий вышел победителем. На Августина он не обратил особенного внимания; близкого знакомства у них не завязалось, побеседовать с Амвросием так, как хотелось, Августину не довелось. Августин подробно рассказал в «Исповеди», какое значение имели для него проповеди Амвросия: его объяснения Ветхого Завета в «духовном смысле» уничтожали манихейскую критику библейских сказаний: под их «буквой», темной и часто смущающей, скрывался «дух», тайная мысль, выраженная категорически, возвышавшая душу и уносившая ее в иной мир. В какой-то мере Святитель Амвросий помог Августину отойти и от пантеистического материализма манихеев.
Почти все философы древнего мира были далеки от духовности миропонимания: божество мыслится ими как особый вид материи, наделенной жизненной силой и проникающей всю вселенную. Таков божественный «огонь» стоиков; таков тончайший эфир манихеев, в котором мир покоится, как губка в океане. Августин рассказал в «Исповеди», как трудно было ему дойти до постижения чисто духовной субстанции. Понять ее помогла ему философия неоплатоников, к которой тянулось образованное общество того времени, и языческое, и христианское. Августин был не одинок в своих исканиях. Сочинения
11
Плотина, одного из самых трудных писателей древности, жадно читали, переписывали и обсуждали. О том, как велик был спрос на них на Западе, свидетельствует перевод многих плотиновых трактатов на латинский язык, сделанный Марием Викторином. Епископ Амвросий черпал из «Энеад» и слова, и мысли. Поклонником и знатоком Плотина был его духовник Симплициан, с которым часто беседовал Августин. В Милане существовал кружок «платоников»; одному из его членов, видному политическому деятелю и усердному читателю Плотина, Маллию Феодору, Августин посвятил свой трактат De beata vita.
Плотин родился в 204 г. н. э. в Ликополе (Верхний Египет), учил¬ся философии в Александрии у Аммония Сакка, бывшего одно время христианином и стремившегося объединить философию Платона и Аристотеля. Желая познакомиться с восточной философией. Плотин принял участие в походе Гордиана против персов. Римское войско было разбито в Месопотамии, Плотину едва удалось спастись в Антиохию, откуда он переселился в Рим, где и провел 25 лет (ум. в 270 г. н. э. в Кампании, в имении одного из своих друзей).
Его преподавание философии носило своеобразный характер. Он был не столько философом-ученым, сколько «духовником», нравственным руководителем своих слушателей. Его лекции были открыты для всех, но они были трудны даже для тех, кто обучался философии; большинство отсеивалось. Оставался неширокий круг образованных людей (в числе их были император Галлиен и его жена Салонина), к которым и обращался, как к друзьям, Плотин. Он никогда систематически не излагал своего учения, до 50 лет не написал ни строчки и не стремился распространять свои писания. Они были собраны и до некоторой степени систематизированы учеником Плотина Порфирием, написавшим его биографию.
Время, когда жил Плотин, было печальным временем: не было ни веры, ни надежды на будущее. Ранняя греческая философия обращена к миру, ее мораль предписана законами здешней, земной, жизни. Плотин уводит от земли к тому, что он считает непреходящим и вечным.
Краеугольным камнем в философии Плотина является его учение о Троице. Во главе ее τò ἕν — «Единое»: Добро, Бог. Только приспособляясь к человеческой слабости, дают имя Тому, о Ком никто ничего сказать не в силах. Он Сам довлеет Себе и пребывает в вечном покое. Он не нуждается в том, чтобы создавать что бы то ни было, но Он — Источник всякого существования, всякой мысли и всякой деятельности. Присутствуя во всяком сознании, Он от него отличен и отделен.
Вторая ипостась Плотиновой Троицы — Разум. Он от Единого, как луч от солнца, но Единое ничего не теряет от этой эманации, как не теряет воды источник, наполняющий реки, как не теряет аромата цветок, наполняющий благоуханием всё вокруг. Разум содержит в себе весь умопостижимый мир, мир идей, оригиналы всего существующего— не только общих типов, но и существований индивидуальных (их образцов) .
От Разума — Мировая Душа. От него получает она идеи, и ее функция — дать форму и красоту миру материальному. Материя создана отнюдь не силой, враждебной Единому; она проистекает из Божественного источника, но как свет и тепло по мере удаления от своего источника ослабевают и, наконец, исчезают в совершенном мраке и холоде, так и эманация Божественного света и тепла постепенно ослабевает в природе, пока не доходит до полного отсутствия или лишения истины и блага в материи,— это и есть не сущее, то есть зло. Силой Мировой Души материя частично искуплена: порядок и красота мира явлений есть результат ее воздействия на материю. Некоторые души, однако, желая стать самостоятельными, отделились от Ми-
12
ровой Души (а она есть «дом душ», где они пребывают в радостном общении, хотя без слов и звуков) и опустились в материальные тела. Это обитатели нашего мира.
В словах, полных удивительной лирической силы, Плотин изливает свою скорбь об этих павших душах. Как дети, пребывающие в длительной разлуке с родителями, они забыли отца и утратили знание о самих себе. Они поглощены погоней за удовольствиями и занятиями, недостойными их высокого происхождения. В каждом человеке, впрочем, пусть бессознательно, живет желание вернуться «домой», хотя и продолжает он идти кривыми путями. Есть, однако, люди, понявшие свое отпадение; они сознательно ищут дорогу, которая приведет их к Отцу. Плотин указывает ее: надо очистить душу, освободить ее от земных желаний и гордости, от любви к жизни и от страха смерти. Это достигается путем строгого аскетизма. Очистившаяся душа погружается в созерцание истины, она должна войти в себя, понять, что она осколок Божества, что духовное начало, в ней присутствующее, свидетельствует о наличии того высшего начала, от которого и она. Бог может открыться человеку, и в этом откровении человек знакомится со сверхразумным и сверхмировым началом 1.
О впечатлении, которое произвела на Августина философия Плотина, свидетельствуют его собственные признания, сделанные в «Диалогах», написанных вскоре после его знакомства с Плотином. Книги Плотина «воспламенили его» (De beata vita I. 4), «зажгли в его душе пожар», «овеяли ароматом Аравии» (с. Acad. 2. 2. 5). В «Исповеди» отзыв о неоплатонизме холоднее, но уважение к платоникам он сохранил до конца дней: «если бы эти люди смогли вновь прожить свою жизнь с нами, они увидели бы, с помощью какого авторитета легче помочь людям; изменив некоторые слова и мысли, они стали бы христианами, как стали ими многие платоники наших дней» (De vera relig. 7; написано между 388 и 391 гг.); «нет никого, кто бы к нам, христианам, был ближе платоников»,— скажет он в «Граде Божием», своем позднейшем произведении (8. 5).
Реминисценции из Эннеад рассеяны по всей «Исповеди». Плотин помог Августину разрешить столь мучившую его проблему зла (потря-сающая страница 7. 11 —12); рассуждения Августина о том, что зло не есть самостоятельная субстанция (7. 18), представляют собой развернутый комментарий к положению Плотина «зло есть недостаток добра» (Энн. 3. 2. 5), «совершенная нищета» (Энн. 1. 8. 3); космос управляется мудрыми законами; те, кто бранят мир, ошибаются потому, что рассматривают его по частям, а не в целом (Энн. 3. 2); «...и порок полезен... он заставляет нас бодрствовать; он пробуждает наш ум, побуждая восставать против путей зла» (Энн. 3. 2. 5, ср. «Исповедь» 7. 19—22). Плотин подтвердил слова Амвросия, что «воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло» (7. 5): «почему души забыли Бога, Отца своего? начало зла в них — своеволие ( τόλμα), отделение, желание быть самостоятельными; радуясь своей независимости, они бегут прочь от Бога...» (Энн. 5. 1. 1). И, наконец, платоники «вернули меня к себе» (7. 16): вхождение в себя,
___________
1 Вот характеристика неоплатонизма, сделанная Гарнаком: «В неоплатонизме греческая философия сказала свое последнее слово и оставила свое завещание... она собрала всё возвышенное и благородное, что приобрела в течение своей долгой работы, и соединила это в смелой идеалистической системе и в руководство к блаженной жизни. В неоплатонизме греческая философия учила, что единая реальность это — Бог, и единая задача это — подняться к Нему; она учила, что зло это — отдаление от Бога, что чувственный мир только видимость и подобие, что к Богу можно подняться только путем внутреннего воспитания и воздержания, путем созерцания, поднимающегося к сферам всё более и более высоким, и, наконец, через экстаз, когда Бог дает душе возможность видеть его свет...» (Reden und Aufsätze, Bd. 1, S. 72, Giessen, 1904)
13
размышления над деятельностью разума, над собственной духовной энергией помогли понять, что такое духовная субстанция: «я нашел, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная, настоящая и вечная Истина» (7. 23).
Узнать Истину для Августина значило жить в соответствии с ней (8. 1). Это было не так просто: «...новая воля, которая зарождалась во мне... была бессильна одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую» (8. 10). Плотин указывал человеку путь строгого аскетизма, как единственный ведущий к Богу, и предоставлял на этом пути человека только его собственным силам. Августин по личному горькому опыту знал, как недостаточны эти силы. И это сознание, и тот «христианский воздух», в котором он жил в Милане, естественно привели его в Церковь.
Знаменитая сцена в саду была естественным завершением длительного и трудного пути. Впечатление моментального перерождения она производит только в силу своей яркости: ослепительная вспышка заставляет забыть, что тем же светом, только более рассеянным, залиты все страницы этой удивительной книги. Читателю непредубежденному и внимательному в голову не придет сомневаться в реальности этой сцены. Объявить ее сплошной литературной выдумкой мог только человек — жертва обширной книжной премудрости, ставшей между ним и сердцем, которое исповедовалось «пред очами Господними».
В связи с этим стоит задержаться на вопросе, который в конце прошлого века был поставлен таким знатоком Августина и раннего христианства, как Гарнак, и таким крупным исследователем римского мира, как Буасье: можно ли доверять «Исповеди»? Оба ученых и вслед за ними ряд исследователей Августина ответили отрицательно. Августин изображен в «Исповеди» вовсе не таким, каким он был в этот период своей жизни. Достаточно сравнить «Исповедь», написанную через 10—14 лет после сцены в саду, и «Диалоги» («Против Академиков», «О блаженной жизни», «О порядке»), написанные в Кассациаке несколько месяцев спустя, чтобы увидеть всю разницу в духовной атмосфере «Исповеди» и этих ранних произведений. В «Исповеди» — сумрачный грешник, оценивающий свою прошлую жизнь с точки зрения строгого епископа, в «Диалогах» — благодушный учитель, ведущий с учениками беседы на философские темы, человек, обратившийся вовсе не в христианство, а в неоплатонизм, о христианстве знающий мало и о нем и не думающий.
Трудно представить себе, как могла больше полувека держаться эта точка зрения, и теперь еще до конца не преодоленная. В Кассациаке Августин не только ставит философские вопросы и разбирает их с учениками, но молится и читает Писание: «Диалоги» проникнуты тихой ясностью, это верно: естественно чувство покоя, которое испытывает человек, достигший, наконец, тихой пристани. И покой этот не был вполне безоблачным: Августин думал о прошлом и каялся: «Не удваивайте моих печалей. Хватит с меня моих ран: «почти каждый день со слезами молю я Бога излечить их» (De ord. I. 7. 29—30). И, наконец, совершенно определенное заявление, в устах человека — последователя чистого неоплатонизма — неуместное: «Я знаю, что я никогда не отойду от Христа, потому что не нахожу авторитета более сильного» (с. Acad. 3. 20. 43).
Поводом к написанию «Исповеди» некоторые считают просьбу Павлина Ноланского: Павлин просил Алипия, тогда уже епископа в Тагасте (395 г.), прислать ему свою автобиографию; Алипий «по смирению и скромности» отказался, и сделать это вместо него обещал Августин, о чем и написал Павлину (Письмо 27). Между ними завязалась переписка, к сожалению, частично утерянная. Вполне возможно, что с такой просьбой, описать свою жизнь, Павлин обратился к Августину.
14
По мнению других, Блаженный Августин написал «Исповедь» с целью защитить себя от нападок своих многочисленных врагов. Вряд ли это верно. Как раз «Исповедь» дала в руки этих врагов богатый материал для обвинения автора, который отнюдь не скрывал своих ошибок и заблуждений: в «Исповеди» Августин обвиняет себя, а не защищается. Причина, почему Августин написал «Исповедь», указана ее названием: слово confessio имеет два значения: 1) «покаяние», «исповедание грехов» и 2) «благодарность». Августин каялся и благодарил; скорбь о своей греховности и человеческой немощности вообще, благодарность Богу за то, что Он извлек его из «такой бездны», чувство непосредственной связи с Ним и сознание Его постоянного руководства («самый далекий и самый близкий») — все это переполняло душу, требовало излиться в словах и накладывало особую печать на язык «Исповеди». Никакой перевод не дает о нем представления. Богатый словарь, поэтический и эмоциональный, умелое использование риторического арсенала метафор, антитез, сравнений и персонификаций, тонко рассчитанных повторений; искусная расстановка слов, смена коротких, простых, чисто разговорных фраз предложениями из двух и даже трех частей равной приблизительно длины; великолепная звуковая инструментовка; ассонансы (иногда даже рифмы), аллитерации, разнообразное сочетание ударений, чередование долгих и кратких, обдуманный подбор гласных (некоторые места «Исповеди» представляют собой стихотворения в прозе) — вся эта волшебная власть над словом, пламенеющая мыслью и чувством, превращает стиль «Исповеди» в какую-то огненную стихию, которая охватывает читателя и заставляет не просто читать Августина, а жить с ним, переживая в его жизни свою. «Исповедь» — это своеобразная поэтическая медитация, размышление над самим собой, богословствование о себе.
Августин писал «Исповедь» потому, что не мог не исповедаться «пред очами Господними», но имел в виду и пользу для людей: «эта исповедь будит тех, кто ее читает и слушает... она заставляет бодрствовать, полагаясь на милосердие Твое и благодать Твою» (10. 4, срав. еще 2. 5 и 15; 4. 19).
«Исповедь» состоит из тринадцати книг: в первых девяти Августин рассказывает о своей жизни до обращения; в 10-й, добавленной потом, о себе же после обращения; 11 —13 посвящены толкованию первой главы «Бытия». Как согласовать материал столь разнородный? Попытка связать обе части в единое целое (сам Августин считал «Исповедь» единой) не вполне убедительна. Доказывать единство «Исповеди» надо, вероятно, исходя не из богословских предпосылок, а путем изучения композиционных приемов, характерных для Блаженного Августина.
Блаженный Августин писал «Исповедь» между 397 и 400 гг.; в это время он уже был епископом в Гиппоне и принимал деятельное участие в современных событиях; в «Исповеди» время и место, по существу, отсутствуют. Что значат все исторические потрясения перед личной встречей человека с Тем, от Кого зависит всё в мире — от движения светил до падения облетающих листьев? Если бы «Исповедь» дошла без имени автора, если бы в ней не были упомянуты Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, и императрица Юстина, то филологи, анализирующие ее язык и стиль, метались бы между несколькими столетиями. Можно ли догадаться, читая эти страницы, что они написаны накануне крушения Римской империи, написаны в стране, которая за последние 20—30 лет пережила голод, набеги номадов, кровавые мятежи, что ее и посейчас в непрерывном страхе держат шайки разбойников, что пожары, разбойничьи засады и нападения, насилия и убийства стали явлением повседневным. Школьные воспоминания, Карфаген, дружеский кружок, одним словом, все бытовые подробности, при всей их четкой конкретности, вписаны, словно примечания,
15
мелким шрифтом на полях рукописи. Это своего рода алгебраические знаки, под которые можно подставить какие угодно цифровые значения. Карфаген можно заменить любым городом от Афин до Парижа; тревогу Августина по поводу его панегирика — волнениями придворного времен Людовика XIV, беспокойством кандидата в президенты, бессонницей ученого, соискателя высшего звания. В «Исповеди» соединились две особенности, казалось бы, исключающие одна другую: ярчайшая индивидуальность автора и поразительная всеобщность его произведения.
Написанная в постоянном соприкосновении двух планов, временного и вечного, «Исповедь» победила время; трудно найти в мировой литературе произведение такой неувядаемой жизненной силы. «Исповедью» зачитывались уже современники Августина, о чем он сам пишет незадолго до своей смерти: «Я знаю, что «Исповедь» очень нравилась и нравится братьям» (Retract. 2. 6); «какое из моих произведений больше читают, чем «Исповедь», каким больше наслаждаются?» (De bono persever. 20). Влияние «Исповеди» удалось проследить на нескольких произведениях средневековой литературы. Петрарка, возивший с собою «Исповедь» во всех своих странствиях, писал: «всякий раз, когда я читаю «Исповедь», меня волнуют, часто до слез, два чувства: страх и надежда. Мне кажется, что я читаю историю моих собственных заблуждений» (De contcmptu mundi dial. I).
Десять веков отделяли Петрарку от Августина; человек другого мира, другой культуры, совершенно другого душевного склада, он, читая «Исповедь», читал о себе. Не он один. Тысячи тысяч людей за «печатными строками» этой книги читали «другие строки» — повесть о своей жизни, своих исканиях и потерях. Количество ее читателей, видимо, не уменьшается: за последние 25 лет только в трех странах (Франция, Англия, Германия) вышло пятнадцать ее переводов.
2
«Исповедь» — автобиография. Латинская литература давно знает этот жанр: уже в I в. до н. э. свои автобиографии писали государственные лица разного масштаба (Эмилий Скавр, Рутилий Руф, Сулла). От этих произведений дошли одни жалкие клочки; невозможно искать каких-либо нитей, связывающих «Исповедь» с ее далекими предками; у нее есть ближайшие «родственники», и в их семье «Исповедь», ее «не общее выражение» поражает особенно сильно.
В старые республиканские времена юноша еще в родной семье усваивал себе прочное мировоззрение, которое внушали словом и примером родители, родственники, вся окружающая среда. Вступая в жизнь, этот счастливец твердо знал, что хорошо и что плохо, во что ему следует верить и что следует отвергать. Безусловные аксиомы религиозного и нравственного порядка были всегда под рукой; нечего было ни спрашивать, ни искать, пи сомневаться. Если верить письмам Плиния Младшего, то по глухим провинциальным (в нашем смысле) городам Италии так обстояло дело еще и в начале Империи.
«Время не катится впустую»: этой твердыне душевного благополучия наносится удар за ударом. Уже па рубеже I—II вв. н. э. она расшатана; в IV в. от нее нет и следа. Всякая серьезная душа, желавшая осмыслить свою жизнь, должна была сама — одинокая, себе самой предоставленная — искать, спрашивать и разбираться в хаосе новых религий, в противоречиях разных философских систем. Завершением этих поисков был тот главный поворотный момент, когда приходило разрешение всех загадок и сомнений, открывалась истина, и на ней, как в тихой пристани, могла успокоиться душа. Этот момент назывался «обращением».
16
Античная литература, вообще очень чуткая ко всем общественным течениям, быстро уловила этот строй мыслей и чувств и уложила его в четкую схему определенного жанра. Первые образцы его есть уже у писателей-язычников (особенно интересны Дион Хрисостом, превра-тившийся из блестящего ритора в нищего философа-проповедника, и Апулей, давший в десятой книге своего «Золотого осла» картину под-линного религиозного обращения). Христианские писатели, повествуя о своих скитаниях в поисках истины, воспользовались этим жанром, как удобной литературной формой. Она лежит в основе «Беседы с Трифоном» апологета II в. священномученика Иустина Философа: Иустин рассказывает, как он переходил от одной философской школы к другой (стоики, перипатетики, пифагорейцы, платоники сменяли друг друга), как он встретил, наконец, старца, который познакомил его с Писанием. «В душе моей огнем вспыхнула любовь к пророкам и к людям, друзьям Христа. Обдумывая слова старца, я понял, что тут и есть единственная верная и полезная философия» («Диалог с Трифоном», 8). Иларий, епископ города Пуатье (IV в.), рассказывает в Прологе к своему сочинению «О Троице», как он, познакомившись с разными философскими учениями, убедился в их пустоте и, отбросив их, стал искать пути к познанию Бога. Случайно ему попадается Библия; чтение Евангелия от Иоанна и Посланий апостола Павла обращает его к христианской вере (De Trinitate, I. 9—14).
«Письмо к Донату» карфагенского епископа Киприана Монсо, спе-циально занимавшегося христианскими писателями Африки (P. Monceaux. Histoire Litterair de l’Afrique chretienne, t. II, c. 266), считается предшественником «Исповеди». Богатый человек, преуспевающий ритор и адвокат, жадный к удовольствиям, он живет «в потемках»... «чуждый свету истины, запутавшийся в заблуждениях». И на путь новой жизни выводят его беседы с христианским священником и чтение Писания: «сомнительное стало верным, закрытое открылось, осветились потемки, возможным стало совершить невозможное».
Тема обращения была, видимо, так интересна и близка многим, что во II—III вв. появляются произведения, где она предстает в обработке, заставляющей вспомнить античный роман. Это «Первая Гомилия» и «Воспоминания», приписанные александрийскому епископу Клименту; по-латыни они переведены были в IV в. — перевод почти современен «Исповеди». Автора с детства мучили вопросы о человеческой смертности и о сотворении мира; он жаждет бессмертия и ищет истину, обходит в этих поисках одну за другой разные философские школы, но вместо истины ему предлагают только хитросплетенные силлогизмы. Вдруг он узнаёт об учении Христа, собирается ехать в Иудею, в Александрии встречается с апостольским учеником, поддерживает его в споре с самоуверенным философом, встречает самого апостола Петра и становится его учеником.
Блаженный Августин знал и Илария (он его упоминает в своем сочинении «О Троице», VI. 10—11; XV. 3. 5 и Письме 180) и Киприана, на которого ссылается в двух проповедях (211 и 212) и De doctrina christiana (IV. 14. 31). Возможно, знал он и святого Климента. Это отнюдь не значит, что он зависел от них и что-то у них заимствовал. Человек неизменно принадлежит своему времени и своему кругу и располагает неким «общим фондом» идей, литературных форм и словесных выражений. «Исповедь» Блаженного Августина тоже история обращения с обычными для этого жанра топосами: искание истины, переход от одного учения к другому, мучительное раздумье, обретение истины. Всё знакомо — и всё по-другому.
Авторы автобиографических «обращений» делят обычно свою жизнь на две резко противоположные части: до обращения она полна тревог, мучений, ошибок; с момента обращения все – свет и покой. Святитель
17
Киприан после плавания по бурному морю нашел тихую пристань — это его собственные слова; Иларий обрел блаженный покой, приняв христианство. У Блаженного Августина вовсе не так: он не закончил «Исповедь» моментом обращения; его 10-я книга повествует о том, как трудна и беспокойна жизнь «обращенного»: Августин чувствует себя «в лесу, полном ловушек и опасностей» (10. 35. 56); земная жизнь полна искушений всегда и всюду (10. 28—29) и «никто не может быть спокоен за себя: если он мог стать из плохого хорошим, это еще не значит, что он не станет из хорошего плохим» (IV. 32. 48). Человек — тайна для самого себя: «Каким искушениям я могу противостоять, а каким нет — этого я не знаю» (10. 5. 7): поставлен вопрос о сущности человеческой природы и о ее возможностях.
«Обращения», изображая путь, которым человек дошел до этого переломного момента, останавливались преимущественно на внешних фактах. «Исповедь» соединяет в себе интеллектуальную автобиографию с историей «сердца», с историей внутреннего мира. Скорбные ноты 10-й книги были подсказаны зорким и беспощадным анализом этого мира. Когда-то, опираясь на Плотина, Августин разрешил проблему зла для мироздания. Теперь зло встало перед ним, как загадка человеческого поведения: почему человек творит злое? разве он хочет зла? а если хочет, то почему? почему он, шестнадцатилетний мальчик, «наслаждается преступлением»? (2. 8. 16).
Привыкнув к злу, «наслаждаясь преступлением», человек теряет способность поступать хорошо: он может сознательно выбрать доброе и не сможет его осуществить, потому что его прежние поступки выковали цепь «привычек», и он, «никем не скованный, находится в оковах собственной воли» (8. 5. 10). Прошлое живет в настоящем. Люди отличаются друг от друга именно потому, что разный опыт прошлого по-разному образовал их волю. Блаженный Августин борется не с силами ада, а «с властной привычкой» (8. 11. 28). Это был совсем необычный и новый угол зрения; Пелагий возмущался и негодовал, получив 10-ю книгу «Исповеди».
«Обращения» оптимистичны: человек проходит избранный им путь в едином, неослабевающем напряжении воли; достигнет вершины и на ней незыблемо утверждается.
В «Исповеди» нет и следа такого оптимизма. Святой Климент и автор «Письма к Донату» не только поучали читателя, но и развлекали его. Сказать об «Исповеди», что это «занимательное чтение», — кощунство. Это — печальная и строгая книга. Она требует сосредоточенной мысли, она рассказывает человеку, как он «нищ и беден», заставляет его пройти по запутанным и кривым путям жизненного странствия. Сколько людей плакало над этой книгой... и скольких она утешила, благословением гения даруя тот катарсис, который, по словам Аристотеля, есть цель трагедии.
Блаженный Августин называл слова «драгоценными сосудами». Литературные жанры тоже «сосуды», и «пищу в них можно подавать разную — и городскую и деревенскую». Сосуд, в котором подавали «обращения», оказался тесен для «Исповеди». Только придирчивый взгляд литературоведа смог выловить в ней «фамильное сходство» с забытыми родственниками. И только благодаря ей о них вспомнили.
3
После смерти Моники (осень 387 г.) Августин вернулся в Рим, где написал несколько книг, и осенью 388 г. уехал в Африку. Он распродал всё доставшееся ему по наследству имущество и устроил в Тагасте маленькую монастырскую общину (6 человек с ним вместе). Здесь он прожил три года. «В посте, молитве и добрых делах, день и ночь раз-
18
мышляя о законе Господнем» (Поссидий, 3). О результатах этих размышлений он сообщал «приходящим в беседах, а находящимся вдали в книгах» (там же). Имя Августина, очевидно, стало широко известно в округе, потому что, когда он случайно оказался в Гиппоне (в 25 км от Тагасты), он, по настоянию народа и против своей волн, был посвящен в священники. Епископ Гиппона, Валерий, быстро оценил красноречивого, образованного и аскетически настроенного священника и сделал его своим викарием; после смерти Валерия Августин стал епископом. Ему было тогда 42 года; на епископской кафедре в Гиппоне он пробыл 34 года — до самой смерти.
Сведения о жизни Блаженного Августина за этот период находятся в его произведениях, главным образом в письмах и проповедях, и в биографии, написанной Поссидием, учеником и почитателем Августина, членом монашеской общины, в которую Августин вовлек весь клир своего Гиппона. Поссидий находился в тесном общении с Блаженным Августином в течение сорока лет и за эго время был свидетелем ого жизни и деятельности. Эти источники показывают Блаженного Августина с той стороны, которую трудно было приметить в «Исповеди».
Человек, написавший «Исповедь», так, словно он жил па необитаемом острове среди пустынного океана, оказывается крупнейшим церковным деятелем, государственным человеком, который прекрасно понимает нужды текущего дня и видит завтрашний. Он, священник, а вскоре и епископ, «раб Христа, а через него и раб рабов Его» (письмо 21). Церковь окружена врагами: на нее ярится и под нее подкапывается далеко еще не побежденное язычество; ее раздирают ереси: манихеи, донатисты, пелагиане. Надо защищать правую веру и не только ее: Августин понимал, что в хаосе наступавшего развала объединить людей могла только Церковь, крепкая, единая, Апостольская Церковь; только такая могла спасти остатки культуры и уберечь людей от духовного опустошения. И, отстаивая эту крепость и единство, Августин ведет упорную неустанную борьбу с врагами веры и Церкви — ведет ее словом и пером. Появилось еретическое сочинение — Блаженный Августин сразу отложит богословский трактат, над которым с увлечением работал, но который в данный момент не является столь нужным: «Позволь мне, — пишет он епископу Еводию, донимавшему его богословскими вопросами,— заняться тем, что необходимо многим и что поэтому и следует предпочесть исследованиям, которые интересны очень и очень малому числу» (письмо 169). Донатистский епископ Петилиан обратился к своим священникам с посланием, обвиняющим и осуждающим Церковь; Августин, доказывая несостоятельность его доводов, пишет опровержение «так быстро, как только смог» (Retr. 2, 25). Манихей Секундин прислал ему из Рима вежливое письмо с кратким изложением манихейского учения; Августин немедленно ответил и считал свой ответ наиболее удачной критикой манихейства (Retr. 2. 10). Папа Бонифаций (418—422 гг.) направил ему два пелагианских трактата; Августин тут же берется писать на них опровержение. Так с первых лет своего епископства он занял первое место среди духовных руководителей Западной Церкви; со всех сторон обращаются к нему с просьбами распутать богословские недоумения, написать в защиту Церкви, составить историческую справку, дать нравственное наставление. Ему пишут из разных мест Африки, из Италии, Галлии, Испании; пишут представители духовенства, государственные чиновники, частные лица, пишут мужчины и женщины. Богословские интересы стояли в центре внимания тогдашнего образованного общества. Ими не просто интересуются, над ними раздумывают, ими живут. «Некие братья-миряне, прилежно читающие Священное Писание», прислали Августину книгу, приведшую их в смущение и недоумение: автор утверждал, что крестившийся с ве-
19
рой может не думать о добрых делах и об исправлении жизни. Блаженный Августин ответил, что одной веры мало, нужны дела (De fide et operibus 2. 38). «Несколько убежденных образованных христиан» просят его показать несостоятельность манихейской космологии, объяснив три первых главы книги Бытия, но так, чтобы объяснения эти были понятны и простым людям (De gen. contra manich. 1. 1). Военный трибун Марцеллин недоумевает по поводу некоторых пунктов пелагианского учения (412 г.) — Августин посылает ему три книги (De peccato- rum meritis et remissione, Retr.); Консентий спрашивает, нельзя ли притвориться еретиком, чтобы выведать все тайны секты; Августин пишет рассуждение Contra mendacium, в котором настаивает на недопустимости притворства и лжи (ок. 420 г. Retr. 2. 60). Комиту Валерию, находящемуся при императорском дворе в Равенне, он объясняет значение брака (Retr. 2. 53); карфагенский диакон Деогратис просит Августина научить его, как ему заниматься с катехуменами, и Августин посылает ему обстоятельный трактат с ответами на его вопросы (De catechizandis rudibus. Retr. 2. 14), одно из замечательнейших произведений педагогической литературы. Блаженный Августин советует учителю сообразовываться с развитием своих учеников: людей простых и невежественных надо учить иначе, чем людей образованных: грамматиков и риторов особо выделить и настоятельно им внушать, что истина важнее красоты слога (Августин помнил о своих юношеских впечатлениях от Библии). Нельзя держать ум в непрерывном напряжении; пусть учитель позаботится о том, чтобы его ученикам было весело; пусть время от времени развлекает их подходящими рассказами. Произведение это было новостью для античной педагогики, совершенно равнодушной к психологии ученика; больше того, оно указывало путь, по которому следовало вести всякое обучение. Иногда Августин берется за перо «по просьбе», «по настоянию братьев», членов его гиппонской монашеской общины: «по праву любви» потребовали они от него книгу о манихее Фавсте (Faust. 1. 1; 400 г.).
Значительную часть литературного наследия Августина составляют комментарии на разные книги как Ветхого, так и Нового Завета и богословские трактаты, из которых особенно замечателен De Trinitate: Августин пытался объяснить в нем один из главных догматов христианства — догмат Троичности Божества.
Это сочинение вместе с «Исповедью» и De civitate Dei считаются главными произведениями Августина. De civitate Dei представляют собой первый трактат по философии истории. Взятие Рима Аларихом (410 г.) произвело потрясающее впечатление на весь культурный мир: язычники в один голос обвиняли христиан во всех бедствиях, обрушившихся на Империю. «Пока мы приносили жертвы нашим богам. Рим стоял, Рим был счастлив; теперь эти жертвы запрещены, и вы видите, что стало с Римом» (Sermo, 296). Августин начал с опровержения этих обвинений: Рим вовсе не был так счастлив в первые века своего существования, когда ничто язычеству не угрожало. И нечего хвалиться огромностью Империи; можно ли считать счастливым государство, несправедливо захватившее земли соседей? «Что такое царство без справедливости, как не огромная разбойничья шайка? разбойничьи шайки ведь это маленькие государства» (4, 4). И языческая философия не смогла привести людей к счастью.
Рассмотрение римской истории под этим для тех времен совершенно необычным углом зрения служит как бы прологом к истории двух государств, которые существуют на земле, но не замкнуты в пределах определенной территории, не включают в себя какой-то один народ. Книга заканчивается рассуждением о конце мира и Страшном Суде.
Литературное наследие Блаженного Августина огромно; достаточно сказать, что и Собрании Латинских церковных писателей (Латинская
20
Патрология) оно занимает 16 томов (32—47). Два из них заняты его проповедями; их дошло до нас 500; часть утеряна.
Блаженный Августин считал проповедь действенным средством в деле воспитания своей паствы и своей важнейшей обязанностью. «Господь отдал меня в рабы Гиппонскому народу» (письмо 124), «я не думаю о кратковременном блеске церковных почестей; передо мной всегда мысль, что я должен буду дать отчет Христу, Верховному Вождю всех духовных пастырей, за вверенное мне стадо» (письмо 23). И он хочет «работать для спасения, духовной помощи и наставления братьев» (письмо 73). Он проповедует и в своей епархии, и за ее пределами, если его приглашают; проповедует много дней подряд, иногда дважды в день. В проповедях он изъясняет тексты Писания; если это какой-либо праздник, он объясняет его значение; если память какого-либо мученика, рассказывает о нем. Он предупреждает свою паству об опасностях, происходящих от ересей, объясняет догматы; из каждого текста выводит жизненный практический урок, нравственное наставление.
А в нравственном воспитании паства его очень нуждалась. Они — христиане, но «легче вынести идолов из храма, чем выбросить их из человеческого сердца» (In Ps. 98; 138). В трудные минуты они молятся Юпитеру, Марсу или карфагенской «Небесной богине» (In Ps. 62); заболев, обращаются к чародеям и гадателям, все носят языческие амулеты, все справляются с таблицей счастливых и несчастных дней, составленной астрологами. Они наполняют церковь шумом и гамом и устраивают в ней возмутительные скандалы (письма 124—126), они пьяницы и развратники (Sermo, 252). В борьбе со всем этим нравственным неустройством нельзя, по мысли Августина, действовать насильнически: надо наставлять, а не приказывать, не грозить, а убеждать (письмо 22). Местные обычаи, если они не идут в разрез с христианской моралью и религией, следует уважать: «изменение в обычаях, если даже оно и полезно, вносит самой новизной своей смущение» (письмо 54). В письме к Алипию Блаженный Августин рассказывает, как он убедил свою паству отказаться от обычая, который он считал кощунственным и языческим, — устраивать в день памяти мучеников пьяные пирушки на их могилах и в церкви. Наступил праздник святого Лаврентия, который привыкли проводить разгульно и весело, а проповедник предлагал провести его в церкви за молитвой и пением псалмов. Толпа была взволнована и раздражена; Августин сумел успокоить и вразумить ее, действуя только силой своего красноречия, которое заставило плакать всю церковь (письмо 29).
Блаженный Августин изложил теорию христианского красноречия в трактате De doctrina Christiana. Проповедник, «исследователь Священного Писания и наставник в нем» (4, 32), должен прежде всего хорошо его знать и в своих объяснениях стремиться к ясности и простоте. «Надо любить не слова, а истину в словах» (там же, 4, 26). Сам он строго придерживался этого правила: «пусть нас лучше укоряют грамматики, но понимает народ» (In Ps. 138). Его проповеди коротки, язык их прост, без риторических ухищрений.
Очень интересна переписка Блаженного Августина (дошло 220 писем), дающая богатый материал для характеристики тогдашней хозяйственной, общественной и церковной жизни в Африке и для характеристики самого Блаженного Августина.
Когда-то в золотые дни Кассациака Августин обратился к своим ученикам, по-дстскп между собой повздорившим, с рыдающим воплем: «будьте добрыми» (De ord. 1, 10). Он сам был добр чудесной человеческой добротой, которая спешит помочь в нужде, отереть чужие слезы, встать на защиту слабого и обиженного. Каждый может прийти к нему за советом и помощью. По закону Константина епископ обязан высту-
21
пать в качестве судьи, если тяжущиеся стороны предпочитают обращаться к нему, а не к своим властям. Августину приходилось иногда заниматься разбором тяжб с утра до вечера, «ему даже не было времени поесть» (Поссидий, 29): к нему за решением шли не только христиане, но и язычники. Однажды он попросил свою паству оставить его на пять дней в покое, так как ему нужно сделать работу, порученную церковными Соборами. Пообещали и быстро обещание нарушили; «вы врывались ко мне, и я был завален чужими делами до полудня и после полудня» (213).
В те тяжелые времена, помощь, оказываемая Церковью бедным, имела огромное значение. Забота о бедных — постоянная забота Августина; об этой стороне его деятельности с уважением говорили и язычники (103). «Епископ не должен хранить денег и отталкивать протянутую руку»,— сказал однажды Августин (Sermo, 355). У него нет своих денег (первое требование для всех, вступающих в его монашескую общину, — не иметь никакой собственности); он помогает из церковных средств и помогает так широко, что клир, живущий на эти же средства (они все члены этой же общины), начинает жаловаться. Он приказывал разламывать церковные сосуды и продавал это серебро на выкуп пленных и помощь нуждающимся (Поссидий, 24). Гиппонская община забыла в его отсутствие (Августин был на Соборе в Карфагене) снабдить бедняков одеждой; Августин пишет ей и просит поскорее исправить упущенное (122).
Какой-то Факций задолжал 17 золотых; платить ему нечем, и он идет к Августину. Тот предлагает устроить сбор в его пользу, но Факцию стыдно прибегнуть к этому средству, и тогда Августин, взяв с Факция обещание, что если он не сможет вернуть денег в срок, то не станет противиться обращению к народу, достал для него в долг денег у Македония, викария Африки и своего друга. Факций расплатился с долгами и исчез. Пришел срок расплаты с Македонием, и епископу пришлось просить паству о сборе денег, чтобы вернуть долг, сделанный ради другого (208).
Люди шли к нему не только за материальной помощью, у него искали совета и утешения. Утешать он умел и сам шел навстречу горю. Узнав о своем знакомом Хрисиме, который, потеряв свое состояние, пришел в такое отчаяние, что хотел наложить па себя руки, он пишет ему о хрупкости и неверности всего земного; личная беда одного человека вплетается в общую беду всей земли, и слова о непривязанности к земному и временному приобретают особую убедительность (244). Люди, похоронившие своих близких, ищут у него поддержки и помощи и находят ее в той силе веры и убеждения, которыми дышат его слова: «Мы полагаемся на обещания непреложные... мы уйдем ведь из этой жизни... тех, кто дорог нам, мы не потеряли. Они только опередили нас на пути к той жизни, где уже нет страха разлуки» (92 и 263). Трогательно его письмо к Флорентине, молоденькой девушке, которая прилежно читает Писание, не всё понимает и хотела бы попросить у него объяснений, но стесняется писать сама и просит мать, чтобы она написала Блаженному Августину. Старый епископ, заваленный делами (сколько раз он жалуется, что они «держат его в тисках»), признанный духовный глава всей Западной Церкви, отвечает девочке, что он постарается помочь ей, но она должна написать ему о всех своих затруднениях. Пусть только не думает, что он всё знает, он сам учится с теми, кого учит; если она спросит его о том, чего он не знает, он будет молиться, чтобы Бог научил его, как отвечать, или к кому обратиться, кто мог бы наставить их обоих (266).
Он бывал суров и грозен и не встречал несправедливость с равнодушным спокойствием стороннего наблюдателя. Богатый землевладелец Ромул собирался вторично взыскать оброк со своих колонов: «...дай
22
Бог, чтобы твоя несправедливость к несчастным беднякам не обернулась больше во вред для тебя, чем для них. Они страдают временно, а ты — подумай, что готовишь ты себе на день гнева и праведного Суда Божия... молю Милосердного, да исправит Он тебя здесь, а не ждет того дня, когда уже поздно каяться... молю, да просветит Он твой разум, чтобы ты увидел, что ты делаешь и ужаснулся.., когда тебе будет дано это увидеть, ты обольешь землю слезами, прося Бога сжалиться над тобой... тяжело ранено сердце мое, когда я вижу, что так поступают дети мои по Евангелию» (247).
Епископ Авксилий отлучил от Церкви некоего Классициана со всем его домом. Отлученный обратился к Блаженному Августину, и письмо его вызвало в Августине «целую бурю чувств и мыслей». Какими разумными доказательствами, ссылками на какие места Писания объяснит Авксилий свой поступок? отвечает ли сын за грех отца, жена за грех мужа, слуга за грех хозяина? если Господь открыл Авксилию, что он должен был поступить именно так, как он поступил, то пусть Авксилий просветит и его, Августина: «Я, старик, готов учиться у юноши; епископ в течение долгих лет, я готов принять поучения от того, кто еще и года не пробыл на епископской кафедре... не думай, что раз мы епископы, то мы не можем быть несправедливы». Авксилий, видимо, не послушался, и Августин собирался поставить вопрос об этом деле на Поместном Соборе, а если потребуется, то довести его и до сведения папы (250— 251).
Интересные сведения о частной жизни Блаженного Августина сообщает Поссидий (гл. 22). Одежду он носил не роскошную, но и не бедную: «шел средним путем»; за столом он и его клирики едят овощи, но хворым и гостям подают мясо; посуда деревянная и глиняная, но ложки у всех серебряные. Вино пьют все: на юге это не излишество, но обязательная приправа к трапезе. Запрещено злословить; обедающих оповещает об этом написанное на стене двустишие:
Жизнь чужую угодно тебе чернить и позорить —
Прочь уйди от стола: ты недостоин его.
В 429 г. вандалы переправились в Африку: Гонорат, епископ Тиавы, спрашивает Блаженного Августина, не лучше ли священнослужителям бежать и не быть свидетелями тех страшных сцен, которые, конечно, следует ожидать. Блаженный Августин ответил, что во время опасности, грозящей всем, пастырь не имеет права оставлять свое стадо: «Как бы мало народу ни оставалось, наше служение ему так необходимо, что нельзя его оставлять» (письмо 228). Он не оставил свою паству и умер 76 лет (в 430 г.) в Гиппоне, осажденной вандалами. В последней молитве своей он просил пощадить город, а если это неугодно Богу, то даровать людям мужество и силу это бедствие перенести.
РУКОПИСИ
1-я группа:
Sessorianus (S), начало VII в. Красивое письмо; сохранилось плохо. Еще хуже то, что переписчик был сильнее в каллиграфии, чем в понимании текста; он невнимателен, делает много ошибок.
2-я группа:
Parisinus (О), IX в. Текст очень близок к выпискам из Августина, которые сделал в начале VI в. монах Эвгиппий. К этой же группе относятся еще несколько рукописей IX в.
3-я группа, выделенная последним издателем «Исповеди», М. Скутеллой:
Stuttgartensis— G, X в.
Parisinus — H, IX в.
Vaticanus —V 5756, IX—X вв.
23
ИЗДАНИЯ
Первое полное издание творении Блаженного Августина вышло в Базеле в 1506 г. До сих пор ценным остается издание, предпринятое монахами-бенедиктинцами конгрегации святого Мавра («издание мавристов»); первый том его, где находится «Исповедь», вышел в Париже в 1679 г.; последний, XI — в 1700; издание это (с легкими изменениями) повторено в Patrologia Latina (Париж, 1845—1849). Венская Академия наук предприняла издание церковных писателей; в 33-м томе в 1896 г. вышла «Исповедь». Текст подготовил П. Кноль, переоценивший достоинство S и поэтому наделавший много промахов. Последнее издание «Исповеди» подготовлено М. Скутеллой; вышло в 1934 г. в Bibliotheca Teubneriana. Новейший перевод сделан с него доктором филологических наук М. Е. Сергеенко.
Комментированные издания (названы только новейшие):
1. K. von Raumer. Augustini Confessiones. Güterloch, 1876, 2 изд.
2. I. Gibb and W. Montgomery. Augustini Confessiones. Cambridge, 1908, там же 2-е изд., 1927.
3. P. de Labriоllе. S. Augustini Confessiones. Paris, 1933—1937.
4. Oeuvres de s. Augustin. Les Confessions. Introductions et notes par A. Solignac. Paris, 1962.
Эти издания были использованы для примечаний.
Русские переводы:
1. Первый русский перевод «Исповеди» был сделан иеромонахом Троице-Сергиевой Лавры о. Агапитом; вышел в 1733 г. Для своего времени перевод этот был превосходен и до сих пор, несмотря на устаревший язык, не утратил своего очарования. Иеромонах Агапит превосходно знал латынь, понял и сумел передать силу и особенность языка Блаженного Августина.
2. Перевод Киевской духовной академии, изд. 3, ч. 1, Киев. 1914.
3. Анонимный перевод, М., 1914.
4. Предлагаемый перевод «Об обучении оглашаемых» на русском языке издается впервые.
24
Страница сгенерирована за 0.11 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
