13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Новая Россия
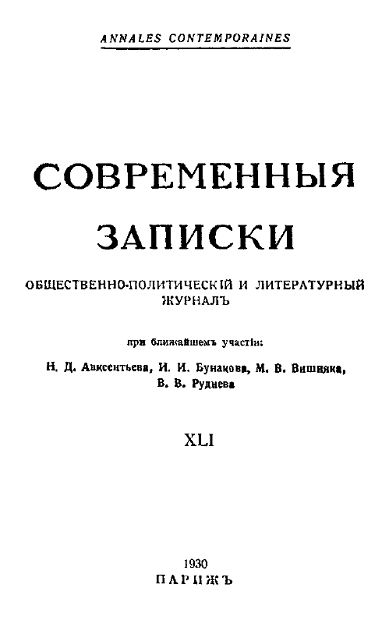
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
НОВАЯ РОССИЯ
НОВОЕ ОБЩЕСТВО*)
Ни в чем так не выразилась грандиозность русской революции, как в произведенных ею социальных сдвигах. Это самое прочное, не поддающееся переделке и пересмотру «завоевание» революции. Сменится власть, падет, как карточный домик, фасад потемкинского социализма, но останется новое тело России, глубоко переродившейся, с новыми классами и новой психологией старых. Глубина переворота зависит от того, что совершен он не только политической волей большевистской партии. Помимо указанных выше могущественных факторов, здесь действовали такие силы, как голод и разорение гражданской войны и даже годы войны «империалистической». Все било в одну точку: раздавить хрупкую в России прослойку людей умственного труда и поднять значение крепких мускулов. Борьба за существование сама совершала классовый отбор. Целых классов — помещиков, интеллигенции, старой буржуазии — уже не существует. Их место заняли новые образования. Вглядимся же в новый чертеж социального строения России.
а) Крестьянство
Крестьянство осталось по-прежнему в основании пирамиды, производящим, кормящим, поддерживающим атлантом. Но это уже не последнее, не униженное сос-
*) Настоящие очерки примыкают к статье «Революция идет», напечатанной в №39 «Совр. Зап.». Связующей частью между ними должна служить «Схема революции». Отсутствием ее объясняется некоторая недоговоренность печатаемых глав. Г. Ф.
276
ловие: по существу, даже первое сословие «земской», неопричной России. Политическое бесправие и даже экономическая эксплуатация деревни городом не в силах парализовать ее социального подъема. Подъем этот всего менее отражается в цифрах. Его трудно показать невидящему и неверящему, потому что он заключается в невесомом, но огромной важности факте: в социальном самосознании.
Выкурив помещика, вооруженное винтовками и пулеметами, крестьянство одно время воображало, что оно с такой же легкостью может уничтожить и город, и государство. Прекратив уплату податей, уклоняясь от мобилизаций, оно с злорадством смотрело на толпы нищих мешочников, которые высылал, к нему голодающий город. На фоне грязных лохмотьев обносившейся городской культуры деревенская овчина казалась боярским охабнем. Когда деньги превратились в бумажную труху, мужик стал есть мясо и вернулся к натуральному хозяйству, обеспечивающему его независимость от города. В городе разваливались каменные дома, деревня отстраивалась: помещичий лес и парк шел на белую избяную стройку.
Это благополучие оказалось непрочным. Вооруженные отряды, отбиравшие «излишки», декреты, приводившие к сокращению посевной площади, голод и людоедство в Поволжье и в Крыму — все это слишком памятно. Отступление партии, длительный, хотя очень медленный подъем деревни (1922—1927) и, наконец, новое разорение последних лет — все время нервирует крестьянина, дразня его трудовой аппетит, но лишая его возможности удовлетворения. В деревне, освобожденной от помещика и от наваждения земельной прирезки, проснулся небывалый голод к труду. Крестьянин словно впервые почувствовал себя хозяином на своей земле: он жадно слушает агронома, бросается на технические новинки, которые еще недавно его пугали. Он рассчитывает, строит планы — и убеждается, что, при данной фискальной системе, самое умное — скосить свой хлеб на сено. Но при малейшей передышке он показывает свою силу. Среди старшего поколения три миллиона побывавших в немецком плену вернулись энтузиастами технического прогресса. Остальные — все посидевшие в окопах или, по крайней мере, в казармах,
277
исходившие Россию из конца в конец, целые годы питавшиеся газетой и опиумом митинговых речей, — как не похожи они на патриархальный тип русского Микулы. Многие до сих пор продолжают бриться и носить городской пиджак. Большинство, разуверившееся в новых фетишах, не вернулось к старым святыням. Мужик стал рационалистом. Он понимает русский литературный язык и правильно употребляет множество иностранных слов. Правда, это скудный язык газеты, и вместе с ним в голову входят газетные идеи. Обычный здравый смысл крестьянина предостерегает его еще от прямолинейного решения последних вопросов жизни. Он не вынесет из избы икон; не бывая в церкви по воскресеньям, он придет туда венчать, крестить, хоронить своих домочадцев. Но на земле для него уже нет ничего таинственного. Он превосходно разбирается в экономических вопросах, столь запутанных в Советской России. Он заглянул и в лабораторию власти, которая утратила для него священное обаяние. Отношение его к советскому правительству весьма сложно.
Мужик уже не склонен ломать шапки перед начальством. Как ни бьют деревню, она не забита. Мужик боится вооруженной силы, пока сам безоружен. Власть может расстрелять десяток-другой из деревенских «кулаков», может спалить все село — в случае восстания. Но когда она является в деревню без военного сопровождения, она не импонирует. Проезжего комиссара всегда могут «обложить» в совете, да и в уездном городе мужик не очень стесняется с начальником: свой брат. Демагогия является необходимым моментом коммунистической деспотии, и демагогия не проходит даром. Нельзя безнаказанно чуть не каждую неделю собирать людей, обращаться к ним как к свободным и властным хозяевам земли, представлять им фиктивные отчеты по всем статьям внутренней и внешней политики. Крестьянин уже поверил в то, что серп и молот должны править Россией, что он хозяин русской земли по праву. А если в жизни он по-прежнему обижен, он знает, что наследники Ленина его обманывают, как прежде царские министры. Ненавидя коммунистов, он не унижается перед ними. Впрочем, и ненависть его к коммунистам лишена классового характера. Она смягчается сознанием, что в новом правя-
278
щем слое все свои люди. Правда, в деревне процент коммунистов совершенно ничтожен. Но трудно представить современную крестьянскую семью, у которой не было бы родственника в городе на видном посту: командира Красной Армии или судьи, агента ГПУ, или по крайней мере студента. Поругивая молодежь, делающую карьеру, старики все же гордятся ею. Да, наконец, и сами партийцы ругают власть. Деревня знает, как много в партии «редисок»: иные и в коммунисты пошли, чтобы лучше тянуть семью или служить своей деревне в сельсовете. И деревенский террор вовсе не целит в коммунистов как таковых: зачастую он направляется рукою коммуниста. Деревня сейчас, вопреки разговорам о «кулаках», представляет небывалое единство в экономическом отношении. Но всегда находится один или несколько паразитов, желающих устроиться на чужой счет: будут ли они называться кулаками, бедняками или колхозниками, председателями или селькорами, это не важно. На них-то и сосредоточивается ненависть деревни. Несмотря на просачивающиеся кое-где требования легализации крестьянской партии, едва ли деревня имеет определенный политический идеал. Бесспорно, выросла ее политическая независимость, но трудно сказать, насколько выросло ее государственное сознание со времени анархического угара 1917—1919 годов.
б) Рабочий класс
Рабочий класс, быть может, несчастнее всех в современной России. Незадачливый диктатор, претендент на роль нового дворянина, он, в отличие от крестьянина, сильно опустился. Революция дала ему титулы (герой труда), знамена, даже ордена, но лишила самого главного: его мечты. Материально его положение почти не изменилось. Кое-где, для некоторых категорий, даже улучшилось немного. На фоне общей нищеты это создавало иллюзию достижений. По «1-й категории» рабочий питался лучше учителя. Хмель социальных привилегий бросался в голову. И нужно сказать, что рабочий, воспитанный на марксизме, принимал как должное привилегии. Превосходство мозолистых рук над мозгом казалось ему бесспорным. Через 12 лет после революции, когда
279
давно пора было улечься классовой ненависти, рабочий находит еще удовольствие в травле инженеров, в истязании врачей. Правда, теперь это уже не торжество победителя, а слепая злоба побежденного.
Нельзя без конца упиваться привилегиями, когда они не реализуется в жизненных ценностях. Рабочий, быть может, один боролся по-настоящему за социализм, жертвовал для него страданиями, голодом, кровью. Его ослепляла мечта о земном рае. И вот он по-прежнему прикован, как каторжник к тачке, к постылому, бессмысленному труду. Обстановка, самый процесс этого труда на фабрике изменились лишь к худшему: статистика несчастных случаев об этом свидетельствует.
При номинальном 8-часовом иди даже 7-часовом рабочем дне сверхурочные часы обязательны. Дисциплина? Здесь трудно уравновесить два ряда противоположных явлений: с одной стороны, прогулы, пьянство — в размерах, невозможных на старой фабрике, с другой — опыты рационализации, тейлоризации, фордизации, подстрекательство к «соревнованиям», придирчивый контроль. Где же свобода? В мастерских шпионы занимают, в правильном порядке, места за станками, чтобы не проронить ни одного слова. Красный директор из выслужившихся пролетариев лишь раздражает вчерашних товарищей, попавших под его тяжелую руку. Комячейка из тунеядцев, которая верховодит всем на фабрике, вызывает зависть и злобу.
Не нужно забывать, какой огромный процент рабочих-социалистов делает административную карьеру — вплоть до постов в Совнаркоме и командующих армиями. Многие из них перестали быть декоративными фигурами и разбираются в деле не хуже других. Но для станка они потеряны безвозвратно. Этого кровопускания «сознательных» рабочих класс вынести не мог. Он стал стремительно падать. Его апатия сказалась в отсутствии культурных интересов. Он перестал посещать лекции, остыл к рабфакам. В то время как государство из кожи лезет, чтобы «орабочить» пауку и искусство, рабочий стал к ним совершенно равнодушен. Пролеткультура оказалась блефом. Рабочий клуб превратился в притон, и в неслыханном пьянстве и разврате рабочая молодежь убивает в себе последнюю
280
искру социального идеализма. Вся работа интеллигенции с девяностых годов в воскресных школах пошла насмарку. Чубаровщина именно пролетарский продукт, и, конечно, никогда в своей страдальческой истории русский рабочий не падал так низко.
в) Советские служащие
Этот класс представляет самый оригинальный продукт русской революции. В нем слились в один весьма сложный сплав остатки старой бюрократии и старой интеллигенции с «новой демократией», отчасти с верхушками пролетариата. Было бы слишком просто сказать, что в этом образовании бюрократия поглотила интеллигенцию и что мы имеем в России типично чиновничье государство. Верно то, что интеллигенция в России исчезла без остатка — интеллигенция в старом смысле, как общество, противополагавшее себя государству. Но, умирая, она завещала бюрократии частицу своего духа, кое-что от своих традиций, хотя и чрезвычайно деформированных. Упрощая, можно было бы сказать, что Россия вернулась к XVIII веку, когда не существовало противоположности между обществом и служилым классом. Конечно, нужно помнить, что это произошло ценою такого давления пресса, при котором всякая свободная деятельность становилась немыслимой. «Свободная профессия» — каторжное клеймо в России.
Саботаж был естественной, но кратковременной реакцией бессилия на государственный переворот. У части интеллигенции мотивы социального служения не допускали саботажа. Униженная, она продолжала служить народу — государству. Перед остальной массой не было выбора: служба или голодная смерть. Втянувшись в ярмо, она работала уже и за страх, и за совесть. У людей, измученных многолетней пыткой и страхом смерти, атрофировалось самое чувство свободы. Примиряясь с рабством, не хотели примиряться лишь с полной бессмысленностью жизни, стараясь вложить как можно больше смысла в свой подневольный труд.
Одним из пороков старой интеллигенции было ее презрение к профессиональному труду. Редко можно было встретить в России человека, призвание которого, в
281
его глазах, совпадало бы с профессией. Теперь почувствовали, что, составляя каталог библиотеки, охраняя музей, выполняют огромное дело — «спасение русской культуры». И в дело вкладывали все еще неистраченные силы, весь подогретый в костре революции энтузиазм жертвы.
Старая бюрократия могла дать интеллигенции свой опыт форм, рабочих приемов, свой дух профессионализма. В общем, в процессе работы, она слилась с интеллигенцией так, что уже ничего не оставалось от старого векового антагонизма. Вчерашний адвокат работает рядом с прокурором — оба юристы, — и старые политические программы уже давно не разделяют людей.
Новые люди приживались медленно. Они входили, как чужие, и занимали лучшие места. Долго длилось взаимное подсиживание, мстительный прижим победителей, злобное шипение побежденных. Новые люди были, мягко говоря, малограмотны и не имели понятия о деле, к которому были приставлены. Зато они были полны кипучей энергии и стремлением все перевернуть вверх дном. Началась трагикомическая борьба (отнюдь не саботаж), где интеллигенция, самая передовая, вынуждена была заняться чистым охранительством, во имя здравого смысла. Шли годы, парвеню обтесывались, учились и если не становились растратчиками и прожигателями жизни (что тоже не редкость), то проявляли иногда большие способности. Во всяком случае, эта группа сообщила советскому механизму тот стремительный темп, тот беспощадный напор работы, который менее всего вяжется с классическим представлением о бюрократии. От советского служащего требуется не только исполнения предначертаний (конечно, и это, и самых противоположных притом), но и собственный почин, изобретательность, творчество. В соответствии с нелепостью основной идеи, огромный процент этих изобретений и этой работы делается совершенно зря. Но не все же зря. Есть обширные сферы чисто профессиональных заданий, которые не могут быть освещены (или искажены) идеей. Тут-то и протекает подлинно творческая работа нового служилого класса. Здесь огромная, пока еще почти только потенциальная энергия, которой лишена была им-
282
ператорская бюрократия и которая может быть направлена на строительство будущей России.
Но, в отличие от старой бюрократии, новому служилому классу не принадлежит власть над Россией. «Партия» держит власть в своих руках. Совслужащие лишь в ничтожной доле совмещают работу в государственном и партийном, аппарате.
Вся масса их, несмотря на огромный и бескорыстный труд, и на двенадцатом году революции остается на положении белых рабов; идеология нового государства не оставляет им места в царстве «рабочих и крестьян».
Как известно, в России это псевдоним буржуазии, то есть торгово-промышленного класса. Тот оттенок нового, «нувориша», который звучит в этом слове, имеет свое оправдание. Вся старая буржуазия в России выкорчевана начисто. Старые семьи среди нэпманов встречаются в виде исключения. Само бытие этого класса весьма прекрасно. Каждый день нэпман может ждать разорения, тюрьмы, ссылки. Государство официально защищает теорию, согласно которой нэпман откармливается, в буквальном смысле, на убой. Эти периодические бойни держат новорожденный класс в очень худом теле. Об обрастании жиром говорить не приходится. Лишь в 1923 году, в первый год настоящего, ленинского нэпа, наживались серьезные капиталы. Можно было говорить о советских миллионерах. Через год уже с этим было покончено. Но самое существование нэпмана столь же неизбежно, как существование крестьянина. Один производит элементарные продукты, другой распределяет их. Без нэпмана, как без мужика, Россия умерла бы с голоду. Это он, в первобытной форме мешочника, спас ее в 1918—1919 годах.
Новый торгово-промышленный класс (более торговый, чем промышленный) неоднороден. И по происхождению, и по функциям он распадается резко на два слоя. Внизу — мелкий торговец, лабазник, непрестанно выделяемый деревней, как желчь — печенью. Деревенский «кулак» искони стремился завести лавку или трактир. В годы мешочничества горячка спекуляции за-
283
хватила самые низы народных масс. Эти вкусы остались, несмотря на большой риск, связанный с промыслом. Городской базар, городская мелкая торговля главным образом держатся выходцами из деревни. Новый торговец сильно отличается от дореволюционного. Он много культурнее; он стремится дать своим детям среднее или высшее образование. По настроениям, это самый консервативный слой России. Но достатки его невелики, фигура его малозаметна: этой незаметностью своей он и спасается, отдавая фининспектору львиную долю своего заработка.
Внизу мелкий торговец — наверху делец-спекулянт. Это совершенно разные типы. Последний может заниматься и торговлей покрупнее — но не начинает с нее. Источник подлинного накопления капиталов в России — эксплуатация государства. Социалистическое хозяйство представляет для этого куда более широкий простор, чем бюрократическое XVIII—XIX века. В голодные годы военного коммунизма предприимчивые люди спекулировали валютой, скупали за бесценок бриллианты, торговали вагонами, хлебом, чем попало. Все эти операции рассматривались как тягчайшие преступления. За них угрожал расстрел. Пойти на них могли лишь очень ловкие люди, со связями в коммунистических кругах. В последующие годы крупный нэпман кормится главным образом вокруг трестов и других органов государственного хозяйства. Он скупает государственную продукцию и сбывает ее мелкому лавочнику. Он в сговоре с «красным купцом» или даже сам числится таковым официально. Он живет в мире растратчиков, взяточников и казнокрадов. Если не смерть, то ссылка и тюрьма всегда висят над его головой. В условиях советской экономики, лояльная организация крупного частного производства или торгового дела невозможна. Разве лишь на территории иностранных концессий.
Этот верхний, или спекулятивный, слой буржуазии в России почти исключительно еврейский: обстоятельство весьма чреватое последствиями для национального развития России — настоящей и будущей. Причины его слишком понятны. Русский купец, оглушенный революцией, не мог и не хотел к ней приспособиться. Оставшиеся в живых русские «буржуи» поспешили обратить все иму-
284
щество в золото или камни, и проедают их до сих пор. Они очутились в подполье, не понимая ничего из происходящих событий. Другое дело евреи. Во-первых, прошлое достаточно приучило их к борьбе за существование в нелегальных формах («право жительства»), равно как и к спекулятивным кредитным операциям. Во-вторых, террор в первые годы революции менее коснулся еврейской буржуазии, чем русской, ибо она имела за собой ореол угнетенной нации. В-третьих, по условиям еврейского быта, купцы и спекулянты были связаны кровными узами родства с революционерами, а значит — и с большевиками. У русского коммуниста очень редко найдется папаша лавочник, у еврейского — сплошь да рядом. Эти родственные связи были использованы в годы террора для разных более или менее нелегальных лицензий. Теперь уже не то. Когда государство бьет по нэпману, оно бьет по еврею, и знает это. Коммунистическая партия потеряла очень большой процент еврейских «товарищей», которые главным образом пополнили ряды новой буржуазии. В партии свивает гнездо антисемитизм, для которого борьба с капитализмом и еврейством (как некогда для Маркса) сливается в одно. Но то же происходит и в народных низах. Рабочий и крестьянин, даже требуя свободной торговли, ненавидит спекулянта. Для парода еврей отвечает вдвойне: и за спекулятивный тип нового капитала, и за коммунистическую партию, которую по традиции, уже устарелой, продолжают считать еврейской.
д) Партия
Партия, не советский аппарат, представляет правящий слой в России. Как ни своеобразна эта форма — «единственной государственной партии» — она уже имеет свой дубликат в Италии. Социологически такую партию нелегко определить, как большинство переходных форм, к числу которых она принадлежит. Созданная в качестве частного, притом антигосударственного союза, она сделалась главным рычагом государственного управления, мозгом и рукой диктатуры. К этому так привыкли, что не удивляются более. А удивляться здесь есть чему. Государственная партия отличается в настоя-
285
щее время от всяких иных партий тем, что она не имеет сама свободного голоса, являясь в той же мере, как и государство, орудием олигархов, или даже единоличного диктатора. Партийный аппарат разветвляется параллельно с «советским», подчиняясь одной и той же направляющей воле. К чему этот дуализм, это удвоение работы, огромный накладной расход? Те, кто смотрит на коммунистическую партию в России как на чисто бюрократический аппарат, как на содержанку государства, не смогут ответить на этот вопрос. В действительности, партия есть организация идеи, и, поскольку она жива, она живет остатками былой идейности. В России имеется, может быть, не один миллион людей, для которых бухаринский катехизис является священным писанием. Пусть вожди, или часть вождей, уже не верят в победу. Но монополия коммунистического слова, монополия школы создали огромные кадры юношей, для которых вне коммунизма нет ничего в жизни. Наиболее верующие и наиболее чистые, как всегда, встречаются среди женщин. Среди женщин — сверстниц Ленина есть окаменелости, напоминающие многими чертами былых шестидесятниц. Но верующие тупицы встречаются и среди мужчин из бывшей революционной среды. Напрасно думают, что коммунисты в России содержатся на государственный счет. Это верно лишь относительно аппаратчиков. Остальные, напротив, нередко должны отдавать партии часть своего советского жалованья и почти весь свой досуг безвозмездно. Главная награда, конечно, — в удовлетворении честолюбия. Партия — единственные ворота в общественную жизнь. Вот почему она привлекает всех активных или беспринципных, желающих играть роль, вести толпу или проводить свои идеи, часто не имеющие ничего общего с коммунизмом. И, наконец, третий — вероятно, самый значительный слой — людей устраивающихся, лишенных честолюбия, но охочих половить рыбку в мутной воде. Если не в партии, то с партийным билетом можно прокормить себя.
От нас скрыты подробности внутренних процессов, протекающих в партии. Общая картина ясна: отчаянная борьба идейного ядра с честолюбивым и корыстным хвостом и не менее отчаянная борьба внутри ядра за потерянный ленинский путь. Ядро тает с года-
286
ми, пожирает само себя, хотя остерегается следовать якобинским методам. Подчиняясь диктатуре одного, растрачивая идейный багаж, партия чем дальше, тем больше утрачивает смысл своего существования. Сталинская диктатура лучше охраняется советским аппаратом ГПУ.
Как складываются отношения между беспартийной массой и партией? Весьма различно. Они теснее в низах, слабее среди интеллигенции. В Москве большинство интеллигенции давно уже пьет чай с коммунистами. В Петербурге от этого воздерживаются до сих пор. Провинция идет посередине. Несомненно, каждый коммунист давно уже оброс хвостом беспартийных друзей и даже родственников, его разлагающих. Но страх доноса создает вокруг коммуниста холодок, который преодолевают лишь немногие. Незримо присутствующая тень ГПУ деморализует почти все общественные отношения в России, но изолирует партию. Быть может, только последние расколы в ней и кары, обрушившиеся на оппозицию, заваливают ров между обывателем и коммунистом, который ведь почти всегда принадлежит — в глубине души, по крайней мере, — к тому или иному оппозиционному уклону.
***
Таковы классы современного русского общества. Его строение стало много беднее, чем в дореволюционное время. Нельзя думать, конечно, что социальная кристаллизация приняла окончательные формы. Напротив, формы эти поддерживаются и в то же время уродуются непрестанным нажимом государственного пресса. Легко представить себе, что, с устранением механического давления, буржуазия получит несравненно более значительное развитие, возродится интеллигенция, в смысле профессий свободного умственного труда, произойдет расслоение деревни. Но, с другой стороны, немыслимо, чтобы 12 тяжких лет, младенческих лет новой России, прошли бесследно для будущего. Сейчас закладывается фундамент, на котором будет строить не одно поколение.
По сравнению с императорской, революционная Россия поражает однородностью своего состава. Крайности сблизились, расстояния между классами сошлись — конечно,
287
ценою обезглавления всего стоящего выше среднего уровня. Но новый средний уровень проходит гораздо выше былых низов. Низы поднялись если не экономически, то культурно — во всяком случае, социально. На улице русского города вы не всегда отличите по одежде и по лицу рабочего от служащего или торговца. И, что гораздо важнее, не отличите и по речи. В культурной борьбе классов победительницей оказалась «новая демократия», то есть низы интеллигенции. Это она навязала рабочему, а частью и крестьянину свой галстук, пиджак или толстовку. Давно прошло время, когда европейский костюм был признаком барства. Если остатки старой интеллигенции чем и отличаются от «народа» по внешности, то лишь тем, что они хуже одеты. Во всяком случае, это верно относительно женщин. Работница носит шелковые чулки, и в ее костюме сказывается отдаленное влияние Парижа. Недаром в эпоху голода и ужасов гражданской войны выпиской модных журналов из Парижа кормились многие из бывших людей. В языке полуинтеллигенция тоже одержала победу, хотя здесь очень сильно и пагубно отразилось армейское влияние. Люди стали вежливее, извиняются беспрестанно, и к старой «барышне» прибавилось «дамочка», отнюдь не означающее буржуйку. Народ в городе говорит полулитературным языком, хотя и сильно замутненным войной и революцией. Зощенко верно схватывает его слабые места, но пародий Зощенки нельзя принимать за этнографическую запись. Народ перестал ненавидеть интеллигенцию с тех пор, как сам стал производить ее. Современные студенты летом косят и жнут со своими братьями и односельчанами и ни в быту, ни в речи не отличаются от них. Можно жалеть о гибели старонародного быта, языка и фольклора, но нельзя не видеть, что общество после революции приобрело гораздо большую устойчивость и цельность. Как это ни странно, оно стало более похожим на Западную Европу некоторой общностью междуклассового культурного фонда и самым содержанием новой культуры. Впрочем, типом социального строения оно скорее напоминает русский XVIII век. Заполнение пропасти между классами, с одной стороны, и между обществом и государством (не «партией») — с другой, создает предпосылки дня нового национального сознания.
288
НОВАЯ КУЛЬТУРА
Говоря о новой культуре, нельзя не задать себе вопроса о судьбах старой: на чем держится преемство традиции, без которого культура вообще невозможна? Зрелище вулканических разрушений не должно закрывать от нас сложных процессов жизни. Основной факт современной русской культуры — ее экстенсификация. Исполинский резервуар, искусственное озеро, наполняемое столетиями, вдруг прорвало плотины и затопило страну. Но среди этого мелководного, подчас болотистого разлива так редки глубокие воды. Россия кишит полуинтеллигенцией, полузнайками, но в ней редко встретишь «культурного» человека в старом смысле слова. Новая школа его уже не дает. Старые человеческие запасы иссякают. «Недорезанные», но задушенные теряют культурный облик. На советской службе, как на заводе Рено, не до книжки; а газету русский интеллигент читать отвык, презирая советские «Правды». За этим презрением — законным — к газете скрывается часто презрение ко всему тому политическому миру, которым газета питается. Когда на улицах Москвы и Петербурга появились, впервые после блокады, «Berliner Tageblatt» и «Temps», их почти никто не читал: отвыкли. Едва ли многие из представителей старой интеллигенции могли бы назвать фамилию французского президента. Но гораздо страшнее: вместе с поверхностной политической пленкой из сознания вчерашнего интеллигента выветриваются и более глубокие слои, дававшие ему некогда право на социальную избранность.
И все же приходится удивляться, как много сил сохранилось. Произошел отбор: не опустившиеся, не превращенные в «поденщиков забот» нашли в себе неожиданные источники сил для творческой деятельности. Областью этой деятельности для многих явилась наука. В России существуют десятки университетов, тысячи научных работников. Среди этих работников большинство — молодежь, прошедшая старую школу университета или по крайней мере гимназии, выученики старых профессоров. Но рядом с ними много внеакадемических людей. Педагог или юрист, общественный дея-
289
тель, придушенные революцией, вспомнили о мечтах юности, о ненаписанных диссертациях и возвращаются к научной работе. Экзамены облегчены, требования понижены. Университет спасает и от тюрьмы (относительно), и от голодной смерти. Этот приток сил отчасти компенсирует огромную убыль от смертности среди старых ученых, не вынесших голодных лет. Конечно, количество за счет качества: все посерее, это уже поскребыши, со дна котла.
В глухой провинции остатки местной интеллигенции группируются вокруг обществ краеведения, бывших «архивных комиссий». Со страстью изучают местную этнографию, областное прошлое. «Режимонализм» — единственная легальная форма патриотизма в России. Нужно молчать об отечестве, но модно пламенно говорить о крае. В этих кругах несут свое служение с аскетическим энтузиазмом, который часто связан с религиозным служением православной культуре. Русская икона — новая, открывшаяся область изучения — служит одним из мостов между двумя мирами: научным и религиозным.
Существует ли высшая школа в России? Это вопрос, на который не так легко ответить. Было время — около 1920 года, — когда почти каждый губернский город гордился своим университетом. Разумеется, такой университет, или ИНО, был не более чем Учительским институтом старого времени. Теперь число их поубавилось, но все же превышает наличие ученых сил России. Нивелировка, децентрализация и здесь сказались в упадке столичных и вообще старых (особенно украинских и Казанского) университетов и сравнительном процветании новых, областных, чаще всего восточных центров: в Саратове, Ташкенте, Баку. Многие кафедры заняты педагогами средней школы или коммунистами с партийным стажем. Но рядом с ними работают настоящие ученые старой или новой формации. Студенты? Их квалификация представляет еще большие трудности. Лишь часть их проходит через среднюю школу. Но современная средняя школа не дает особых преимуществ перед рабфаковцем или партийцем. На приемных экзаменах большинство поражает своей общей безграмотностью. Но профессора нередко не нахвалятся их прилежанием. Упорные кроты «грызут гранит науки». Разумеется, им
290
не наверстать пробелов общего образования. Для этого отсутствуют все средства и возможности. Ни философских кафедр в университете, ни настоящих журналов, лекций, культурной среды, наконец, которая вчера обтесывала разночинца. Но у него остается некоторая возможность выработать из себя узкого специалиста. Плохой врач, плохой инженер, но все же не фельдшер, не простой техник. А главное, почти всегда человек с большой волей, с большим вкусом к «строительству» жизни.
Пройдемся мысленно по коридорам русского университета и вглядимся в молодые лица с определенным вопросом: следует ли смотреть на них как на новое поколение русской интеллигенции или как на совершенно новый класс? Я думаю, у каждого создадутся разные впечатления.
По одежде, конечно, вузовцы не очень отличаются от старого демократического студенчества — во всяком случае, более обращают внимания на нее. По лицам, бритым, грубоватым, судить трудно. Обрывки подслушанных разговоров скорее пугают: порчей литературного языка, простонародной фонетикой, морфологией, синтаксисом. Но все это еще не решающее. Вспоминаешь шестидесятые годы с их надрывом дворянской традиции, с языком «шерамуров». Думается, пропасть между современниками Герцена и Чернышевского была не многим меньше той, которую разверз между двумя поколениями русской интеллигенции 1917 год. Но не выходит ли уже последнее поколение за пределы интеллигенции, а его школа за пределы университета? Старый русский университет — по крайней мере в Москве и Петербурге — за последние годы не уступал лучшим в Германии. Но уже к Оксфорду нельзя подходить с континентальной меркой. А университеты есть и в Америке. Мы готовы сказать: меряя американским (или, может быть, австралийским, новозеландским) аршином, — университеты есть и в России.
В таком же смысле решается вопрос и о средней школе. Она выпускает людей полуграмотных, не имеющих понятия об истории, без древних и, в сущности, без новых языков, со скудными обрывками новой русской литературы. Но она сообщает известную сумму математических, естественнонаучных, технических знаний и, что особенно важно, навыков. На школьных вы-
291
ставках поражаешься технической ловкости маленьких дикарей. Они рисуют, лепят, конструируют модели, чертят диаграммы. Иной может построить аэроплан. Есть школы, где физические кабинеты, и очень недурные, оборудованы руками учеников. И потом, они так много видят, так много ходят с экскурсиями и путешествуют. И музей, и фабрика на них производят впечатление. Они знакомы с элементами статистического обследования и имеют некоторое понятие об экономических явлениях. Не забудем, наконец, широкого увлечения музыкой и спортом. Из советской школы выходят односторонние марсиане, но полные активности люди, — быть может, лучше нас вооруженные для жизни.
Если средняя и высшая школа в России до некоторой степени остаются под вопросом, то бытие Академии, и после недавней ломки, не вызывает сомнений. Детище Петрове пережило Елисаветинский университет. Наука в России не погибла, но сильно стеснена в средствах своей работы. Сотни трудов в рукописях ожидают очереди в скупо отмеренных изданиях. То, что выходит, не вызывает тревоги своим качеством. Университет перестал быть семинарием ученых, но его роль заняли различные институты при Академии, музеи и даже библиотеки, где поддерживается личное общение, на совместной работе, учителя с учениками.
Судьба отдельных наук, конечно, различна. Иные погибли, иные расцвели, в зависимости от случайностей «социального заказа». Физике, например, повезло, благодаря прикладным институтам, связанным с индустрией. Русские физики, среди которых много мировых имен, ведут нелегкую борьбу за сохранение теоретической науки в университете. Но уже чистая математика сильно изувечена. Счастливы дисциплины, которые могут укрыться под сенью «Комиссии по изучению производительных сил России» (геология, почвоведение и др.). Могут работать и биологи, интересующие государство вопросами селекции, евгеники и проч. Но молодежь среди них увлекается и философскими основами науки.
Медицина, конечно, неистребима, поскольку неистребим страх смерти, даже для коммунистов. Но потребность в обслуживании советского аппарата спасла и остатки (практической) юриспруденции от угрожавшей ей,
292
казалось, окончательной гибели.
Теоретическая экономика уничтожена монополией марксизма. Но зато развивается доселе бывшая в пренебрежении экономика практическая и описательная («идиографическая»). Доминируют, естественно, вопросы организации производства и экономической политики.
Сильнее всех пострадал историко-филологический факультет. Он потерял философию совершенно и в значительной мере историю. Лучше сохранились филология и искусствоведение. Почти окончательно погибла, со смертью древних языков, наука классической древности и медиевистика, представленная недавно в Москве и Петербурге двумя большими (может быть, непропорционально для России) школами ученых. Презрение к католической культуре и романо-германскому миру одинаково повинны в советском дискредитировании этой науки. Из всеобщей истории уцелела новейшая, как история революций в марксистском освещении. Да еще торжествует Восток — по всей линии: филологической, исторической, археологической. На первом плане и здесь практическая потребность: подготовка дипломатов и революционеров для работы в Азии, но за этим — и бескорыстное увлечение Востоком как оборотная сторона ненависти к Западу.
Русская история спаслась, несмотря на сознательно антирусскую политику Комиссариата (Покровский). Причины — в социальном и экономическом направлении русской историографии в школах Ключевского и Платонова. Старые марксисты воспитаны на Ключевском и переиздают «Очерки смуты» Платонова, по недоразумению, как образец исторического материализма. Наука русской истории (по давней традиции!), не требующая ни иностранных языков, ни филологической культуры, издавна была уделом демократических слоев студенчества. Продолжает она привлекать их и теперь. У стариков можно заметить иногда, как реакцию против духа времени, возрастание интересов к духовной культуре России, но в печати эти интересы находят лишь слабое отражение.
Как это ни странно, необычайно расцветает изучение русской литературы (только не древней). Эта дисциплина всегда была в позорном загоне в русских университетах. Вместо художественного слова изучались нередко направления публицистической мысли — «интеллигенциоло-
293
гия». Накануне революции небольшая, но ярко талантливая группа отдаленных учеников Потебни подняла бунт. «Формалисты» рассматривают идеи и сюжет «как явления стиля». Антигуманизм и антиидеализм новой школы создали для нее известную неуязвимость со стороны академической Чека. Большевики их терпят, хотя предпочитают им пролетарских Венгеровых с социологическим подходом. Фактически формалисты господствуют. Они развивают огромную рабочую энергию, которой соответствует не меньшая литературная продукция.
И, наконец, искусствоведение. Русская революция, в разрезе со всеми историческими прецедентами, проявила необычайную робость в разрушении памятников искусства. Это объясняется отнюдь не кротостью народной стихии, всегда иконоборческой. Не успел улечься вихрь разрушения, как царские дворцы переименовываются в музеи. Памятники Николая 1 и даже Александра III пережили крушение кумиров. Наконец, в обеих столицах существуют высшие институты искусствоведения, целая Академия истории искусств (под именем Академии материальной культуры), и во всех этих учреждениях бьется полноценная научная жизнь. Здесь не пахнет халтурой. Здесь совершаются серьезные научные открытия. Материалы, накопленные, отчасти изученные после революции, так огромны и неожиданны, что историю древнего русского искусства теперь надо писать заново. Невероятно: в стране безбожия существуют иконописные школы и школы реставраторов иконы. как объяснить это? Здесь возможны две догадки. Во-первых, эстетизм, лежащий в основе одной из большевистских формаций. Об этом ниже. Во-вторых, суеверное уважение марксиста к памятникам «материальной культуры». Есть категория марксистов-искусствоведов, которые больше интересуются составом красок и доской, чем картиной (такова первоначальная идея Академии М. К.). За технологией красок пришлось допустить и фактуру, технику живописи. А дальше — как с литературой: марксист губит казенную бумагу классовой интерпретацией, ученый остается в границах формалистического изучения, свежего и плодотворного. Средства, отпускаемые государством для раскопок, исследований и публикаций чрезвычайно скудны. Но они с избытком восполняются энтузиазмом исследователей.
294
Таковы обломки старого. Их, как видим, немало. Некоторые ветви старой культуры пустили свежие, многообещающие побеги. Но вся эта культурная работа старых направлений остается неорганизованной, необъединённой, Она не выходит из рамок специальных исследований. Она всегда в колодках, как и хозяйственная жизнь. Не доверяя жизненным силам новой культуры, государство сознательно губит старую. Система цензуры, созданная им, действительно превосходит николаевскую. Ее ужас в том, что она чувствует свое родство не с полицией, а с богословием: пытается не пресекать, а учить и назидать; дает «социальный заказ» и печется о «малых сих». Второе ее отличие от николаевской в том, что она нашла в России не первые побеги, а великолепное дерево национальной культуры и поставила себе целью выкорчевать его с корнем. Теперь дело идет не о стихах лишь и романах, а о русской философии, богословии, историографии, социологии. «Поле, усеянное костями» русской мысли, представляет самое потрясающее кладбище из театров великой войны. Французская революция, которая, как известно, «не нуждалась в ученых», нашла господствующим строй идей, в котором коренилась она сама. Русская пришла незваным гостем на чужой пир. Здесь все было ей чужим и все подлежало гибели. Предстояло планомерно выкорчевать вековой лес и заменить его новой пролетарской посадкой. Не вина (и не заслуга) большевиков, если они лишь наполовину успели в этой неблагодарной задаче.
***
Новая культура (для иных все еще только новое варварство) не чувствует себя хозяином ни в университетах, ни в академиях. Однако к ней мы отнесли бы господствующий в искусствоведении формализм. И средняя школа в значительной мере является проводником новых веяний. Но главные органы их — митинг, газета, книга, театр, так называемая советская общественность. Серьезность новой культуры доказывается ее полной победой в художественной литературе: ей служат стихи, и проза, и театр. Нет «советской» науки, но есть «совет-
295
ское» искусство. Но труднее создать продажное искусство, чем продажную науку. Значит, гипотеза продажности не объясняет сути нового явления, хотя было бы невозможно отрицать глубокой деморализации литературных нравов.
Трудность в оценке новой культуры, как и всего в России, заключается в сложном соотношении между коммунистическим и национальным. Их нужно разделять, но нельзя разделять до конца, ибо, несомненно, идеология коммунизма была центром кристаллизации всех новых сил. Лживость, составляющая нормальную атмосферу интеллектуальной жизни в России — оборотная сторона тирании, — мешает уяснить до конца соотношение между новой культурой и коммунизмом. Коммунисты льстят, курят фимиам и стараются лягнуть его незаметно, чтобы тут же отпереться от неосторожных слов. Кадят идолу, чтобы обеспечить свободу служения иным, своим богам. В обстановке всеобщего идоложертвенного культа трудно разобраться в оттенках личных верований.
Представляется несомненным одно: не марксизм лег в основу новой культуры, хотя он завещал ей некоторые из своих элементов. Огромные средства, потраченные государством на пропаганду марксизма, множество журналов, марксистских институтов и академий не дали ни одного серьезного ученого, ни одного талантливого писателя. Россия изрыгнула из себя все лошадиные дозы марксистского яда, как не оставила почти ни одного из портретов и бюстов злого Карла, украшавших все витрины в 1918-1920 годах. Что осталось от марксизма — так это социальный реализм, вернее, цинизм, классовый примитив в оценке социальных явлений. Осталось общее достояние — I Интернационала, скорее Бакунин, чем Маркс. Большевики сумели обязательным катехизисом своей политграмоты отбить вкус к марксизму, вызвать ощущение, близкое к тошноте, у всех, проходящих через ее мытарства. Но не нужно поддаваться иллюзиям: молодые люди, проклинающие политграмоту, не способны в большинстве случаев ни критиковать ее, ни преодолеть. Она остается в их мозгах непереваренным комом, как куча скучных, пошлых истин — но все-таки истин. Освобождение из духовной тюрьмы совершается не на путях социологической мысли.
296
А религиозное или эстетическое преодоление марксизма все еще оставляет на дне сознания каменный балласт классовых и экономических схем.
Марксизм как экономическая доктрина определил сознание лишь первого поколения большевиков (90-е годы). Немногие из коммунистов читали Маркса. Молодежь гораздо более увлекается естествознанием. Дарвин вытеснил Маркса, и народная Россия переживает свои шестидесятые годы. Это эпоха наивного просветительства, юношеского богоборчества — казалось, давно преодоленная русской мыслью. Воскрешение Базарова после Владимира Соловьева — расплата за вековую беспочвенность русского культурного слоя. Новый натурализм — действительно широкое, народное увлечение, не только коммунистический ингредиент. В деревне молодежь спорит со стариками о громе и молнии, о всемирном потопе. Ужас в том, что партии, то есть отсталым, заскорузлым старикам ее, удалось обмануть эту юную пытливость, подменив науку научным суеверием, современную биологию почти столетним дарвинизмом. В то время как молодые биологи в России становятся виталистами и христианами, приобщающаяся к культуре масса принимает материализм как новую научную веру. В этом реальная почва антирелигиозного движения в России, которое держится не одними партийцами, а если партийцами, то второго и третьего сорта.
Марксизм всегда заключал в себе технологический слой, прикрытый у Маркса понятием «производительных сил». Ученики оставили в забросе эту богатую жилу. В Советской России она разрабатывается впервые не столько по требованию теоретической диалектики, сколько из практического интереса. Старый марксист, читавший лекции о фабричном производстве, был не в состоянии разобраться в самой простой машине. Теперь ему или его выученику пришлось стать во главе фабрики, обобранной дотла, и восстанавливать производство. Понятно, что вопросы техники играют в России главенствующую роль, затеняя даже космологические проблемы. И здесь мы имеем дело не только с партийной директивой, но и с широким, низовым увлечением. Никогда в России не было стольких самоучек-изобретателей, как в наши дни. Над Москвой, почти над каждым домом, лес антенн и приборы радио, чаще всего домашнего изготовле-
297
ния. О конструктивных способностях школьника мы уже говорили выше. Много здесь, конечно, маниловщины: такова ленинская электрификация, сталинская пятилетка и прочее. Но есть и живой поток народной энергии, нашедший для себя практическое поле. Интересно, что тут, в техническом восприятии культуры, Россия встречается с ненавистным Западом, и скорее всего с дальним Западом. Мы имеем право говорить об американизме современной России, который отвечает на предсмертную мечту Ленина. Россия отвергает все глубокие слои западной культуры — от античности до либерализма, — но жадно бросается на последние слова ее нового, «американского» дня. Можно очертить приблизительно круг тем, актуальных на Западе, которые вместе с тем составляют комплекс «советской культуры». Тейлоризм, фордизм, радио, авиация, кинематограф, спорт во всех его видах, вопросы практической биологии: омоложение, евгеника, искусственное скрещение видов (человека с обезьяной), победа над смертью (микроб старости) и т. д., и т. п. Весь этот комплекс говорит о молодой и животной жизнерадостности, которую мы привыкли считать почти исключительным свойством англосаксонской расы. Громко кричит потребность комфорта, жажда устроиться прочно и навсегда на этой земле, не нуждающейся в преображении. Эту жажду гениально выразил Маяковский, поэт нового дня:
Надоели нам небесные сласти,
Этот голод по хлебу, впрочем, еще не получил буржуазного отпечатка. Преобладает стремление все перестроить, начать жизнь сызнова, зачеркнув историю. Отсюда социальный революционаризм, который даже для успокоившихся и обрюзгших остается догматом веры. Что Европа сгнила и что только революция может воскресить ее — в этом не сомневается никто из людей новой формации.
Что глубоко отличает современную Россию от России шестидесятых годов, так это ее повышенный интерес к вопросам искусства. О «разрушении эстетики» никто и не помышляет. Впрочем, эстетика и искусство совершенно разные вещи. Сначала об искусстве.
С изобразительным искусством у революции был краткий, но замечательный роман. С самого Октября ле-
298
вые русские художники (назовем их условно футуристами) поступили на службу революции — сознательно и бескорыстно. С революцией их роднила ненависть к буржуазному искусству (сжечь Эрмитаж!), предчувствие небывалых форм жизни. Именно жизни, ибо, разочарованные в поисках новых художественных форм, футуристы провозглашали уже смерть искусству и служение жизни. Этот лозунг мог иметь только один смысл: прикладное, техническое искусство. И новые художники прежде всего явились декораторами революции. Они писали тысячи плакатов, которыми была заклеена умирающая с голоду Россия, они создавали в дни революционных празднеств великолепные декорации на разрушающихся улицах столиц. Иногда им удавались поразительные эффекты, соперничающие с революционными инсценировками Давида. Кубизм, механизм, бесчеловечность нового искусства отвечали геометрической жестокости большевиков. Этот союз для обеих сторон обещал многое. Всякая тирания нуждается в художественном помазании, без нее она недолговечна. Беда большевиков заключалась в низком уровне их эстетической культуры и, главное, в давлении масс. Рабочие и крестьяне требовали здоровой, простой пищи, то есть наивного передвижничества. Власть подчинилась, и народные праздники утратили всякий художественный интерес. Государство поощряет придворных портретистов, бездарных мазилок массовых сцен. Левое искусство выдохлось, ибо — декоративное по существу — оно не может жить без заказчика.
Счастливее оказалось художественное слово. Его брак с революцией не расторгнут доселе. Большевикам повезло удивительно. В то время как почти вся интеллигенция отвергла их революцию, почти все русские поэты ее приветствовали. (Внутренние мотивы те же, что у художников.) В годы гражданской войны Россия могла быть названа «соловьиным садом». Потом многие соловьи замолкли навсегда, и социальный заказ произвел между ними очень суровый отбор. Сейчас стихов почти не печатают в России. Проза вытеснила интерес к ним. Формальным наследством символизма еще живут отсталые рабоче-крестьянские поэты. Сегодняшний день принадлежит настоящему революционеру — к сожалению, разболтавшемуся Маяковскому и Пастернаку, ко-
299
торый посвящает свой умный и холодный талант темам революции.
Художественная проза — самое живое и интересное в новой России. И притом, это в полном смысле детище революции. В России почти не осталось старых беллетристов. Молодые вышли из народа или из новой демократии. Учились «а медные гроши, зато имели богатый опыт жизни: проделали гражданскую войну — конечно, в красных рядах. Они преданы революции, воспитавшей их, и творят красную легенду боевых лет. Это дает им право на известную независимость по отношению к внутренней и внешней цензуре. Большинство их не чувствуют себя рабами и полны гордого и оптимистического утверждения жизни, И здесь, как в живописи, влияние социального заказа, а также примитивность массового читателя сказалось обилием халтуры и воскрешением давно похороненных литературных явлений. Параллельно с передвижничеством революционной живописи возродился социально-дидактический роман 60—70-х годов. Герои Шеллера-Михайлова и Омулевского, переряженные в коммунистов, продолжают просвещать героических девушек и бороться с темным царством. К сожалению, по этой тропинке пошли почти все пролетарские писатели, доказывая духовную слабость своего класса. Немало и крестьянских идейных романов, но здесь не они задают тон. Литература попутчиков свободна от идейности. Но она одна и составляет художественную литературу в России. У новых писателей одна фамильная черта: брутализм. Их тема — примитивная, звериная жизнь, как она выражается в голоде, похоти и убийстве. Война, революция, борьба за жизнь — дают неисчерпаемый запас сюжетов. Быт деревни на первом плане. Мужик изображается пером не барина, а своего собственного сына — с беспощадным реализмом. В этом сильном, хитром, аморальном дикаре (Всеволод Иванов) трудно узнать кроткого мученика народнической литературы. Но Толстой, Чехов и Бунин уже помогают уяснить его генезис. Не все в этой новой революционной «иконе» клевета на народ. Многое надо отнести на счет оголения и озверения революционных лет. Остальное — на счет требований нового стиля. Искусство, отталкиваясь от барской рафинированности вчерашнего дня, неизбежно влечется к брутализму. На этом опас-
300
ном пути, указанном Толстым, еще возможны потрясающие открытия звериной правды о человеке. Возможно и новое мощное чувство природы, не отделенной от темной глубины в человеке.
Большие эффекты достигаются методами изобразительного импрессионизма. Живопись ярких пятен, мазков, выступающих из мрака, без соединяющего линейного контура повествования, впечатляет и раздражает одновременно. Язык освободился от оков литературной речи и упивается народным говором. Тысячи новых слов, иногда очень ярких, иногда просто непонятных, затопили литературу. Русский литературный язык вступил в новую (после Карамзина) полосу влияния. Однако эти черноземные, даже навозные языковые пласты (в России, по-видимому, уже нет непечатных слов) идут на сложную барочную лепку. Влияние символизма не прошло даром для этих примитивистов. Народный «сказ» ведет в школу Ремизова, а потребность в «остраннении» повествования заставляет некоторых (Пильняк) заимствовать даже форму симфоний Андрея Белого. Мучительный, выкрученный, патетический стиль не говорит, а кричит о зареве вчерашних пожаров. У многих русских писателей все еще прыгают в глазах «кровавые мальчики».
Почти все они кажутся или желают казаться совершенными аморалистами. Как на современном портрете, человеческое лицо значит не больше кошки или кухонной посуды. Лишь у немногих (Леонов, Федин) просвечивает нечто от старой русской жалости к человеку. Большинство не уступает в жестокости Стендалю или Флоберу.
Слабость новой литературы очевидна: в ее бесформенности, безмерности, бесстильности. Но за всем этим стоит огромная сила, еще не высвободившаяся от власти стихий, но начавшая завоевание новой земли.
Ни малейшего сравнения с литературой не выдерживает новый театр. Он представляется нам очень интересным, но совершенно беспочвенным. Вернее, социальную почву его нужно искать в ночных московских кабаре эпохи военного коммунизма, где поэты, чекисты и воры объединялись на кокаине. Содержание нового зрелища сводится к жестокому гротеску. Режиссер довольствуется превращением человека в натюрморт, а те-
301
атра — в блестящий цирк. С изгнанием слова театр становится чисто декоративным искусством, но с большим динамизмом движения. Исторически гротескный театр отражает кровавый бред 1918— 1919 годов в гурманском преломлении эстетов.
Театр Мейерхольда ставит перед нами вопрос: как возможно возрождение эстетства в революционной России? Выкорчевывая религию и буржуазную мораль, почему советские цензоры останавливаются перед снобистской эстетикой. Один из напрашивающихся ответов состоит в том, что в такой эстетике видят средство разрушения морали. Но это приводит нас к дальнейшему вопросу об отношении большевизма к морали и значении имморализма в современной русской культуре.
Самое старое поколение большевиков — девятидесятники — были релятивистами в теоретических вопросах морали и аскетами в личной жизни, продолжая полувековую традицию русской интеллигенции. Но уже поколение 1900-х годов воспитывалось в атмосфере анархического индивидуализма: ранний Горький, воскрешенный Писарев, Ницше и Гамсун, Андреев и Пшибышевский, журнал «Правда». Соседство с декадентами, иной раз довольно близкое в 1905 году, привило многим марксистам изрядную долю примитивного эстетизма. Парикмахерское выражение его мы наблюдаем в Луначарском. Но за ним стоит ряд дам, ныне сановниц, и более скромных, и более заслуженных перед художественной культурой России. Этой именно группе мы и обязаны сохранением русских дворцов и музеев. Однако стоящее за этим «консерваторством» мироощущение гораздо менее невинно. Оно оказало и продолжает оказывать большое, чаще всего разлагающее влияние на русскую молодежь пореволюционного времени. Определить его кратко можно так: это базаровщина, пропущенная сквозь брюсовщину.
1917 год сорвал с разрушенных гнезд массу авантюристов, искавших в революции сильных ощущений. Первые перебежчики из интеллигенции на службу новым господам были чаще всего люди без чести и совести. Все это создавало в годы гражданской войны остро пахнущий букет имморализма на верхах советского общества. Общаясь с продажными декадентами и жуирами, разлагались и недавние аскеты. Да и человеческая природа не выносит больших кровопусканий без наркотиков.
302
Идейные чекисты неизбежно ищут забвения в кокаине, разврате или эстетике. Много страшнее, когда эстетический (или голый) имморализм захватывает свежие, здоровые слои революционной молодежи. Но это явление позднейших лет.
С концом героической эпопеи революции тысячи бойцов оказываются выброшенными на мель. Напившись свежей крови, они не желают «питаться падалью» добродетельного строительства. Годы идут, и это строительство постепенно разоблачается как грандиозный блеф. Начинается полоса советских буден, невыносимая для молодых умов, жаждущих подвига. Отсюда разочарованность нового поколения, приводящая к культу официально попираемой личности. Возрождается анархический индивидуализм, вообще характерный для послереволюционных эпох. Из русских прецедентов прежде всего напрашивается арцыбашевский Санин, выразивший «огарочные» настроения молодежи после 1905 года.
Девятидесятники, особенно девятидесятницы, первые забили тревогу. Начались поиски новой, пролетарской этики, долженствующей заменить этику христианскую. Эти теоретические потуги, конечно, обречены на неудачу. Но нельзя закрывать глаза на то, что в новой жизни довольно здоровых сил, которые ведут не без успеха борьбу с моральным разложением. Читая о половом бесстыдстве молодежи — тема, излюбленная и советскими романистами, — мы склонны обобщать эти явления. Они отвратительны, но едва ли типичны. Рядом со слабыми выродками растут здоровые и сильные юноши, которые умеют работать и понимают смысл общественной дисциплины. Революция создала не один имморализм, но и некоторые основы для новой этики: не пролетарской, но коллективистической. Это этика полувоенного типа: в ней много родственного скаутизму, и красные пионеры, в сущности, несут скаутское знамя, социально окрашенное. Служение обществу — в частности, своему коллективу — заменяет личное рыцарство. Жертва и здесь является краеугольным камнем. Пионер должен помогать слабым, женщине на улице, измученной лошади, пожарному, но и милиционеру при исполнении его обязанностей. И эти требования не остаются мертвой буквой. Быть может, в этой пионерской среде только и горит в России социальный идеализм. Уже в комсомольстве к нему примешива-
303
ются (если не преобладают) личные, карьерные мотивы; в этом же возрасте происходят кризисы миросозерцания, опустошающие душу, но и очищающие ее. Среди взрослых коммунистов в настоящие годы принципиальные люди встречаются в виде исключения. Чем больше революция идет на убыль, тем слабее сопротивление коллективистической этики разлагающим началам. Мы имели бы основание прийти в ужас за народ и его будущее, если бы революционным идеализмом исчерпывались духовные ресурсы нации. По счастью, это не так. «Новая культура» не покрывает всех живых сил, которыми спасается Россия. Эти силы — вне культуры, их источники бегут из подземной глубины, и шум этих вод заглушает в России нестройный стук молотков в руках строителей Вавилонской башни.
ЦЕРКОВЬ
В настоящих очерках социально-публицистического характера нет места для изучения идей и духовных реальностей. Реальности эти появляются в них лишь постольку, поскольку облекаются в общественно организованную форму социальной группы, класса, партии. Известно, какую огромную социально-формирующую силу представляет религия. История христианских обществ не может быть построена без истории Церкви. Для классических эпох христианской культуры общество и Церковь совпадают. Однако в эпохи упадка социальное значение Церкви сильно суживается. Историю XVIII и XIX столетий можно писать, отвлекаясь от христианских церквей и сект. Оказалось возможным и историю разложения императорской России схематически чертить без изображения церковного быта XIX века. Быть может, это было некоторым упущением. Картина дворянского упадка могла бы быть дополнена очерком церковного оскудения. Мы увидели бы приниженность духовенства, угодливых и честолюбивых иерархов, сельских священников, погрязших в пьянстве и любостяжании, распущенных монахов: во всей России едва ли удалось бы насчитать десятка два обителей, в которых теплилась духовная жизнь. Для религиозного взора это наблюдение открывает многое: из подробности общей картины оно может стать
304
ключом, объясняющим целое. Именно здесь, в религиозном центре, иссякали духовные силы нации. Но эту связь нелегко показать убедительно для всех. Зато для всех явственно совершается возрождение Церкви в очистительном горниле революции.
Один убедительный факт делает невозможным обойти Церковь в любом изображении русской революции (как возможно обойти ее в кратком очерке французской): о Церковь разбились в России волны разрушительных сил. Из всех организованных сил старой России Церковь одна устояла под напором большевиков. Церковь сделалась центром кристаллизации духовных антикоммунистических сил, ни малейшим образом не связывая себя с контрреволюцией или со старой Россией. И то и другое требует объяснений.
Если бы Церковь была столь же слаба в России, как в старой Франции, большевики, конечно, не задумались бы поступить с ней по методу якобинцев: закрыть все храмы и расстрелять священников. В недостатке решимости или ненависти к христианству их подозревать не приходится. Они терпят культ потому, что рабочие и крестьяне в нем нуждаются и не позволят отнять его. С другой стороны, несомненно, революция вызвала широкий отход от Церкви или охлаждение к ней. Однако это охлаждение было далеко от прямой ненависти. Народ стал религиозным минималистом, скептиком, если угодно, только не богоборцем, каким хотела бы его сделать коммунистическая партия. Народ допустил вскрытие мощей без всякого протеста, народ допустил, хотя и с протестом, ограбление храмов, но он не допускает их закрытия. Он по-прежнему крестит в них своих детей и отпевает покойников: в деревне даже гражданские браки большая редкость. Этот минимальный ритуализм уживается с рационалистическим разложением религиозного сознания, о котором мы говорили выше.
Почему народ не пережил активной ненависти к Церкви, подобно передовой интеллигенции? Нужно думать, что грехи духовенства не были столь тяжки в народных глазах, чтобы поставить попа на одну доску с барином. Средний тип русского священника, в своей убогой простоте, обезоруживал народное сердце. Народ не уважал духовенства, но не питал к нему злобы. Встреча-
305
лись среди священников и праведники, которые примиряли ожесточенных. Праведники были, конечно, во всех сословиях. Но барин — бессребреник и филантроп — оставался чужд народу в своем духовном облике и потому подозрителен. А христианская святость была насквозь понятна и обаятельна. Но Церковь была дорога не служением пастыря, а красотою обряда, с которым сросся кровно народный быт.
Вот общий фон, на котором развертывалась драма русской Церкви. Тяжек ее первый акт — режим террора и острого гонения, в который была сразу поставлена Церковь Октябрьской революцией. Кадры ее активных деятелей и сторонников сильно поредели. «Церковники» — это уже не народ, а группа, лишенная всенародной поддержки и сочувствия. Заседания Московского собора заглушаются громом гражданской войны. Из кого же состоит эта поредевшая, но сплоченная церковная среда, ведущая борьбу за Церковь? Разумеется, ядро ее составляют люди консервативного православного склада, для которых Церковь не только религиозная, но и национальная святыня. Большинство их не примирилось с горечью утраты Помазанника, и в своем противодействии революции не делало различия между Февралем и Октябрем. Многие надеялись, что Церковь объединит все живые, то есть национальные, силы и спасет Россию. Эта надежда заставляла льнуть к Церкви и людей, чуждых ее догматам, отвыкших от ее уставов. События, казалось, предназначали русскую Церковь для активной борьбы с революцией. Но Церковь не пошла по этому пути. После первых колебаний (начала 1918 г.) она решительно вышла из политической борьбы.
Патриарх Тихон был символом аполитической Церкви, и его отказ благословить белые армии (лето 1918 г.) — знаком нового дня. Его позиции, столь трудной для многих активно патриотических церковников, невозможно объяснить оппортунизмом. Служение Церкви в годы террора было само по себе исповедничеством, которое для тысяч и тысяч стало подлинным мученичеством. Явилось ли у патриарха и окружавших его вождей Церкви тогда уже сознание обреченности белого дела? Мы не знаем. Это могло бы быть не столько политическим расчетом, сколько внутренней интуицией, прозрением в сущность еще неясных событий. Состоя-
306
ние народной души было скорее открыто для иерархов и пастырей, чем для увлеченных идеей интеллигентов. Но все это соображения, лишенные глубины. Истинный смысл отрицательной тактики (аполитизма) Церкви — в положительной духовной жизни, в ней раскрывающейся. В громах апокалипсических событий, обрушившихся на русскую землю, в этой, казалось, финальной катастрофе перегорали все земные, часто слишком земные, узы, соединявшие Церковь с обществом и государством вчерашнего дня. России может не быть, но вечен Христос. Сегодняшний день может быть последним днем истории: войдем в себя! Церковь аскетически и мученически отрекалась от России, слагая с себя печаль о ее земном теле. То, что заместило национальное сознание Церкви в годы революции, была святость. Ее необычайный расцвет в смертные годы — такой ответ на вывоз революции был возможен, разумеется, лишь потому, что русская Церковь не растратила живущих в ней потенций святости. Несмотря на видимую упадочность XIX века, традиция святости не прерывается в Церкви, и можно даже наблюдать к концу века нарастание этих внутренних, мистических сил. Несомненно, подготовлялось возрождение церковной жизни, хотя оно ничем еще не сказывалось в ее иерархическом и бытовом строе. Понадобилась революция, то есть последнее отчаяние, чтобы вывести святость из затвора кельи на широкую арену Церкви и мира.
Революция была мечом, разделяющим — живое от мертвого. В тех же семьях, в тех же условиях жизни одни ожесточались или оподлялись в животной борьбе за существование, другие достигали высокого просветления. Мы все знаем этих униженных и оскорбленных, которые находили силу простить врагам, нередко признавали заслуженность и справедливость самого своего падения. Сколь многие, в итоге пустой или легкомысленной жизни, находили в себе силы, подобно последнему русскому царю, умереть с мужеством и достоинством христианина. Люди этого типа, а не политики определили судьбу русской Церкви в годы революции. Политики, пытавшиеся взяться за церковный руль, погибли в гражданской войне или ушли из России; оставшиеся в ней духовно выросли и смирились. Целые годы продолжалось это очищение Церкви кровью мучеников и аскетическим пре-
307
быванием во внутренней пустыне. То, чего не успел сделать палач Чека, доделал Тучков из ГПУ, вытянув из Церкви последние старорежимные соки в «обновленчество», в «живоцерковство». В этом расколе добросовестно запутались и люди демократического склада, обманутые лукавой диалектикой революции, подобно сменовеховцам и евразийцам. Но основную массу обновленческого духовенства составили «попы», которые больше всего на свете боялись мученических венцов и не могли вынести тяжести разрыва с государством. Если не царская, то хоть революционная, но власть, — эти люди не могли жить без политического заслона. С уходом их, аполитизм Церкви закреплен окончательно.
Для этих первых лет аскетического очищения Церкви характерно возвращение к ней значительной части интеллигенции. С отходом от Церкви народных масс это проникновение в нее нового слоя, ранее чуждого ей, заметно окрасило ее состав. В городах это бросалось в глаза при первом взгляде на молящуюся толпу, переполнявшую храмы. Разнообразны были мотивы, определявшие обращение блудного сына. Мы уже говорили о политиках. Для многих, потерявших все на свете, в беспросветном отчаянии и одиночестве Церковь была единственным прибежищем. В пошлости и гаме революционной улицы удивительной красотой звучало торжественное тысячелетнее слово и византийский обряд, уводящий из царства красных флагов. Но не из раздавленных калек, не из опустошенных эстетов слагалось новое церковное общество. Обращение интеллигенции, то есть части ее, было естественным завершением мощного движения русской культуры конца XIX и начала XX века. Школа Достоевского и Вл. Соловьева владела умами последнего предреволюционного поколения. Символизм в лице самых мудрых своих провидцев подводил к порогу Церкви. Гром революции лишь ускорил неизбежную развязку. В 1918-м и следующих годах ряд профессоров, писателей и поэтов принимают священство. Другие отдают свои силы Церкви в Богословском институте (Петроград), на церковной кафедре, теперь открытой для мирян, в тайных кружках и братствах. Новые люди принадлежали в недавнем прошлом к самым разным политическим партиям. И теперь они отличаются направлениями религиозной мысли. Преобладают мисти-
308
ческие настроения и идеи (имяславчество); апокалиптика упраздняет социальные и национальные проблемы. Повышенная страстность, радикализм в постановке вопросов и жизненном их решении заметно отделяют эту группу неофитов от спокойной сдержанности наследственного духовенства: так Волгу долго окрашивают в свой цвет камские воды. Интеллигентский радикализм иногда заставляет этих людей, переступающих порог Церкви, приносить изуверские жертвы. Не редкость — полное отрицание культуры, проповедь мистического нигилизма. Эти настроения особенно опасны ввиду стремительного падения старой культуры и трудности сохранения ее уровня. Есть люди, которые уже ничего не читают, кроме Добротолюбия. Но другие приносят в Церковь свою науку, свое искусство, ища освятить в ней свое творчество. В Церкви происходит огромное накопление культурных сил, лишь насильственно обреченных на молчание. Но легальная культура представляет лишь малый сектор духовной жизни России. В подпольной борьбе христианства с безбожием все преимущества культурного вооружения на стороне Церкви.
Конечно, Церковь не вобрала в себя всей старой интеллигенции. Процесс оцерковления ее замедлился через несколько лет и, кажется, остановился, разделение прошло здесь, главным образом по моральной линии. Но нельзя отрицать, что и страх духовной реакции, то есть мистико-эсхатологических идей удерживает многих на пороге. Даже среди интеллигенции церковники — это меньшинство, но меньшинство сильное, подвижническое, жаждущее завоеваний.
Выход из подполья патриаршей Церкви с освобождением патриарха (1923) знаменует начало церковной экспансии. Период аскетического сосредоточения собрал и дисциплинировал огромные силы, которые теперь отчасти устремляются на завоевание мира. Проблема России, не погибшей, но погибающей, опять становится в центре религиозного зрения. Но спасение ее мыслится не на политических путях. Отвоевание масс у антихриста, новое крещение Руси — вот поставленная цель, которая объясняет политику преемников почившего патриарха: их тягу к легальности.
Среди новой демократии, среди студенческой молодежи религиозные искания заметны давно. С первых лет революции в религиозных кружках встречаются комму-
309
нисты, бывшие или даже настоящие, которые ищут духовного осмысления своей работы. Марксизм явно не может быть духовной пищей. Обыкновенно к концу университетских лет молодежь разочаровывается в нем. большинство — чтобы отдаться потоку буржуазных настроений и практическому завоеванию жизни; меньшинство — чтобы искать нового идеала. Среди молодежи, отдавшейся науке, аспирантов на кафедры, особенно много христиан. Но не требуется большого научного аппарата, чтобы разобраться в безграмотном хламе антирелигиозной литературы. Новое поколение малоинтеллектуально. Оно решает вопросы веры нравственной интуицией. Борьба идет не между верой и разумом, но между двумя верами. И здесь обаяние мученической Церкви вырывает чистые сердца и воли из власти лживой, духовно разжиревшей коммунистической секты.
За молодежью — рабочие. Среди рабочих петроградских окраин и в годы революционного угара митрополит Вениамин пользовался большой популярностью, — как в Москве патриарх Тихон. Это было, конечно, меньшинство — люди семейного, традиционного уклада, особенно связанные с деревенской родиной. Но за последние годы церковные настроения среди рабочих растут. Они уже кое-где на скудные гроши строят храмы, преодолевая страшное сопротивление храморазрушителей. Возвращаясь в Церковь, рабочий опережает крестьянина. Он несчастно других. У него нет уже никаких политических или социальных надежд. С другой стороны, его нервная, беспокойная душевная организация более способна к идеалистическому подъему. Без идеалов он не может жить и падает на дно, не поддерживаемый бытовым и хозяйственным укладом жизни. Отсюда это соединение разгула и жертвенности, разврата и религиозности в одной и той же среде, характеризующее современное состояние рабочего класса в России.
И, наконец, в самое последнее время, поскольку можно судить отсюда, религиозное возрождение захватывает и деревню. В народных низах, в деревне, как и в городе, у Церкви есть соперник в лице баптизма и вообще рационалистического сектантства, сильно выросшего в России. Сектанты имели перед православным духовенством преимущество старых гонений и, следовательно, морального авторитета. Они умели соединять свой пла-
310
менный евангелизм с социальным радикализмом, искренним в их среде, в отличие от скомпрометированных морально обновленцев. Они опередили Церковь в христианизации народных масс. Но постепенно и Церковь выходит на народную ниву.
Это медленный процесс, и мы присутствуем при самом его начале. Два течения: рационализация народного сознания и его христианизация — протекают одновременно и параллельно. Это значит, в глубинах происходит жестокая борьба миросозерцаний — самое важное из того, что совершается в России.
Борьбу эту нельзя рассматривать как продолжение борьбы старого с новым. Христианство — не старое, но вечное, а «новое», против чего оно ведет борьбу, — уже слишком старо и обветшало. Нельзя думать, что успехи Церкви в России равнозначны с победами старой культуры. У Церкви нет оснований отрицать техническую или физическую направленность новой культуры. Молодежь, становясь религиозной, не перестает интересоваться спортом и машиной. Даже церковные организации молодежи, о которых доходят глухие слухи, должны считаться с этими настроениями умов. Церковь, порвавшая мнительно с кровной для нее традицией православного царства, не станет защищать интеллектуальных или эстетических идеалов XIX века — ей чуждых. Пока еще рано говорить о творчестве церковной культуры в России. Для этой работы в Церкви нет ни внешних, ни внутренних возможностей. Она живет первичным религиозным актом, по ту сторону всякой культуры, Но этот акт заключает в себе огромную динамическую энергию, источник всякого творчества. Из этого резервуара духовных сил будут питаться все живые направления русской культуры. Именно все — а не одно из них. Победа Церкви не обеспечивает торжества консервативных или прогрессивных начал в культуре. Она обеспечивает жизнь, то есть творческую глубину самой культуры. К этому можно прибавить лишь одно. Церковь не знает прерывов в своем росте, и каждый прошлый день сохраняется ею для вечности. Поэтому она воссоздает непрерывно единство прошлого и настоящего и в этом смысле является в России единственной носительницей духовного преемства — тем ковчегом, на котором спасается все живое (но только живое) в потопе революции.
311
Страница сгенерирована за 0.08 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
