13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Новое отечество
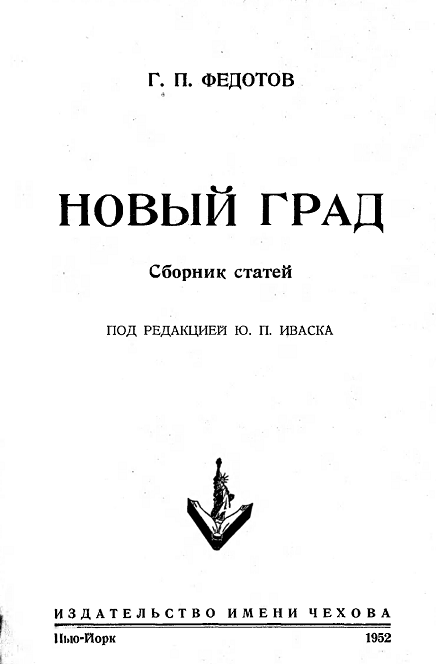
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
(«Новый Журнал», IV, Нью-Йорк, 1943.)
Dulce et decorum est pro patria mori.
Гораций.
Патриотизм есть последнее убежище негодяя.
Д-р Джонсон и Лев Толстой.
Современная война в своем пафосе, в своих осознанных и полуосознанных целях, таит одно противоречие. Вскрыть его нужно не для того, чтобы бередить раны, по старой русской привычке, но чтобы помочь его преодолению. По отношению к военной политике люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что говорить сейчас, до победы, о мире преждевременно. Другие думают, что важно выиграть не
88
только войну, но и мир. Страшнее всего проиграть мир, после всех нечеловеческих усилий и жертв. Проиграть мир после победы значит очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как после 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и беспомощно — и уже безнадежно, — поплыть по течению к конечной гибели. О защите будущего мира нужно думать уже сейчас, со всем напряжением умственных и духовных; сил. Признаемся, что мы разделяем мнение людей этого лагеря и потому не считаем преждевременным говорить о противоречиях войны.
Основное противоречие ее — между интернационализмом ее целей и национализмом сражающихся народов.
Еще осенью 1939 года, в первые дни войны, интернациональная нота ясно прозвучала в устах английских и французских ответственных вождей. Эта война не только ради самозащиты. Она должна привести к установлению нового международного порядка. Мир должен быть гарантирован прочно, общей властной организацией, отличной от безвластной Лиги Наций. С тех пор эта нота не переставала звучать, в последнее время всего громче в устах американских государственных деятелей (Кордель Холл). К сожалению, Атлантическая Хартия, единственный обязывающий документ со стороны «союзных наций», очень скупо говорит о новом порядке, стоя скорее на старой позиции самоопределения народов. Эта скупость, конечно, не случайна: она говорит о больших трудностях, стоящих на пути к новому строю.
Трудности множатся по мере развития войны. Если, с одной стороны, медленно — слишком медленно — растет и укрепляется экономическая, военная и политическая связь между союзными державами, то, с другой, растет и обостряется национализм порабощенных Германией народов. Неслыханные насилия и унижения национального чувства вызывают естественную человеческую реакцию. Даже люди, вче-
89
ра равнодушные к судьбам отечества, потеряв его, переживают по отношению к нему вспышку страстной любви. Хорошо говорить о будущем порядке тем, кто живет в уютном прадедовском доме и думает застраховать его от пожара и войны. Но о чем могут думать миллионы беженцев, выгнанных с родины, или люди, превратившиеся во «внутренних эмигрантов», как не о возвращении родины? Возвращение, «старый порядок» — становится сладостной мечтой. Активные, горячие, живущие борьбой, мечтают о мести. По человечеству нельзя осудить их. Миллионы истребляемых евреев, поляков, сербов, как и униженных и оскорбленных французов, голландцев и норвежцев горят сейчас одной мыслью: уничтожения Германии. Легко себе представить, что ни о чем другом не думают и в Советской России. По крайней мере, ни один звук не донесся оттуда, который мог бы быть истолкован в смысле универсальных целей войны. Там война переживается, как национальная, отечественная, освободительная. О том же, и только о том, говорит и генерал де Голль в своей программе: восстановление Франции и ее империи — вот идеал свободной или «воюющей» Франции. Без сомнения, этот взрыв патриотических чувств в порабощенной Европе является одним из мощных факторов победы. Люди, потерявшие национальное сознание, легко примиряются с немецким завоевателем. Нельзя не предпочесть, политически и морально, национализм де Голля пацифизму де Мана. Но ясно, каким огромным препятствием для организации мира является весь этот котел кипящих, взаимно непримиримых национальных страстей.
Нет, не «свободные» (т. е. порабощенные) народы и не СССР пронесут сквозь ад войны образ нового мира. Если кто может думать о нем, если у кого не захлестнуло разума волной «праведной» злобы, то это две великих англо-саксонских демократии. Здесь еще есть люди, которые помнят не только о победе,
90
но и о мире. Но и здесь нет единства. Мы видим две Америки: Америку Рузвельта, великодушную и дальновидную, сознающую ответственность за оба полушария, — и другую Америку, вчера еще изоляционистскую, которая теперь согласна лишь на войну во имя национальных целей. Вероятно, та же борьба происходит и в старой Англии, но до нас доходят сюда лишь слабые ее отголоски.
Невозможно видеть в этом споре о целях войны старую тяжбу реалистов и идеалистов. Слишком ясно, что в данном случае реалисты просто слепцы, которые идут к своей и всеобщей погибели. Их реализм — паралич ума и воображения, а не рассудительность опыта, законно ищущего в прошлом опоры для жизни. Даже тогда, когда «идеалисты» и «реалисты» говорят как будто об одном и том же: о гарантиях будущего мира, о международном правопорядке, они говорят о разных вещах. Для одних речь идет о поддержке старого национального отечества средствами международной полиции, для других — о создании нового сверхнационального единства. Последний вопрос, разделяющий их, есть вопрос о суверенитете. Кому принадлежит верховный суверенитет: сегодняшнему национальному государству или сверхнациональному государству завтрашнего дня?
Безумна и революционна наша жизнь с ее неслыханными темпами. Она ставит проблемы, которые далеко опережают сознание большинства. Многое, бывшее вчера утопией, сегодня становится неотложной необходимостью. Есть объективные требования жизни, которые вытекают не из нравственных идеалов передового меньшинства, а из ее собственной логики. Было время, когда социализм или проблема вечного мира были идеалом, постулатом нравственного сознания. Теперь, как социализм — в новом аспекте организованного мирового хозяйства — так и пацифизм — в форме принудительного международного порядка, диктуются самосохранением нашей культу-
91
ры. Нам уже не дано решать, что лучше, что хуже организованное или свободное государство, национальный или международный суверенитет. Здесь выбор не между двумя формами жизни, а между жизнью и смертью.
Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обуздание национального государства, а не одной Германии, как склонны часто упрощать дело. Германия, действительно, воплощает сейчас дух агрессии. Но одна ли она им одержима? Уберите Германию с карты Европы — даже без всякой возможности ее возвращения — можете быть уверены, что преемник ей скоро найдется; если оставить неприкосновенной систему сосуществования суверенных государств.
1.
Есть доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. Уничтожение фашизма есть, таким образом, лучший путь к обеспеченному миру. Действительно, в настоящую эпоху мы не видим воинственных демократий. Но сам фашизм является скорее порождением националистической горячки, чем ее отцом. Это верно, по крайней мере, для Германии и Италии. А Япония сумела воплотить тоталитарно-национальный идеал и вне своеобразных форм фашизма. Искоренение политического фашизма еще не спасает от острого националистического заболевания. И этот национализм всегда найдет для себя тоталитарные формы. Демократия не пригодна для народа, который делает войну идеалом своей жизни. Для тоталитарного, военного воспитания деспотизм, в том или ином виде, единственно возможная государственная система.
Не следует придавать поэтому решающего значения тому факту, что за двадцать лет от Версальского мира до новой войны агрессорами являются фашистские державы (да и здесь сомнительно понима-
92
ниe Японии как фашистской страны). Опыт этого двадцатилетия учит другому: опасности суверенного Национального государства и в то же время его беззащитности. Оно опасно в своей силе, беззащитно в своей слабости. Никто не спас Манчжурии, Абиссинии, Албании, Австрии, Чехии, несмотря на существование мирового арбитра — в Женеве. Лига Наций не имела суверенитета, а суверенитет народов (кроме агрессоров) оказался для них роковым преимуществом: это он был источником их беззащитности.
Люди, ориентированные на прошлое, и притом ПС очень давнее, мнимые реалисты, живущие в XIX столетии, отвечают: когда же это было иначе? Безопасность вредная утопия. Жизнь опасна, свобода опасна. Война стара как человечество. Войны задерживали прогресс, но не могли остановить его. Мир — не вечный, но длительный — покоится не на сверх национальной организации, а на временном равновесии сил.
Говорящие так не отдают себе отчета в том, что чудовищная техника наших дней в корне изменила нее условия жизни. Теперь количественные различия, обусловленные техникой, переходят в качество. Невозможна свободная езда по дорогам, пересекаемым тысячами автомобилей. Невозможно сохранение личных патриархальных отношений хозяина и рабочего и современной фабрике. Невозможна свобода войны и мира для государств, вооружения которых способны взорвать на воздух всю нашу цивилизацию. Война перестала быть бурей, грозой, подчас живительной. Она стала чем-то вроде болезни, все разлагающей и неизлечимой. За двадцать лет еще не были залечены раны первой войны. Экономическое расстройство, порожденное ею, превратилось в общий кризис. Вызванный ею же подрыв демократического сознания привел к фашистскому обвалу в половине Европы. Ослабление великих европейских наций поставила на очередь восстание цветных материков против гегемонии белой расы. И через двадцать лет новая
93
война начинается с того места, на котором остановилась первая. Реванш побежденной Германии, в союзе с ненасытившимися партнерами старой антигерманской коалиции, делает новую войну продолжением первой. Это значит: война не кончается, не может кончиться, пока не останется камня на камне от нашей цивилизации, или пока эта цивилизация не найдет своего политического единства.
Изолированное государство более не может существовать. Оно не способно организовать ни своего хозяйства в слишком узких границах, ни своей безопасности слишком слабыми силами своих армий. Оно должно найти в себе силы для более широкой интеграции или погибнуть.
Как ни нова и ни беспримерна мощь современной техники, сама проблема интеграции политических организмов, принадлежащих к культурному единству, стара как мир. Время от времени, человечество — или, вернее, отдельные его цивилизации — чувствуют себя стесненными в старых политических рамках. Под влиянием новых культурных потребностей, но почти всегда путем войны, старые общества-государства вступают в новые высшие соединения. Греко-римские городские общины сливаются в Империи, феодальные княжества в национальные государства. Процесс тяжелый и мучительный. Нелегко иберу или галлу подчиниться римскому игу, или Великому Новгороду смириться перед Москвой. Но история неумолима. Ценой отказа от узкой независимости-суверенитета культура покупает себе возможность жизни, роста, процветания, уже не в Нормандии, не в Новгороде, не в Афинах — а во Франции, в России, в космополитической Римской Империи.
Опыт Рима особенно поучителен для нашего времени. Рим интегрировал не одну национальную культуру, а все многообразное единство средиземноморских культур, уже давно тяготевших к единству, не-
94
смотря на пестроту национальных и местных антагонизмов. И культура, которую он защищал своим мечом, была не его, национальной, римской культурой, а эллинистической, т. е. скорее всего греческой или греко-восточной — по своему сознанию, уже вселенской. И все же то был очень болезненный процесс, На пути к единству пролились реки крови. Старые отечества не хотели умирать. Рим и Карфаген, Рим и Босфор, Рим и Испания, Рим и Галлия — сколько жестоких вековых поединков! Несмотря на далеко зашедшее культурное единство Средиземноморского мира, национальные или локальные чувства были сильны. Замечательно, что они были сильнее у варваров, чем у культурных греков или сирийцев. Не одно гражданское вырождение Востока было тому причиной, но и космополитическое сознание, прокладывающее дорогу римской государственности.
Сейчас мы живем в таком же противоречивом мире, объединенном хозяйством, наукой, техникой, укладом жизни, в значительной мере даже искусством. Действительно, искусство наших дней, в его высших и низших проявлениях, одинаково удалилось от романтического идеала национального искусства, которым жил 19 век. По существу, культурные различия между народами Европы не более значительны, чем между княжествами средневековой Франции, и совсем уже несравнимы с пестротой древних культур Средиземноморья. Но политика и здесь, как и везде, отстает от жизни. Государственное сознание остается прикованным к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы. Отсюда кровавые муки родов нового великого отечества!
Что это будет за отечество? Косная мысль пугается огромностью встающего мира и хочет облегчить себе переход к нему. Завещанные 19 веком привычки эволюционной мысли соблазняют ложным реализмом постепенности. Не все сразу. Мы не созрели до мирового отечества. Ближайший этап перед нами —
95
это система федераций: Центрально-Европейская, Восточно-Европейская, Дунайская или Балканская плюс уже существующие: Британская, Российская и т. д. Для многих сейчас это единственно мыслимое завершение войны! Но что же это за решение? Что оно решает? Какая из этих федераций обладает действительной автаркией? Какая может обеспечить свою безопасность своим собственным мечом? Ведь это чистый предрассудок — хотя и лестный для представителей великих наций — что только малые государства нежизнеспособны, беззащитны и опасны для общего мира. Как ни бессмысленны мелкие конфликты Юго-Востока Европы, не они взорвали мир. Конфликты между великими державами куда опаснее: франкогерманский, германо-русский, германо-славянский. Европа, разделенная на четыре-пять федераций, представляет такой же пороховой погреб, как и Европа тридцати национальных государств. Да и легче разрешаются конфликты в великом целом, чем в малом. Не Балканской федерации замирить вековую ненависть ее народов; это по силам какой-нибудь Пан-Европе. Совершенно так же, как распри народов Кавказа разрешатся не Кавказской Федерацией, а, по крайней мере, Всероссийской. Следовательно, и осуществление великой Федерации не труднее, а легче осуществления малых, вопреки близорукому реализму постепеновцев.
Отказавшись от идеи областных федераций, не возвращаемся ли мы к знаменитому проекту Пан-Европы? Но война произнесла над ним свой окончательный суд. Европа без Англии, центрированная вокруг Германии — теперь это чисто немецкий идеал. Но если Англия или даже Англо-Америка становятся средоточием и даже организующей силой, то это уже не Европа — по крайней мере, в географическом смысле. Англо-саксонский мир, расселившийся по всем частям света, плюс истощенная войной Европа, которая может быть теперь только придатком к нему —
96
вот первые очертания будущего отечества. Культурно и духовно, это все та же Европа, т. е. предел распространения былой греко-римской и христианской культуры, еще поныне живых и живительных в своем наследии. Кто присоединится к этой духовной Европе из вне лежащего мира, сейчас невозможно предвидеть. Это будет делом текущего политического дня, тогда как создание «европейского отечества» — дело, подготовленное тысячелетней историей. Европа уже существует как нация в культурном смысле, — хотя и разделенная междоусобицами, — она должна лишь создать для себя политическую форму.
Дальнейший рост этой океанической Европы зависит от напряжения культурных сил — по крайней мере, социальных и политических. Здесь могут быть всякие неожиданности. Так Китай или Индия, при всей глубокой несродности нам их древних цивилизаций, в настоящее время разделяют наши нравственно-политические предпосылки, выросшие на христианской основе. Быть может, они даже являются лучшими защитниками этих начал, чем сама духовно надорванная Европа. С другой стороны, всем прошлым своим связанные с Европой Германия и Россия, по крайней мере, сейчас, остаются вне Европы, как духовно-политического единства. Фашизм не совместим с традициями старой Европы, — более того, он для нее смертелен. Лишь внутренне и свободно преодолев фашизм, страны диктатуры могут искренне согласиться на вступление в новое великое отечество. Преодоление фашизма здесь не единственное условие. И простой национализм, до известной степени законный, но реакционный и несовместимый с завтрашним днем истории, будет противиться отказу от государственного суверенитета. Для патриота это будет казаться непосильной жертвой. Отчаяние и безнадежность иного существования облегчают объединение порабощенных народов. Но сильные, победоносные, или, хотя бы и побежденные, но стойкие до конца не пойдут — долго не
97
пойдут — на акт, который будет им представляться национальным самоубийством.
Но, может быть, здесь и лежит подводный камень, обрекающий на крушение все планы нового политического мира? Вне Европы останутся огромные массивы, ранее входившие в ее состав. Не расшатает ли это с самого начала задуманное построение? Думается, что трудности, вытекающие из ограниченности будущего отечества, не являются непреодолимыми. Существенно лишь то, чтобы оно сосредоточило в своих руках подавляющий экономический и военный потенциал, — который бы делал борьбу против него невозможной. Тогда разоружение мира перестанет быть утопией. Государства и народы, цепляющиеся за свою суверенность, могут быть связаны с мировой державой договорными отношениями, делающими и для них возможным участие в экономической и культурной организации мира. Конечно, главная опасность именно здесь: опасность будущих конфликтов и войн, связанных с независимостью национальных государств. Возможно, что недоделанное в этой войне будет докончено в будущей, как ни страшно об этом думать. Во всяком случае, выбора нет: единство или гибель.
Утопизм, которым отличаются почти всегда разговоры о едином отечестве, характеризует не самую цель, а предполагающиеся средства к ней. Утопична, в самом Деле, мысль, что пятьдесят независимых государств могут в один прекрасный день на общей конференции — в Женеве или Вашингтоне — никем не принуждаемые, совершенно свободно отказаться от своего суверенитета. Но совершенно не утопична, напр., мысль о возможном завоевании мира — в одном или двух поколениях — сильнейшей мировой державой. Завоевание Европы Гитлером уже почти совершившийся факт. Если мы верим, что это завоевание не окончательное, и что Германии не удастся удержать за собой завоеванный материк, то наша уве-
98
ренность вытекает прежде всего из характера завоевателя. Германии не дано pacis imponere morem. «Новый порядок», который несет Гитлер, есть порядок господства, а не сотрудничества. В жертву одной расе, т. е. народу, обрекаются на гибель и рабство десятки миллионов. Народы Европы не могут примириться с такой участью. Но с потерей суверенитета они теперь уже примирились бы, если бы Гитлер или другой властелин действительно нес им благо прочного мира, экономического процветания и известной культурной свободы. Недаром столько социалистов Франции и Бельгии на первых порах поторопились признать немецкое завоевание. Мир и единство — слишком соблазнительные вещи для современного человека. Не одна трусость и низкий расчет загнали Деа, Бержери и Де-Мана в гитлеровский стан. Но великая задача, которая решалась некогда с успехом Цезарем и с меньшим успехом Наполеоном, не по плечу Гитлеру. Его государственные идеалы слишком низменны. Бисмарк, на его месте, может быть, сумел бы действительно покорить и замирить Европу.
Счастье наше — если не слишком возмутительно говорить о счастье среди бойни и кладбища, — что мы имеем альтернативу Германской Империи в федерациях англо-саксонского мира. За последние полвека Англия сумела, хотя и не до конца, перестроиться из насильственно сколоченной империи в свободный союз народов. Отдельные части этого союза, как и само целое, как и ранее оторвавшаяся от него великая Северо-Американская республика, связаны федеративными узами, большей или меньшей прочности. Это первый в истории удачный опыт федеративной государственности в великодержавном масштабе. Его удача дает возможность иначе оценивать пресловутую утопичность Федерации, как основы мирового государства.
Империя или федерация? Эта альтернатива не точна, если дело идет о форме будущего мира. Бри-
99
тания есть империя в форме федерации, где средневековые титулы монарха являются символами единства свободных народов. Реально возможна лишь антитеза между свободой и принуждением. Но и она в чистом виде беспочвенна. Не может быть государства, построенного лишь на одной свободе, как и на одном принуждении. Сила и принуждение всегда были и будут фактором государственно-образующим. Но прочность государства зависит от добровольного признания. Свобода и сила, добровольность и принуждение должны быть положены в основу создания и новой государственности. Война облегчает, а не затрудняет это создание. Она приучает людей к необходимости принуждения, к добровольной или недобровольной жертве своей свободой. Чего не могла добиться старая Лига Наций от своих суверенных членов, того может легко потребовать коалиция победителей, опирающаяся на силу победоносных армий. Новое федеративное отечество имеет своей политической предпосылкой гегемонию победителей.
«Гегемония — значит господство? Господство —- значит угнетение?» — скажут многие, учившиеся думать по плакатам, — а таких теперь большинство. — «Вы предлагаете нам, вместо немецкой или русской империи, Англо-Саксонскую федерацию? В чем ее преимущества?» Ответить легко ссылкой на конкретный опыт. Тому, кто мог спастись из лагерей любого тоталитарного государства, сохранив свою голову от фашистских идеологий, жизнь не только «угнетенного» индуса, но и негра в африканских колониях представляется раем. Да и сама структура Британской Империи, как и Соединенный Штатов Америки, исключает политическую тиранию, оставляя, самое большее, возможность экономических и социальных преимуществ правящего слоя. Вместе с социальной демократизацией, идущей гигантскими шагами, сами эти преимущества капиталистического класса сойдут на нет. Останутся, вероятно, неравенства в уровне
100
жизни, в оплате труда между разными расами и народами; такое ли это непереносимое зло?
Федеративность нового общества, исключающая «сплошной» централизм, сохраняет старое отечество с ограниченными функциями. Международная политика и хозяйство выходят из его компетенции, но за ним остается значительная доля культурной политики, полиции и правосудия. Превращаясь из суверенного государства в штат, оно сохраняет свою символику, пышность исторических костюмов и традиций. Это облегчает переход для гражданского сознания. Старое отечество существует, хотя и не посылает своих сынов на смерть для защиты своих интересов и престижа. Лояльность и подданство разделяются между великими и малыми отечествами, возвращая Европу в мир оклеветанного феодализма. Феодализм, т. е. разделение суверенности между рядом политических сфер, раскрепощает личность от всепоглощающего этатизма, который встал угрозой для свободы. Недаром наша свобода родилась с Великой Хартией в недрах феодализма.
Опасность грозит совсем с другого конца: не от насилия, а от безвластия, или от бездействия власти. Лига Наций погибла от нежелания гегемонов 1919 года обнажить меч на защиту ее законов. Новая власть победоносных демократий стоит с самого начала перед необходимостью военного и политического принуждения для умиротворения и организации мира. Разоружить народы, пресечь немедленно национальные вендетты, избиение меньшинств, политический террор, бесконечные и бесплодные пограничные тяжбы... Сколько труда, сколько пота и крови предстоит отдать прежде, чем наша старая планета будет вновь пригодна для жизни разумных существ. И если кто-нибудь примет на себя ответственность за общее дело, возьмет почин и водительство, народы благословят его, какие бы ошибки и даже злоупотребления он себе ни позволил. Власть не всегда средство экс-
101
плуатации. Бывает — и не так редко, — что она является орудием для осуществления высокой миссии. И нет миссии выше и благороднее, чем осуществление нового — не средиземноморского, не римского, а европейского в культурном смысле, — или, чтобы не обижать Америки, и не забегать вперед истории — скажем «Атлантического» мира: Pax Atlantica.
2.
Для нас, русских, как для большинства людей нашего времени, отечество слишком слилось с нацией; нам трудно, для многих невозможно, и помыслить разрыв между ними. Во всяком случае, он не кажется заманчивым — скорее всего, он пугает. Мы привыкли думать, что национальная культура нуждается в государственной охране, как черепаха в скорлупе, и что без брони государства она рискует погибнуть в борьбе за жизнь. Формулируя так наше традиционное отношение к нации, мы обнажаем его слабость. Оно, действительно, вытекает из малодушия или из неверия в силу духа. Его можно было бы признать за выражение национального атеизма. Конечно, у русского общества никогда не было того особенного вкуса к государственности, которым отличаются, напр., современные немцы. В нас говорит не столько любовь к принуждению, сколько привычка к нему. Несмотря на весь наш вековой протест против давления государства на культуру, мы сжились с этим бытом и, когда наши духовные силы были надорваны революцией, оказались беззащитными перед соблазнами старого, уже разрушенного мира.
А между тем история совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Это совпадение бывает скорее исключением, чем правилом. Нам заслоняет перспективу XIX век со своей мечтой — построить государство на чисто национальной основе. Мы принимаем за
102
действительность мечту романтиков и патриотов прошлого столетия.
Но прежде, чем говорить о фактах, надо условиться о понятиях. Что мы понимаем под нацией? Конечно, здесь мы не имеем возможности обосновывать наше определение; важно хотя бы установить его.
Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем определить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри ее, есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией. Не народ (нация) создает историю, а история создает народ. Английская нация создалась лишь в XIV веке, французская в XI в., после многих веков государственной жизни. Культурное единство, достаточное для образования нации, довольно трудно определимо по своему содержанию. В него входит религия, язык, система нравственных понятий, общность быта, искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного единства. Швейцария — нация без языкового единства, может быть и Россия—СССР также.
Это культурное богатство не дается сразу ни одной этнографической народности, но постепенно наживается ею в ее исторической жизни. Но очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности. Простое обозрение великих исторических культур показывает, что национальные, т. е. охваченные государством культуры, встречаются реже, чем культуры сверхнациональные.
Древность дала нам два великих национальных государства — результат географической изоляции, — где границы культуры и государства почти совпадают: это Египет и Китай. Но Вавилонская культура не смогла создать для себя политического единства:
103
в одной Палестине, культурной провинции Вавилона, было место для десятка малых государств. Никогда не знала политического единства и великая культура Индии. Вот почему Индия никогда не была нацией и, если станет ею, то этим она обязана только английскому воспитанию. Культура Греции развивалась в сотнях маленьких отечеств. С нашей точки зрения, нельзя говорить о греческой нации, но лишь о греческой культуре. Объединительные тенденции эллинистического мира завершились в империях, где греческая культура была брошена в плавильный тигель с иными культурами Востока и Запада. В христианском средневековье народы жили в тесном духовном и культурном единстве, которое никогда не получало другого единства в государственной сфере, кроме символического: Священной Римской Империи. Столь же универсальна и многогосударственна была и культура Ислама. Лишь на наших глазах Кемаль-Паша, выученик либеральной Европы, создает чисто национальное турецкое государство. Для старого государства Османов, не «турок», а «правоверный» было символом отечества, как «христианин», «католик» для средневековой Европы и даже Руси («крещенный», «православный»).
В новую эпоху из распада католического мира создаются действительно национальные государства: Англия, Франция, Испания... Но наряду с ними существуют вплоть до XIX века исторически создавшиеся, не национальные, а чисто территориальные политические единства. Австрия погибла лишь в 1918 году — и сейчас многие ее оплакивают. Все мы знаем, что Германия и Италия лишь в прошлом веке осуществили свое единство, т. е, создали государственную броню для своих, уже древних и великих культур. Опоздавшие на пир, они набросились с жадностью на сомнительные яства, и теперь морально расплачиваются за невоздержание. Конечно, не случайно, что фашизм, т. е. острое национальное заболевание, по-
104
разил прежде всего эти страны — новорожденного и потому особенно острого национального сознания. Замечательно, что величайшие свои культурные достижения Италия дала в век Возрождения (или еще в средневековье), а Германия в век Канта и Гете (или еще в реформации), когда обе эти страны не имели политического национального существования. Италия его вообще не знала с римских времен до Виктора-Эммануила II. И вот этот, давно лелеемый, романтический национальный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его создала, глубоко исказил ее некогда прекрасные черты и привел эти народы на край духовной гибели.
Ну, а Россия? На первый взгляд, она кажется примером национально-государственного образования. Мы все были воспитаны в этом Карамзинском убеждении. Но Карамзинская схема, коренящаяся в московских официальных традициях XVI-XVII века («Степенная Книга»), есть насилие над историческими фактами. Киевская Русь — эпоха высшего культурного расцвета древней Руси — не была государством, а лишь системой связанных культурно, религиозно и династически, но независимых государств. Потом на столетия Русь вступает в систему мировой монголотатарской империи. Освобожденная, она создает национальное государство под властью Москвы, но Западная Русь остается за его рубежом. Задолго до воссоединения с зарубежной Русью, Москва разливается широко на туранский Восток и Юг, приобретая характер Евразийской Империи. Узкая провинциальная культура Москвы оказывается непригодной для организации и одушевления этой колоссальной империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение своих безбрежных пространств и просвещение своих многочисленных народов не старой, московской, а западно-европейской цивилизацией, универсальной по своим тенденциям. Как считать национальным госу-
105
дарство Екатерины? В глазах самой интеллигенции и власти, Россия является сонмом народов, скрепленных династией, которая несет им свет с Запада. Фелица, киргиз-кайсацкая царевна, друг Вольтера и Дидро. Национализация русской культуры и государственности есть медленный процесс, развивающийся в XIX веке. Еще при Николае I слово «национальный» было символом революционного. Но именно к этому царствованию относится не очень удачное начало национализации русской культуры. Однако этот процесс идет параллельно с возрастающей слабостью Империи. Два последних царя, воспитанные славянофилами, пытались обрусить Империю и вооружили против нее целый ряд ее народов. Национализм сказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию.
Так за все тысячелетие своей истории Россия искала национального равновесия между государством и культурой, и не нашла его. На этом пути вообще исторические удачи были только исключениями. Да, Франция и Англия — исторические счастливицы. Но обобщение их опыта в XIX веке завело в тупики. Для многих малых народов, для черезполосных насельников, т.е. для большинства, осуществление национального государства оказалось невозможным. Версаль окончательно доказал это. Для иных, «великих» вставала другая опасность. Государства, заполнившие границы национальной культуры, не желали останавливаться на них и переливались через край, стремясь превратиться в империи. Но империя несовместима с принципом национального государства: она или несет сверхнациональную культуру или, обезличивая малые народы, превращает их в чернозем для возращения одной нации. Lebensraum выдуман не Гитлером. XIX век, начавшийся эрой освободительного национализма, заканчивается борьбой империализмов. Дети и внуки гарибальдийцев завоевывают Ливию и Абиссинию, тщатся поработить славян. Едва объединившаяся Германия возобновляет свой забытый с XV столе-
106
тия Drang nach Osten. Франция и Англия уже успели создать себе колониальные империи. Но все империи лишь этапы на пути к единой Империи, которая должна поглотить их всех. Вопрос лишь в, том, кто будет ее строить и на каких основах.
Историческая неудача национального государства способна вызвать у многих горькие чувства. Что и говорить, национальное отечество имеет свои преимущества. Оно теплее, милее сердцу; оно согревает строгий закон гражданства любовью к той живительной духовной родине, которую защищает закон. Татарин мог любить Россию, а хорват Австрию. Но их любви не хватало той глубины и полноты оттенков, которые возможны для русского — или немца. С другой стороны, насыщенность национальными эмоциями сообщала чрезвычайную силу велениям отечества. Национальное государство внутренне гораздо крепче, спаяннее, чем империя или федерация.
Однако, это его преимущество немедленно же оборачивается его пороком. Эгоизм национального государства особенно страшен потому, что питается не только низменными, но и очень высокими чувствами. Убаюканные немецкой музыкой и стихами Гете, немцы легче идут на истребление славян. Так и для нас образ «Святой Руси» облегчал всяческие насилия над инородцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой в наши дни делаются воспитателями национальной ненависти. Но это есть уже предательство, измена самой национальной культуре. . Связь ее с государственностью, которая берет ее под свою высокую руку, оказывается губительной для культуры.
В завершение всего, представление о том, что за борьбой великих держав стоят еще защищаемые ими великие национальные культуры, оказывается анахронизмом. Европейские культуры уже перестали быть, национальными в смысле романтиков. Научно-технический и социальный рационализм XIX века убил ос-
107
татки выращенных средневековьем и связанных с почвой национальных культур. Умолкла народная песня, вымирает народное искусство. Нигде, кроме маскарадов, не носят национальных костюмов. А народная душа? Школа, газета и фабрика еще до радио и синема нивелировали ее. Что всего важнее, самое значительное в мире духа, в религии, в искусстве, в философии сейчас не носит национального отпечатка. Передовая литература, живопись, музыка сейчас космополитичны. И никакая фашистская акция ничего не в силах изменить в этом факте. Фашисты всех стран говорят о национальной культуре, но, кроме исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержание. Если бы мы могли мысленно разрезать черепа десятка молодых людей, принадлежащих к Hitler-Jugend, к Балилле, Фаланге и т. д., то увидели бы, что эти черепа набиты одним и тем же: спорт, техника, авиация, военное дело и военные забавы, культ мужества и насилия, товарищества и жестокости, религия государственности и при том в одних и тех же формах — везде до утомительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому — не любовь к своему — составляет главный пафос современного национализма — не в одних фашистских странах. Национальный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенциозный борец против рационализма буржуазного общества, он представляет типический продукт современной механизации жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу — титаническую и безумную. Немцы могут разрушить весь мир во имя великой Германии, — которая не будет отличаться от фашизированной Франции, Америки или России.
Нет, современное государство плохая защита для национальной культуры. Оно оказывается для нее скорее губительным. Вот почему отмирание национального государства не несет с собой никакой катастрофы для культуры нации. Более того, оно ее освобож-
108
дает. Но здесь необходимо внести одно существенное различение в понятие национальной культуры.
В состав всякой культуры входят элементы более или менее национальные и универсальные. К универсальным в наше время принадлежит наука, техника, спорт и т. д. Но и среди национальных элементов более общи и абстрактны хозяйство и политика, чем, напр., искусство, язык и быт. Грядущая универсализация государства может угрожать только политике и хозяйству, которые по необходимости, если не целиком, то в значительной степени становятся планетарными. Но хозяйство и политика представляют, вместе с наукой и техникой, наиболее рационализированные пласты культуры. Другими словами, универсализируется рациональная культура — та, которая всеобща по своему строению. Национальное, коренящееся в иррациональных слоях духа может уцелеть и жить, если только найдет в себе жизненные силы. Не от Атлантической Империи грозит ему гибель, а от истощения и скудости собственных сил.
Проблема сохранения национальной культуры совпадает с гораздо более важной — единственно важной — спасения культуры вообще. / Стало ясно, как день, что на обездушенном, техническом разуме-рассудке она существовать не может. Человек, утративший связь с миром духовным и с миром органическим, делается жертвой своей собственной техники. Машина и оружие истребляют своих создателей. Все наши планы, мечты и молитвы о спасении покоятся на одной предпосылке: на великой духовной революции, способной возродить и переродить человечество, дав ему новые силы для жизни и творчества. Чтобы жить, человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным миром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах: верхнем и нижнем. Оба эти мира говорят е ним на языке иррациональных символов. Общение с ними способно
109
возродить, в новом смысле, и национальную культуру, освобожденную от своих рациональных элементов.
Есть одно, чрезвычайно привлекательное, хотя я ограниченное явление в культуре нашей эпохи, — которое дает ключ к возрождению творческого национализма. Это областническая, или так наз. региональная литература. Среди зрелища демонических кошмаров, которое являет большое искусство наших дней, областничество остается оазисом, где течет, хотя бы и скудный, источник живой воды.
Жионо и Рамюз, может быть, самые значительные писатели Франции — во всяком случае, самые глубокие и чистые. Чем отличается областническая литература от национального эпоса, о котором мечтали романтики? Главным образом отсутствием государства. Здесь человек-крестьянин живет лицом к лицу с Богом и землей. Власть как будто ушла, оставив один вечный символ жандарма, который «не без ума носит меч». Государству-жандарму платят деньгами и; кровью, но уже не несут ему своей любви. Нация перестала питать духовно. Франция, Германия, Россия превращаются в идолы прошлого, условная краса которых способна соблазнять риторов, не поэтов. Но Жионо, Рамюз и Пришвин спасают бесценное и вечное, что еще живет во Франции и в России.
Но государство ведь тоже не целиком от дьявола. Оно имеет свое призвание. Его идеальное имя — справедливость. Его закон есть несовершенное выражение нравственного императива. Разум человека и творимая им социальная культура имеют тоже свои права. Восстание против разума — иррационализм современного искусства и политики — есть безумие и грех. Не к уничтожению рационального мы призываем, а к известному размежеванию сфер. Рациональное перерастает нацию. Иррациональное остается уделом нации и ее органических подразделений: племенной, областной, родовой жизни.
110
Есть символ, который мог бы уяснить и закрепить нашу мысль. В былое время, еще совсем недавно, отец и мать вводили ребенка и юношу в сферу национальной культуры. Их роль в этом посвящении была не одинакова. От матери ребенок слышал первые слова на родном «материнском» языке, народные песни и сказки, первые уроки религии и жизненного поведения. Отец вводил отрока в хозяйственный и политический мир: делал его работником, гражданином и воином. Разделение между рациональным и иррациональным содержанием культуры до известной степени совпадает с различием материнского и отцовского в родовой и национальной жизни. Этому различию соответствует, или должно соответствовать, двойное именование того национального целого, в которое посвящается ребенок-юноша. На английском языке оно звучало бы как fatherland и motherland. Наш язык знает не совпадающие по значению, но всегда волнующие слова: отечество и родина. Не совершая насилия над русским языком, легко убедиться, что отечество (страна отцов) связывает нас с миром политическим, а родина-мать с матерью-землей.
То, что совершается в нашу эпоху, не есть разрушение отечества или родины. Но это их необходимое и, конечно, болезненное разобщение. Древний галл не потерял отечества, став гражданином Римской Империи. Если же он потерял родину, которую обрел вновь в глубине средневековья, то это было следствием рационализма греко-римской культуры. Наше отечество не гибнет, но расширяется до океанических масштабов. Моя родина остается конкретной и многоликой: Россия, Великороссия, Поволжье, Саратовский край. Родине своей я отдаю полноту эмоциональной любви, освобожденной от политических страстей (злой эротики). Отечеству отдаю свой разум и волю, направленную на постоянную реализацию справедливости в несовершенных исторических ее проекциях.
111
Нужно только помнить, что ни отцовское, ни материнское не исчерпывают мир личности. Последнее оправдание личной жизни — в духе, а дух по ту сторону (выше) рационального и иррационального. И материнская и отцовская культура могут питаться, «одухотворяться» им, и в этой мере выражать движение человечества к его высокой цели. Но никогда им не вместить полноты духа, не заменить личной, сверх-органической и сверхрациональной жизни и ее условия — свободы.
112
Страница сгенерирована за 0.07 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
