13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Народ и власть
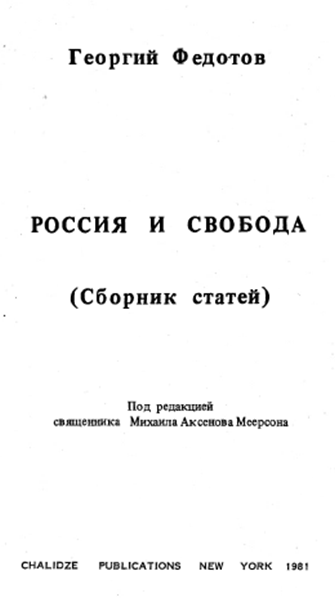
Разбивка страниц настоящей электронной статьи сделана в соответствии с этим изданием.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
НАРОД И ВЛАСТЬ
(«Новый журнал», № 21, Нью-Йорк» 1949 г.)
Я не я, и лошадь не моя.
(Русская поговорка)
Стремление русских людей оторвать свой народ от коммунистической власти, представляющей его в глазах мира, естественно. Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей. Столь же естественно и нежелание или неумение иностранцев отделить русский народ от коммунизма. Эта операция логического отделения народа от власти представляет на практике трудности почти непреодолимые. Иностранцам мешает незнание, своим — пристрастие. Невежество иностранцев по части России всегда было потрясающим; оно сравнимо только с русским невежеством в вопросах Азии или Африки. Но русское пристрастие иногда переходит все границы. Те же люди, которые вчера делали весь немецкий народ ответственным за Гитлера, ни за что не согласятся отвечать за Сталина, ни лично, ни коллективно. Признание такой ответственности или даже связи между русским народом и его тиранами среди нас очень непопулярно в эти дни. Лет 20 тому назад оно, напротив, имело большой успех в значительной части русской эмиграции. Но, ведь, историческая истина не меняется так легко в зависимости от политической обстановки. Сказать, что коммунизм не имеет ничего общего с русским народом, значит сказать благочестивую ложь, очень выигрышную для оратора на русском политическом митинге, но смехотворную для всякой иностранной аудитории. На лжи, как бы благочестива она ни была, нельзя построить серьезной политики. На наших глазах Черчилль и Рузвельт на лжи построили стратегию второй мировой войны, но накликали на мир призрак третьей. Между тем всякое рассуждение о «вредности» или опасности известных политических суждений о фактах является скрытым признанием предпочтительности лжи.
Чтобы взглянуть на нас самих, на современную Россию со всей возможной объективностью, поставим сначала общий во-
157
прос об отношении народа и власти в истории всех цивилизаций. Мы говорим привычно: древняя Греция, Англия, Россия в эпоху Империи, даже и не задумываясь о том, как малы были те человеческие группы, которые представляли эти государства или эти народы. Несколько тысяч афинских граждан, и еще меньше спартанцев, говорят за всю Грецию перед человечеством. Но их общественные или художественные идеалы разделялись ли миллионами метеков, рабов и варваров, которые жили на территориях эллинских республик? Сомнительно. Многим ли больше было число англичан, имевших политические права в эпоху создания и расцвета Британской Империи? До 19 века Британский парламент был органом олигархии. Но кто вспоминает об этом всем известном факте, когда говорит о преступлениях английского империализма? Пример России особенно поучителен и нам лучше известен. У нас десятки тысяч помещиков из десятков миллионов населения одни принимали участие в жизни государства, служили ему, хотя и не управляли им. Это было «русское общество» наших историков. Правящий круг составляли, может быть, сотни семейств, для которых был открыт доступ к императорскому двору. Столь же ограничен был, хотя и не совпадавший с ним, круг носителей русской культуры. При Пушкине он почти исключительно совпадал с дворянским. Но кому, кроме фанатика Писарева, придет в голову отрицать национальное, достоинство Пушкина? Пушкин был национальным поэтом и тогда, когда его читали только тысячи. Эти тысячи одни представляли нацию в культурном смысле слова. В политике это кажется сложнее. Не подлежит, однако, сомнению, что миллионные массы России имели весьма смутное понятие о целях и смысле международной политики своей страны. Для армий 18 века, активно делавших эту политику своей кровью, типична солдатская песенка:
«Пишет, пишет король Прусский
«Государыне Французской
«Мекленбургское письмо».
Очень немногие, даже в дворянском обществе, были посвящены в политику графа Нессельроде или Горчакова, еще менее сочувствовали ей. Тем не менее, это была политика России, а не только «Петербургского кабинета», как было принято выражаться на старинном дипломатическом языке. Договоры, подписанные канцлером, были обязательствами России,
158
их нарушение было бы противно чести России, хотя при заключении их никто не спрашивал мнения России.
Но, может быть, отсутствие протеста, пассивное приятие народом правительственной политики нужно считать ее признанием? На это нельзя ответить простым «да» или «нет». На примере России вскрывается вся сложность проблемы. Народ, несомненно, хранил верность царю, доходившую до религиозного обожания. Но так же несомненно, что он никогда не принимал законности крепостного рабства и всей новой, европейской культуры, на нем воздвигнутой. Пугачевщина свидетельствует о том, что народ думал о самом блестящем веке Русской Империи. Да и весь девятнадцатый век дрожал под непрерывными почти ударами крестьянских бунтов. На вопрос, отвечает ли русский народ за политику самодержавия, единственно правильный ответ таков: да, отвечает, ибо он отвечает за само самодержавие — отвечает и в добром и в худом, отвечает за угнетение Польши и за освобождение Болгарии.
Эта ответственность народа за власть кажется необоснованной, пока мы игнорируем третье понятие, перебрасывающее мост между ними: понятие государства. Никто не станет оспаривать, что государства представляются их правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны. Государство даже в наши дни может обходиться без санкции народной воли. Опора государства на волю большинства принадлежит к самым новым явлениям политической жизни. Англия становится демократией на наших глазах – в 20-м веке. До Ллойд-Джорджа, кажется, имя демократа в Англии было пугалом. Что же, неужели лишь в 20-м веке английский народ стал ответственен за политику своих правительств? Народ отвечает за государство и косвенно за правительство, представляющее государство: отвечает или за то, что его одобряет, или за то, что его терпит.
В истории человечества демократии являлись редчайшим, хотя и драгоценнейшим исключением. Династии или олигархии правили народами и говорили их именем — до 19; а то и до 20 века. И никто не оспаривал их права, хотя всем было ясно, что решения кабинетов или монархов не диктовались волей народа. Поддержка власти en bloc, как таковой, хотя бы пассивная, хотя бы только претерпевание ее, делала возможным говорить о солидарности власти, государства и народа.
Наши славянофилы, как известно, обосновывали этически свою апологию самодержавия тем, что оно берет на себя и снимает с народа ответственность и грех власти. Наивное уте-
159
шение! Как будто можно заслониться чем-нибудь от нравственной ответственности. Древне-русские книжники, согласно с Библией, учили, что Бог наказывает народ за грехи царя, хотя они же запрещали ему восставать против царя. Противоречие? Может быть не столь вопиющее, если вспомнить, сколько есть форм противления злу, кроме прямого насилия: отказ от участия в нем, обличение тирана, вплоть до мученичества за правду. Писатели — современники Смутного Времени, в полном согласии с исторической истиной, сейчас забытой в России, объясняют его бедствия наказанием за опричнину и тиранство Грозного. Грех народа один из них видит в «безумном молчании», т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опричнине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, кое в чем он и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере, в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю.
Это моральное осуждение народа за грехи власти становится понятным, если вспомнить, сколько оттенков существует в сознательности нравственного акта и, следовательно, тяжести греха: есть грехи злой воли и грехи слабости, грехи вольные и невольные, грехи сознательные, полусознательные и, может быть, совсем бессознательные. Отрицать их, как это было в традиции старой русской адвокатуры, значит оскорблять свободу и достоинство человека.
Может быть, эта морализация претит кому-либо из читателей. Многие, не одни материалисты, протестуют против внесения морали в политику. Я глубоко не согласен с этим взглядом. На политическом имморализме может выроста только тирания. Больше всякого другого строя демократия нуждается в «добродетели», как это было ясно для Монтескье. Но я готов условно сменить нравственный суд на политический, на суд истории. Тогда возмездие представляется просто причинно-следственной связью. Последствия худой политики власти падают на весь народ, если в ошибках превзойдена известная мера. Дурное правительство приводит к разорению и нищете; агрессия вовлекает народ в тяжкие войны, в конце которых ждет призрак поражения и даже национальная гибель. Война, как и чума, не знает правых и виновных, умерщвляет женщин
160
и детей, губит целые города — в наше время, может быть, с более слепой жестокостью, чем в средние века.
Я знаю, что историческая Немезида далеко не всегда совпадает с нравственным судом. Скорее это бывает исключением. Это случается, когда превзойдена обычная человеческая мера зла. Но именно тогда история становится осмысленной и возвышенной, как подлинная трагедия.
* * *
В какой степени эта общая связанность народа с властью и ответственность народа за власть применима к России и большевизму?
Несомненно, мы имеем здесь дело с одним из предельных случаев — наибольшей разобщенности между народом и властью, при которой может существовать государство. Народ в огромном большинстве теперь ненавидит власть. По своим корням, своей идеологии она представляется антинациональной. Она преследует цели международной революции. Она держится в последнее время только террором и личной заинтересованностью правящего слоя. Может быть, действительно, русский народ тут не при чем?
Это большой и сложный вопрос, и ответ на него требует расчленения. Быть может, сейчас уже всякое сопротивление невозможно или требует героизма сверхчеловеческого. Но всегда ли это было так? Невменяемый в настоящем (алкоголик) ответственен за прошлое. Было время, когда он мог бороться с победившей его темной страстью, но поддался ей, хотя бы полусвободно. Корни русского рабства и безысходности заложены в самых истоках революции. 1917 год завязал петлю на шее народа, которая затягивается всё туже год от года.
Стоит ли говорить о самой революции, которую готовили столетие, но которая разразилась тогда, когда почти никто не хотел ее, в момент страшной национальной опасности. Русская интеллигенция в массе своей воображала, что революция вообще — это счастливое событие, именины в жизни народов. Но историк знает, что революции это тяжкие болезни народов, за которые дорого платят и от которых не всегда выздоравливают. Социальная болезнь, переведенная на язык этики, есть грех. Все мы знаем эти грехи старой России, и те из нас, кто сознательно жил, или начал жить в ту эпоху, несут ответственность за них. Монархия, давно прекратившая свою про-
161
светительную миссию, завещанную Петром, и ставшая тормозом в движении великой страны. Бюрократия, сделавшая политику делом личной корысти. Высшие классы, державшие народ в такой эксплуатации и презрении, которым не было равных ни в одной европейской стране. Церковь, выбросившая социальную этику из своего обихода и умевшая только защищать власть и богатство. Интеллигенция, живущая в мире книг и утопий, потерявшая связь с народной жизнью, но всё время подрубавшая ее религиозные и нравственные корни. А сам народ — «единый ли безгрешный?» Потерявши в школе и новой индустриальной среде и Бога, и царя, он вступил в полосу нигилизма, которая называлась хулиганством в начале этого века и которая вылилась в пораженчество и пугачевщину на исходе тяжкой войны.
Если бы движущим мотивом революции 1917 года для народа была борьба за свободу и родину, как для интеллигенции, то было бы совершенно непонятно, как мог он так легко отдать родину немцам, свободу тиранам, да еще интернациональным беглецам, избравшим Россию ареной своей международной авантюры. Но если представить 1917 год, в целом, как восстание массы против войны, за мир во что бы то ни стало, т. е. за похабный мир, тогда всё объясняется. В России была только одна партия, да и в этой партии едва ли не один вождь, настолько бессовестный, чтобы заключить этот похабный мир; она и должна была стать победителем. Революция делалась и завершилась дезертирами, которым было наплевать на Россию и свободу, но которые были не прочь пограбить, под лозунгом социализма.
Революция зачалась в душе народа в момент злобы и исступления и рождалась на свет, как пьяная оргия. Всё остальное было попытками прикрыть приличием французских слов наготу этого ужасного зрелища и задержать на несколько месяцев оползень России.
Часто говорят, что злоба и солдатская оргия 1917 года только накипь, свойственная всем большим историческим событиям, что побеждают в истории только положительные силы, что и в большевистской победе участвовали идеалистические факторы, которые в свое время проглядела демократическая интеллигенция. Так думают сейчас не одни большевики, но, может быть, и большинство антисталинцев внутри России. Ленин и Октябрь все еще окружены известным ореолом.
Как очевидец и историк, я хотел бы сделать одно разграничение. Я признаю наличие рабоче-крестьянского идеализма
162
в борьбе за Октябрь, но только эти идеалистические силы начали действовать после того, как Октябрь стал уже фактом. В 1917 году большевистские герои и мечтатели существовали лишь в небольших группах рабочих, преимущественно рабочей молодежи, которая слабо влияла на события. Но в борьбе против белого движения они своею кровью отстояли Октябрь. Они стали стержнем Красной Армии и, вместе с крестьянской молодежью, пришедшей еще позднее, стали строить Новый Мир, или то, что тогда называлось пролетарской культурой. Но даже и в победе Красной Армии над Белой решающим был не героизм, а полусознательный и почти цинический выбор крестьянства. И барин, и комиссар были ему ненавистны. Но поставленный в необходимость выбора, он предпочел комиссара. Зная всё страшное будущее, которое его ожидало, он, может быть, не сделал бы этого выбора. Но выбор был непоправим. Когда народ пытался его поправить в Кронштадтском и Тамбовском восстаниях, было поздно. Он был уже скован по рукам и ногам.
В момент прихода к власти большевиков, за них была подана треть голосов на выборах в Учредительное Собрание. Меньшинство? Да, но такое же меньшинство было подано за Гитлера в последние свободные выборы в Германии. Эта треть была, если не лучшей, то, конечно, самой активной, воинствующей частью страны. Если бы две трети боролись так же энергично, как одна, никогда бы меньшинство не смогло победить. Ведь тогда в его руках не было всего страшного аппарата тоталитарного государства, который делает возможным и 10-ти процентам управлять всем народом. Террор-то был не только красный, но и белый. Если говорить о национальной ответственности, то две трети тоже несут ответственность за Россию. Есть грехи бездействия, неделания; не помочь утопающему, значит почти то же, что утопить его.
Но было время, когда и большевистская треть стала расти и, вероятно, обратилась в большинство. Конечно, этого нельзя доказать никакой статистикой. Но тот, кто жил в России в годы Нэп-а, знает, как ослабела оппозиция коммунизму. Крестьянство, получившее землю и временно заслонившееся от власти, было положительно довольно. В течение немногих лет рабоче-крестьянская власть была действительно популярна. И вот тогда она могла позволить себе то, на что не решилась никогда ни одна революционная власть: произвести новую революцию — против крестьянства. Для этой цели она использовала антагонизм города и деревни. Недавно еще кре-
163
стьяне посмеивались над голодающими дармоедами-рабочими, и эти дармоеды оружием добывали мужицкий хлеб. В 1929-30 годах масса рабочей молодежи была брошена в деревню, чтобы угрозами, пытками, убийствами и разорением загнать крестьян в новое крепостное рабство колхозов. В самой деревне удалось натравить на трудовое крестьянство так называемую «бедноту», которая с жадностью «разделяла ризы» ссылаемых в Сибирь семейств. Та же социальная зависть и злоба, направлявшаяся недавно против помещиков и «буржуев», превратилась во взаимное поедание трудовых классов. Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора, а когда она была вылита, то не трудно было уже обратить в крепостное состояние и рабочих в ряде индустриальных пятилеток, истребить всю ленинскую партию и без огласки превратить старый революционный коммунизм в истинно-русский фашизм. Всё это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит зловещее отличие современных тираний от всех известных в истории. Новые делают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями.
* * *
В оценке большевизма и критики его и апологеты часто впадают в одно из двух противоположных заблуждений: или он рассматривается ими, как наносное, чуждое России явление, как вампир, сосущий невинный народ, или как порождение народной стихии, цвет или плод всей тысячелетней истории России. Верно и то, и другое: интернациональный в своей первоначальной идее, большевизм обрусел в русской среде, став выражением страстей народа в годину его страшного падения. Но он никогда не мог обрусеть до конца, и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму.
Известно старое, немного схематичное, но всё же не утратившее свою справедливость, противоположение: интернациональный коммунизм и русский большевизм. В двадцатых годах позволительно было надеяться, что русский большевизм преодолеет и съест коммунизм. Тогда было возможно советскому поэту с полным сочувствием восклицать устами своего героя-атамана:
«Да здравствуют большевики,
«Долой, нехай, коммунистов!»
164
Эти надежды не оправдались. Победил коммунизм, приняв национальное обличье.
Ясно, что принадлежит к составу коммунизма: марксизм как основная идея (живая и сейчас, хотя и подвергшаяся ревизии); мировая революция (живее, чем когда-либо); «Интернационал» как русский гимн (отменен); техника и хозяйство (живут); борьба с национальной Русью (сменилась реставрацией Руси, но только черносотенной). Что в этом комплексе первоначального ленинизма было воспринято народной душой? За что народ несет ответственность?
Марксизм есть создание гениального немецкого еврея и нашел себе почву только в Германии и странах немецкой культуры. Единственное исключение — Россия. В девяностых годах Россия дала такую блестящую плеяду экономистов и историков-марксистов, какой не имела ни одна страна. Ленин был одной из звезд второй величины в этой галаксии. И Россия же сделала свою революцию под знаком Маркса. Это не могло быть случайностью. Можно указать несколько элементов в марксизме, которые делали его соблазнительным для русского человека:
1. Материализм, прорвавшийся так бурно еще в 60-х годах и опять-таки пожавший такие лавры только в России. В народной толще его питательной средой был религиозный материализм, выражавшийся в чувственном восприятии сверхчувственного мира. Русский человек, среди других народов, наделен поразительной силой чувственности, становящейся пророческой у русских гениев (Толстой, Достоевский, Розанов, о. Булгаков). И хотя этот сенсуализм органического, а не механического порядка, он может лечь в основу всякого материализма.
2. Рационализм, лишь на первый взгляд противоречащий сенсуализму. В истории народов, как и в развитии личности, рационализм соответствует отроческому пробуждению мысли. Она мечтает легко и без само-дисциплины всё понять, всё окинуть взглядом, не оставив ни одной неразрешенной загадки. Она не терпит никаких осложнений и не признает никаких границ познанию. У Маркса это не было наивной простотой, а вторичным опрощением, грехопадением философской (гегелианской) мысли, подобным возвращению Пикассо к искусству негров. В России, проспавшей интеллектуально целое тысячелетие, рационализм есть первый лепет мысли. Интеллигенция ринулась по этой дороге с 30-40 гг., народ с начала этого века. Чрезвычайно опрощенный марксизм Ленина с привеском
165
примитивного дарвинизма оказался как раз по зубам рабоче-крестьянской молодежи, всколыхнутой революцией.
3. Оптимистический детерминизм исторической философии марксизма. В прямом или вульгарном его понимании (не будем спорить) он снимает с личности бремя ответственности и нравственного суда. Личность не смеет бороться ни против своей среды, хотя и может переменить ее, ни против истории (пример Бердяева). Сливаясь с ее потоком, она чувствуете себя необычайно сильной. Для нее нет никаких сомнений, что он вынесет ее, всё человечество к утопии всеобщего счастья. Русским восприемником здесь было слабое развитие личного сознания и жажда уничтожения в коллективе: «Где народ, там и Бог». — «На миру и смерть красна».
4. С этим последним увлекающим моментом марксизма связан # и пафос мировой революции. Библейское эсхатологическое сознание, напряженная жажда конца истории в атеистической цивилизации превращается в религиозный фетишизм революции — последней, всемирной. Это превращение, уже совершившееся в западном марксизме, который и вообще, по своей структуре, представляет обезбоженную иудео-христианскую апокалиптическую секту, идет навстречу эсхатологически-устремленной русской душе. Каяться ей придется не в эсхатологизме, без которого нет христианства, но в сектантском отрыве от реальности, в нетерпении и нетрезвости. Конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб.
Так и марксистский плен оказывается наполовину добровольным. Когда-то А. Блок со свойственным ему провидением обращался к Руси:
«Какому хочешь чародею
«Отдай разбойную красу.
«Пускай заманит и обманет...
Ну вот, русская Людмила, отвергнув белого Руслана, отдалась Черномору, и седая борода Карла долго развевалась над взвихренной Россией.
От коммунизма переходим к большевизму.
1. Прежде всего 1917-18 г. был временем великого (в смысле грандиозности) народного бунта, одного из тех, которые отмечали с постоянным ритмом каждое столетие московско- петербургской неволи: Смутное Время, Разиновшина, Пуга-
166
чевщина, Ленинщина. Всероссийский «чертогон», говоря по-лесковски, давал выход застоявшимся, скованным силам. Смотря снизу, глазами мятущихся масс, Октябрь не был отрицанием Февраля, а его продолжением. Ненависть к войне сочеталась с застарелой ненавистью к барству, питаемой пережитками крепостного права. Они пронизывали почти всю русскую жизнь, особенно армию. Оказалось, что народ ничего не забыл и не простил. Его месть была слепой и часто несправедливой. Интеллигент отвечал за барина, социалист за капиталиста. Коммунизму, который поджигал стихийный пожар, стоило не мало труда, чтобы потушить его и обуздать стихию. Зеленые атаманы долго сопротивлялись и белым, и красным генералам. Самое интересное то, что стихия революции нашла отзвук — и какой! — в русской поэзии. Революция не только дала двух больших поэтов, Маяковского и Есенина, но увлекла за собой многих символистов, которым она была, казалось, органически враждебна. Брюсов нашел в ней своего Дьявола, а Блок последнее выражение падшей женственности (Катька). Поэты откликались на зов дикой воли; и там, и здесь говорит славянский Дионис, плохо скованный и христианством и культурой (Аполлон). Эти поэты переживут века, и я боюсь, что по ним потомки будут судить о русской революции. Не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным.
2. Между разгулом большевистской стихии и коммунистическим террором, ее обуздавшим, лежит полоса революционной культуры, которую можно условно назвать прослойкой идеализма. Годы и десятилетия молодые поколения рабочих и крестьян с жадностью бросались к «свету и знанию» и строили с величайшими жертвами новую жизнь, как им казалось, лучшую и справедливую. Ради этого идеала они обагряли кровью свои руки, отожествляя его с восторжествовавшей тиранией. Самое содержание нового идеала — коммунизм — оказался связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в
167
своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками, как акт почти нормальный, и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только вколочен насилием. Русские беженцы говорят, что теперь в России социализм ненавистное слово. Вероятно это так и есть. Но, чтобы добиться такого результата, нужно было более 30 лет нечеловеческих мук. Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства.
3. Национальное чувство, подавленное в первые полтора десятилетия коммунизма, было реабилитировано в 30-х годах и сейчас сделалось одной из основ новой фашистской версии сталинизма. Оно доводится не то, что до абсурда, но просто до глупости. В жертву ему принесено уже не мало человеческих жизней за счет «космополитов» или «западников». Но, хотя за ним стоят палачи МВД, трудно сомневаться, что оно опирается на народное сочувствие. Первые, робкие всходы русского национализма после убийства Кирова, были оценены нами, думаю, справедливо, как уступки власти народу. Эта политика нашла через десять лет свою параллель в отношениях к Церкви — с той разницей, что, после уничтожения ленинской партии, национализм свил гнездо и в самом правящем классе. Слишком долго подавлялись всякие проявления здорового национального чувства, чтобы не вызвать реакцию. Читая нелепые проявления советского национализма, мы уже не знаем, что отнести на счет партийных директив, а что объясняется просто национальным психозом — такого же качества, как и другие его европейские разновидности. Удивительно ли, что советские историки с большой страстью, но без всяких доказательств, утверждают превосходство Киевской Руси перед Западом, если, случалось, и в эмиграции ученые проповедовали то же самое? Национальная мегаломания превращает в слепцов даже очень ученых людей. Amor patriae tollit ingenium. После целых поколений интеллигентской все-человечности, Россия пошла, к несчастью, по немецкой дорожке. Об этом говорит и свободное русское слово, отражающие настроения как беглецов «оттуда», так и повальные увлечения старой эмиграции.
168
Особую форму, религиозную или псевдорелигиозную, русский национализм приобретает в христианском мессианизме. Это наследие старого славянофильства, за которое не большевики отвечают. Бердяеву нечему было учиться у Сталина. Этот тип национальной гордыни, паразитирующей на теле исторического христианства, уводит нас в древнюю Москву. Как не поверить искренности московского патриарха, который стремится, пользуясь машиной советского террора, покорить себе под нози весь православный «пир? Блок и Бердяев оттенили другую черту русского мессианизма. Поэт назвал ее скифством, и все мы встречаемся с его проявлением в русском беженстве. Из унижения вырастают горделивые притязания. Это понятно, но не менее страшно. Таков был и роковой путь Германии . . .
4. Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями русского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем (чего не знают иностранцы), как сравнительно мягок был старый режим в его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не anciem régime’ам. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40.000 помещиков — приблизительная численность его партии.
Народ сопротивлялся коммунизму, особенно интеллигенция, но, очевидно, недостаточно. А было время, когда это сопротивление имело шансы на успех. Многие народы в Европе — немцы, чехи — приняли новую тиранию с еще большей легкостью. Все же остается фактом, что нигде в мире тирания не доходила до той тоталитарности, как в России. Остается фактом и другое, — что структура фашистского государства, как и методы террора, созданы Лениным и были просто пересажены на европейскую почву.
Нельзя закрывать глаз на основное социологическое раз-
169
личие между западным и русским фашизмом (коммунизмом). На Западе он родился из кризиса демократии; уже много раз в истории тирания возникала из разложения демократии: в Греции, в Риме, в Италии Ренессанса, в революционной Франции. В России основной причиной победы коммунизма было отсутствие демократии. Там разочарование в ней, здесь ее девственное неведение. Наши судьбы не совпадают. Россия является сейчас соблазнительницей Запада, как раньше, в цветущий век демократии, Запад увлекал Россию. Большевистскую Россию можно было бы сравнить с Македонией или даже Персией в эпоху упадка греческой свободы. Греческие полисы сами тяготели к тирании на почве классовой войны. Но Македония и Персия давали готовые монархические формы для новой авторитарности. Эсхины и Ксенофонты играли роль современных попутчиков. Так выросла мировая держава Александра и Рима, существовавшая полторы тысячи лет. — Судьба, которая готовится и ныне западному миру, если он не сумеет преодолеть и внешней опасности и своих внутренних ядов.
* * *
Кое-какие соблазны коммунизма или фашизма еще сохраняют свою притягательную силу в России; национальная мегаломания, например. Но не ими держится власть. «Облетели цветы». Сталин, может быть, прав, веря только и две вещи: террор и деморализацию. Последнее и есть самое страшное. Мы только и слышим сейчас, что почти всё население ненавидит советскую власть, но пытки МВД так страшны, и полицейская сеть так густа, что невозможны никакие проявления протеста. О, если бы было только это! Тираны прошлых веков довольствовались покорностью и молчанием. И эпоху революций молчание опасно — казнят и подозрительных. Нужно славить власть даже тогда, когда ее ненавидишь. Но Сталин пошел дальше. Он изобрел систему, которой не знало человечество. Он поставил своей целью заставить каждого гражданина совершить какую-нибудь подлость, чтобы раздавить его чувство достоинства, чтобы сделать его способным на всё. Только эта цель объясняет многие фантастические явления русской жизни, которые без нее кажутся абсолютно непонятными. Полицейские и следователи всего мира, не исключая Гестапо, добиваются признаний в подлинных преступлениях или поступках. В СССР добиваются приданий заве-
170
домо лживых. Ради чего? Разве нельзя уничтожить человека и без всяких с его стороны признаний? Но палачи работают месяцами, чтобы добиться подписи под лживым и никому не нужным документом. Сломить раз навсегда волю человека, осквернить его совесть, сделать его предателем, клеветником – вот цель. Такой уж никогда не сможет смотреть людям в глаза. Он сделает всё, что мы от него потребуем. Таков дьявольский расчет. Вероятно, он не всегда оправдывается.
Другое чудовищное явление — это поветрие покаяний. Когда сменяется генеральная (т. е. Сталинская) линия культурной политики, целые секторы научной и художественной работы подвергаются публичному и поименному сечению, и позже от оклеветанных и смертельно замученных людей требуется акт самобичевания и отречения от своих идей. И здесь та же цель: раздавить морально писателя или ученого. Он слишком гордо носит голову; таково уж свойство его профессии. Он воображает, что служит науке или искусству. Он служит нам; он оплачиваемая государством проститутка, и пусть не забывает этого.
Есть люди, которые и здесь отказываются участвовать в общей подлости. Они выбирают молчание, нужду, ссылку, гибель близких. Имена немногих из них доходят до нас. Мы преклоняемся перед их страданиями; они дают нам силу жить. Но всё тот же роковой вопрос: сколько праведников спасают Содом?
О, если бы четкая линия между палачами и мучениками могла быть проведена в России! Где кончается эта ненавистная власть и где начинается ее ненавидящий народ? Может быть, власть — это партия? Но партия, давно уже потерявшая свой идеологический костяк, почти растворилась в массе. Родственные, бытовые отношения связывают ее с беспартийными. У коммуниста можно порой сыскать даже защиту в случае политических неприятностей. Но, с другой стороны, партия облеплена густым слоем кандидатов, карьеристов, готовых на всё, чтобы пролезть в ряды знати. Или власть — это МВД? Но как мало число действительных палачей сравнительно с массой вольных и невольных доносчиков. Кто охраняет заключенных в бесчисленных каторжных лагерях? По большей части, те же осужденные. Кто помогает чекистам и их собакам ловить беглецов? Окрестные крестьяне. Поистине трудно — возможно ли? — остаться непричастным злодеяниям власти, которая ставит своей целью сделать своим соучастником весь народ. Легче всего совесть у тех, кто находится на самом дне: у
171
станков и за плугом, без мечты о выдвиженчестве. Им разрешено молчание. Есть даже углы в России, где допускается и свобода слова: в лагерях смерти для тех, кто не помышляет о возвращении в мир. Но велика ответственность тех, кто по самому призванию своему поставлены на страже истины и свободы, но вынуждены отравлять и развращать сознание народа. Велика ответственность русского писателя, ученого, епископа. Самый тяжкий грех — грех патриарха.
Общая вина, общий грех. Без признания их нет духовного возрождения России. Без покаяния нет очищения. Конечно, возрождение государства мыслимо и на других путях, известных нам по новейшей истории Германии. Но какая от того радость? Германия не исцелилась от ядов фашизма после гибели фюрера. Ущемленное национальное самолюбие, вырастающее в гордыню, мстительность; безмерные притязания, разрыв с человечеством. Все эти опасности ожидают Россию, если она отвергнет сознание своей вины и будет искать виновных вокруг себя.
Но горе чужой стране, которая взяла бы на себя дело возмездия. Если можно карать отдельных преступников, — а кто, как не Сталин имеет право на первую виселицу? — то никто не смеет взять на себя наказание целого народа. У каждого народа достаточно своих собственных грехов, демократии тоже стоят перед судом. Самозванные же судьи сами становятся преступниками.
Если в политике есть место нравственным идеям, то во всяком случае не идее возмездия. Политическая мысль смотрит вперед, а не назад. По отношению к народам, развращенным тоталитарной тиранией, единственно возможная интервенция – та, которая ставит своей целью, помочь их возрождению, а не карать их грехи. В начале последней войны это сознание жило у союзников. Они заявляли, что ведут войну с Гитлером, а не с немецким народом. Но потом чувство мести за разрушаемую Англию взяло верх, и немецкому народу уже не приходилось ждать пощады. Без всякой военной необходимости уничтожены прекрасные древние города, принадлежащие всему человечеству. Немцев загнали в подземелья, где они живут как троглодиты, помышляя снова о мести. В политическом отношении к Германии всё время боролись две идеи, разрушавшие одна другую: идея «перевоспитания к демократии»
172
нейтрализовалась мыслью о возмездии, — всё еще вешают военных преступников на пятый год мира. В результате, настоящее Германии мрачно, будущее смутно.
Вспоминается другая победа коалиции европейских народов над народом и тираном, который был ненавидим в свое время не меньше Гитлера. Франция, конечно, была ответственна и за революцию, и за Наполеона. Но союзники забыли прошлое и дали ей хартию свободы, не слишком роскошную, но с которой она могла начать новую жизнь. Франция не помышляла о реванше, тень Наполеона преследовала только лирических поэтов, и Европа могла наслаждаться длительным миром.
Великодушие победителя дело не только его сердца, но и мудрости. Вот почему отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций.
173
Страница сгенерирована за 0.06 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
