13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Христианская трагедия
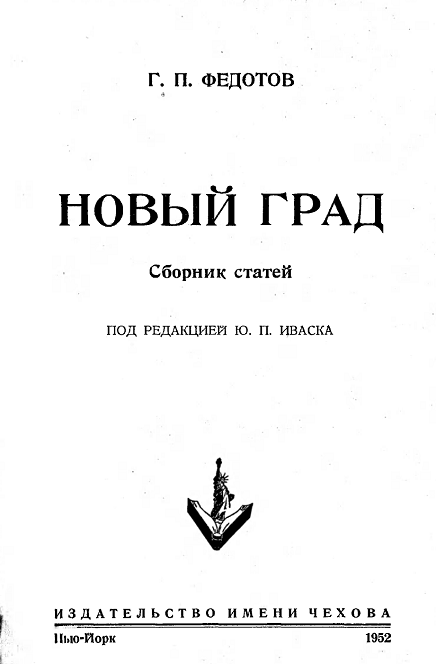
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
ХРИСТИАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
(«Новый Журнал», XXIII, Нью-Йорк, 1950.)
Более или менее все согласны, или были недавно согласны, что трагедия высшая форма искусства. Что такое трагедия? Все определения обманчивы, но, когда мы сознаем свое бессилие, то обращаемся к Аристотелю, и старик редко бросает нас без помощи. Его определение трагедии всем известно: трагедия есть драматическое действие, в котором зритель переживает чувство ужаса и сострадания и достигает очищения этих страстей. Лучше не скажешь, можно только пояснять. Ужас и сострадание вызываются не зрелищем стихийной катастрофы, но гибелью героя, внутренне необходимой. Иначе не может быть и речи об очищении. Герой может не быть добродетельным, может быть злым (хотя не до последнего
222
растления совести), но он должен быть сильным, чтобы чувство ужаса было свободно от презрения. Трус не может быть героем трагедии. Гибель героя обусловлена неизбежным конфликтом, борьбой со злом в его ли собственной природе или в окружающем мире. И в этой борьбе его силы достигают предельного напряжения и величия. Все это условия очищения.
Эпос, в старинном значении слова, часто притязал на первую роль в классической эстетике. Гомер был долго соперником Эсхила, хотя сейчас кажется окончательно побежденным. Но замечательно, что содержание великих национальных эпопей почти всегда трагично. Они чаще повествуют о гибели любимого героя, чем о его победах. Таковы Ахилл, Зигфрид, Роланд. Иногда герой и спасается после долгих и тяжелых подвигов и страданий: Одиссей, Эней, князь Игорь. И все же чувствуется, что счастливый конец несколько умаляет значительность эпопеи.
Откуда эта эстетическая необходимость рокового конца? Думаю, не от жестокости слушателя (позднее читателя), отразившейся и во вкусах римской публики, жадной до гладиаторских зрелищ, и в современной американской литературе с ее murdermysteries. Но перед лицом смерти раскрывается истинное лицо человека. Один обращается в дрожащую тварь, другой вырастает в героя. Смерть великая учительница не только мудрости, но и мужества, не только философии (по Зиммелю), но и доблести. Прав Пушкин: «верит мир лишь доблести, запечатленной кровью».
Никогда не превзойденная трагедия была создана языческой Грецией. Достаточно выяснены ее религиозные корни. Это не есть трагедия чистой человечности. Всеми своими истоками, темами и лирическим фоном она погружена в мир религиозной мистерии. Под светлым, но слишком человечным (или бесчеловечным) небом Олимпа Греция молилась другим, таинственным и страдающим богам. Умирающие и воскре-
223
сающие боги обещали посвященным спасение от страданий мира и вечную жизнь. Фракийский Дионис, растерзанный титанами, сделался богом афинского театра, к праздникам которого приурочивались трагические (и комические!) зрелища. До наших дней не сохранились первоначальные формы дионисовской драмы, где являлся сам бог со своей свитой сатиров и вакхантов. Дошедший до нас греческий театр выводит на сцену героев-людей, в своей жестокой судьбе повторяющих пассии Диониса. Это его маски или личины, Такова, по крайней мере, господствующая теория происхождения греческой трагедии, не опровергнутая пока ни новыми открытиями, ни новыми домыслами.
Но поскольку человек, а не бог, становится героем трагедии, ее содержание существенно меняется. Герои гибнут без воскресения, и чем сильнее их дух, тем беспощаднее они уничтожаются роком. Боги могут преследовать или защищать их, но бессильны спасать от власти рока, который царит и над самими богами. Здесь, в трагедии, находит свое выражение глубокий пессимизм греческого мироощущения, только прикрытый одеждой аполлинической культуры. Здесь получает свой исход «древний ужас» и очищается в созерцании величия обреченного героя. Действительно, силам рока, богам и демонам противостоит только достоинство человека. Его одного достаточно, чтобы возвыситься над созерцанием безысходности нашей судьбы. Древняя трагедия есть трагедия рока. Единственным исключением представляется Антигона, где силы рока представлены злой социальностью, властью земного тирана. Вся божественная правда воплощена в Антигоне; силы, губящие ее, лишены религиозного авторитета. Вот почему для нас это самая легкая из античных трагедий. В ней мы дышим почти христианским воздухом.
* * *
224
Умирающий и воскресающий Бог составляет основной догмат христианства, его первичное откровение или опыт. По отношению к нему все остальное догматическое богословие является раскрытием или надстройкой. «Мы исповедуем Христа распятого», говорит ап. Павел. Нужно прибавить « и воскресшего», ибо он же сказал: «Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». Забывая о воскресении, говорили, что тень от Голгофского креста протянулась через всю историю. Мы все живем под тенью или под сенью креста. Для людей нашей культуры оказалось легче отречься от Бога, чем от креста. По крайней мере, крестной трагедией отмечена и наша, в общем безбожная, эпоха. Стало трудно поверить в воскресение, но Голгофа есть опыт большинства современных людей, сохранивших в себе образ человеческий. Трагедия, заключенная в самом сердце новой религии, сообщает всей «новой» эпохе и ее искусству ту остроту и глубину, перед которой гармоническое искусство античности кажется чуть-чуть пресным даже для немногих еще верных его поклонников.
Слишком часто мы слышим, что религия распятия и креста составляет сердце католичества, тогда как православный Восток живет верой в воскресение (или преображение, как стали говорить у нас со времен символизма). Здесь справедливое наблюдение выражено с крайним преувеличением. В действительности, разница скорее в оттенках. В христианстве нет распятия без воскресения и нет воскресения без распятия. Разрыв между ними означал бы духовную катастрофу. Конечно, на распятиях Византии и древней Руси мы не видим той смертной муки, которая поражает нас на крестах западного средневековья. Конечно, восточные подвижники не знали самобичеваний и избегали кровавых форм аскезы, предпочитая «постничество» и «сухое» умерщвление плоти. Верно и то, что Западная церковь не обставила праздника Пасхи той ликующей
225
торжественностью, какой сумела окружить его церковь Восточная. Но ведь «светлой» неделе предшествует «страстная», и некоторые ее службы в своей пронзительной трагичности не уступают дионисическим восторгам Дамаскина. Многие люди с религиозным вкусом даже предпочитают их.
Возможно, те из нас, кто бывает в церкви раз в году, на пасхальной заутрене, легко могут поверить тому, что православие — религия воскресения. Но те, кто переживает весь церковный круг, или те, кто знакомится с православием по его аскетико-мистической традиции, те знают, какой страшной ценой куплены пасхальные ликования.
Впрочем, в нашей послепетровской церкви нечувствительно сгладились многие отличия западного и восточного христианства. Католические и православные распятия теперь мало отличаются друг от друга. Человеческие страдания Иисуса острее переживаются сейчас религиозными людьми, чем переживались нашими предками. Святитель Тихон в XVIII веке проводил часы медитации перед изображениями отдельных моментов страстей Христовых (не иконами) явно западного происхождения.
Думаю, мало у кого вызывает возражение мысль, что крест есть основа и сердце христианства. И в самых разнообразных формах этого символа, греческом — равноконечном, русском — осьмиконечном, еще различимо первоначальное Т, орудие позорной казни, виселица, на которой повешен был Спаситель мира. Правда, уже много веков, как христианский мир, слишком привыкший к символу виселицы и к страшной реальности Голгофы, научился эксплуатировать святую кровь для своего земного комфорта. Люди устраиваются на Голгофе, как они устраиваются на Везувии. Под сенью креста создаются империи, накопляются богатства, освящается рабство, благословляется ветхозаветная семья и вся почти языческая цивилиза-
226
ция. Многие христиане стали думать, что Христос поднялся на крест, чтобы избавить нас от наших крестов. Нет ничего более противного и духу и слову Евангелия. «Радость», которую обещал Христос своим ученикам, есть «радость — страданье», достижимое лишь для тех, кто идет Его путем. Об этом могут забывать массы (особенно привилегированные и счастливые), но никогда не забывали духовно-чуткие. Сектанты протестовали против обмирщения Церкви; святые старались осуществить идеал христоподобной жизни в своей собственной; христианские пророки звали к Царствию Божию путем крестным. Истинный художник носит в себе пророческое вдохновение. Что же открыли нам христианские поэты о тайне трагедии креста?
* * *
Нужно сознаться: немного. Где они, христианские трагики, достойные Софокла и Эсхила? Их нет, по крайней мере, в области театра, то есть трагедии в собственном смысле слова. Трагедия нового времени, Шекспира, французского классицизма или немецкого романтизма, не является в основе христианской. Поскольку она не питается воспоминаниями античности, это трагедия человека эпохи гуманизма, оставленного Богом или оставившего Его; трагедия характера, страстей, конфликтов и неизбежной гибели личности в этом смертном мире, трагедия не христианская прежде всего потому, что не религиозная. И не религиозная не в том смысле, что в ней действуют не божественные силы и не сознательные религиозные мотивы, а в том, что причины ее почти без остатка сводятся к моральным и имморальным мотивам, не оставляя места для религиозного вопрошания. В этом смысле новая трагедия менее религиозна, чем греческая, менее религиозна, ибо более моралистична.
Христианское средневековье было великой эпохой.
227
С ним связаны почти все культурные ценности, которыми мы живем. Оно создало и великое искусство, преимущественно пластическое. Пыталось создать и религиозный театр, выраставший из литургии, как и в языческой Греции. Литургический театр знала не только католическая церковь, но и православная. Самая известная из византийских драм приписывалась Григорию Богослову и носила заглавие «Страсти Христовы». Следовательно, по заданиям это должна была быть, как и на Западе, христианская трагедия. Но нигде она не подымалась над посредственностью, не достигала хотя бы такой высоты, на которой стояла средневековая лирика или роман. В X столетии Хросвита, аббатисса Гандерсгеймская из династии Оттонов, лучшая писательница своего времени, писала латинские трагедии из жизни мучеников, подражая Плавту и Теренцию. Это были лишь школьные упражнения.
* * *
Многие говорят: да, христианской трагедии нет и быть не может, и это вытекает из самой возвышенности христианской религии, которая не оставляет места ни року, ни неоправданным страданиям. Вера в Провидение несовместима с трагическим ощущением жизни. Но ведь в сердце христианства поставлен крест! И на этом кресте Богочеловек воззвал: «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Это ли не трагедия и не источник всех христианских трагедий? Ведь, «чашу, которую Я пью, будете пить и вы». И, действительно, христианская трагедия существует, но она создалась в самые последние времена, на исходе второго тысячелетия христианской истории. Это один из величайших парадоксов нашей культуры. Один из тех, понимание которого дает ключ к нашей общей судьбе.
Почему христианская трагедия, или, что одно и то же, трагичность христианства были осознаны так поздно?
228
Тому были серьезные причины, догматического порядка, из которых я укажу две.
Одна из них, действительно, заключалась в долго господствовавшем — не знаю, сказать ли оптимистическом или бесчеловечном — учении о Провиденции. Оно древнее христианства; в сущности, это стоическое представление, лучше всего выраженное в словах Цицерона: Providentia Dei mundus administrator. Мир управляется Богом, как всемогущим монархом вселенной, й в целом и во всех своих частях Все направляется ко благу, несмотря на видимость беспорядка и зла. Зло кажется нам таким потому, что мы видим лишь часть картины вместо целого. Видим только освещенное солнцем (вернее, погруженное во тьму) полушарие вселенной. Здесь все нити без начала и без конца. Они получают свою развязку и свой смысл в том мире, который начинается после смерти. Там караются грехи и награждается добродетель. Если правда торжествует всегда, хотя, быть может, не на этом свете, где тут место трагедии? «Праведный радуется справедливости», говорил бл. Августин, а за ним повторял Фома Аквинский. Правда, в этой предустановленной гармонии есть одно уязвимое место — гибель грешников, и притом вечная гибель. Августинизм должен был забыть о том, что «Бог не хочет смерти грешника» и что двойная вечность — ад и рай — не может быть угодна Ему. Бог не может «радоваться» Такой справедливости, если даже праведный фарисей ей радуется. Но в богословских системах, где любовь Божия отступила на задний план перед правосудием и всемогуществом, легко забывают о жертвах мировой гармонии. Какова теология, таково и благочестие. Построенное на страхе Божием и морали добрых дел, оно делает человеческое сердце неуязвимым для трагического жизнеощущения. Если сострадание случайно проникнет в это святилище спасительного страха, оно, лишенное надежды, увядает прежде,
229
чем начать разъедание монолитного ужаса. «Dies irae», конечно, вселяет страх и ужас, но без сострадания невозможно «очищение этих страстей». Эти наблюдения относятся к раннему средневековью (как и к Византии). Но даже и Данте, лишь слегка затронутый францисканской духовностью, в основе чужд трагического мироощущения. Он, способный презрительно оттолкнуть ногой осужденного, цепляющегося за него из своей огненной реки, не чувствует сострадания к низким обитателям своего ада. Лишь при встрече с Паоло и Франческой, и в немногих других местах;, где светский кодекс морали слишком резко сталкивается с церковным, сострадание проникает сквозь кольчугу теологического разума и систематика возмездия окрашивается трагически.
Не следует думать, что эта теология умерла со средними веками. Она еще живет в школьных системах, в наших катехизисах. Недаром митр. Антоний требовал в катехизисе Филарета исключения «вседовольный и всеблаженный» из числа предикатов существа Божия. Но там, где Бог «вседовольный», в мире, им созданном, нет места трагедии.
Другая догматическая причина бестрагичности средневекового христианства — порядка христологического. Несмотря на торжественно утвержденный Халкидоном (451) догмат совершенной человечности Христа, для людей средних веков Его человечность было так же трудно принять, как для людей Просвещения Его божественность. Привкус монофизитства остался во всей литургической поэзии и искусстве Византии. У нас на Руси один из самых известных книжников византийской школы, Иларион, митр. Киевский, в своем Исповедании веры писал: «Вижу Его распятого и радуюсь». Он радуется, конечно, потому, что Его смерть источник нашего спасения. Но эта радость, кажущаяся нам неуместной и жестокой, предполагает несерьезное, «докетическое» отношение к страданиям
230
Христа. Может ли Бог страдать взаправду? Другой русский «византинист» киевской эпохи, еп. Кирилл Туровский, в изображении распятия старается собрать все евангельские и даже апокрифические черты, усиливающие божественное величие Христа. Что же он делает с воплем богооставленности? Он его просто не упоминает.
Запад, в лице папы Льва, проведший халкидонский догмат и успешно боровшийся за него против монофизитских тенденций Востока, уступает им в раннем средневековье. Духовная печать Византии легла и на него. В VI веке один галльский епископ смущается нагим изображением Распятого и велит прикрыть его пеленой. До XI века и Запад не мог себе представить страдающего Христа. До нас дошли древние распятия (Германия ок. 1000), где Христос изображен на кресте в длинном одеянии и в царской короне, без всяких намеков на страдание. Это живой символ целого тысячелетия бестрагической, но цельной религиозности.
Та же эпоха оставила тысячи житий мучеников, перерабатывая на свой вкус древние «акты» и предания. Здесь пытки и казни, одна страшнее другой, нагромождаются, чтобы потрясти наивное воображение. Вот, казалось бы, где место «ужасу и состраданию», источнику христианской трагедии. Но нет, Хросвите не написать трагедии. Эти физические муки не могут дать содержания для трагедии потому, что за ними нет духовной борьбы. Ложное благоговение (тот же привкус монофизитства) лишает и мученика человеческой слабости. Страдает не он, а Христос в нем. Поэтому ни одной минуты читатель не сомневается в его победе, да герой никогда и ни в чем не показывает даже отдаленной возможности падения. Так, ни распятый Бог, ни страдающий с ним человек не могли стать источником новой трагедии, даже если бы у поэтов нашлись для нее культурные средства и формы,
231
как нашлись они в ту эпоху у строителей романских соборов.
* * *
Из этих двух догматических камней, заваливших путь христианской трагедии, раньше всего на Западе был отвален последний: полумонофизитская христология. Когда это произошло, и кто был инициатором этого всемирно-исторического сдвига, трудно сказать с точностью. Где-то в конце XI — начале XII в., одновременно с созданием новой лирики и философии, т. е. с началом оригинальной западной цивилизации — совпадение знаменательное. У мало известного немецкого писателя Руперта Дейцского, даже еще раньше, у кардинала Петра Дамиани, мы находим новую черту религиозного внимания к земной, человеческой жизни Христа. С огромной силой любовь к человеку-Иисусу трепещет у мистика Бернарда Клервосского, т. е. задолго до Франциска Ассизского, который был скорее завершителем, а не зачинателем движения. Оно совпало с крестовыми походами, и не случайно: паломничества в святую землю оживили память о божественном Человеке. На предполагаемом месте Голгофы переживались Его страдания, Его воскресение. С этого времени новая струя в западном христианстве, «Jesusmystics», никогда не прерывается совершенно. Франциск получает стигматы, сопереживая крестные раны Спасителя. И в позднем средневековье мы видим распятия с обезображенным, окровавленным лицом Христа, особенно поражающие в южной Германии и в Испании. Искусство Ренессанса опять завуалировало трагедию Голгофы, но в сердце живой религии, и католической и протестантской, она осталась навсегда. Наконец, она проникла в Россию, задолго до св. Тихона Задонского. Ее принесли в Москву киевляне в XVII столетии, вместе с новыми иконами и новыми, западными темами проповедничества.
232
Тем не менее, на исходе средних веков рождения христианской трахедии не произошло. Новая христо-центрическая религиозность не успела разбить теологический железный корсет, ее сковавший. И родившийся в ней гуманизм проложил новое русло: только человеческого, полуязыческого, реакционно-античного Ренессанса.
Теология цицероновского или аристотелевского Провидения не была христианизована до конца. Реформация поставила новые экзистенциальные проблемы спасения: о свободной воле человека, благодати Божией и предопределении. Над ними билась века и протестантская и католическая мысль. Эта мысль исходила в схоластических формулировках, а ужас и боль религиозной личности не нашли себе адекватного выражения. Эпоха Барокко обладала страшно острым ощущением и личности и смерти. Казалось бы, есть откуда родиться новой трагедии. Но родилась чисто гуманистическая, безрелигиозная трагедия. Кальдерон не в счет: его своеобразная религия имеет мало общего с христианством. Глубокие трагедии борьбы с Богом, отчаяния и любви, переживались в уединенных кельях. Какие трагические фигуры — Иоанн Крестный и Паскаль, да и весь янсенизм вообще! Но их духовные борения не отразились в искусстве, по крайней мере, в искусстве слова: слово скованно бестрагической теологией. Сейчас их темы, их жизни становятся образом наших собственных мук и отчасти получают выражение в искусстве. Их эпоха должна была довольствоваться Рибейрой и Зурбараном.
Мистические самоистязания Барокко сменились, законно, реакцией Просвещения. Европа отдыхала на перине гедонистического рассудка. Можно было не верить в адские муки или забывать о них. Ничто не мешало успокоиться на идее мировой гармонии, которая теперь приняла форму бесконечного прогресса.
233
Менее благоприятного для трагедии века, чем XVIII, трудно себе представить.
Нужно было, чтобы человечество окунулось в море крови революций и наполеоновских войн, а потом в волны романтических туманов, чтобы стала возможной трагическая религиозность и трагическое искусство. Впрочем, шумный и грубо-убедительный прогресс XIX века увлек большинство — и элиты и массы — по своей большой оптимистической дороге, которая вела к нашей пропасти. Немногие видели эту пропасть в истории или ощущали ее в своем сердце. Эти немногие провидцы спасли для нас христианскую духовность в пустыне «прогресса», и притом духовность трагическую. Почти одновременно, в середине XIX века, протестантизм, католичество и православие (в такой последовательности) дало трех гениев, которыми ныне живет христианское человечество: Киркегарда, Бодлера и Достоевского. Они не могли быть поняты в свое время. Киркегард был отодвинут в тень, как чудак и сумасброд (каким он несомненно и был); Бодлер, автор «Цветов зла», сделался надолго символом сатанизма для благочестивых католиков; Достоевский был признан у нас как большой писатель, психолог, «жестокий талант», но лишь XX век открыл в нем мыслителя и богослова. Вещь небывалая: православный епископ Антоний (Храповицкий) составляет словарь к произведениям Достоевского. В это время Бодлер был уже признан, вместе с другими «проклятыми поэтами», как один из основоположников католического возрождения во французской интеллигенции.
Замечательно, что почти на всех католических писателях последних поколений лежит печать трагического: Леон Блуа, Мориак, Бернанос, Жуандо, Жюльен Грин. Они, несомненно, имеют опыт ада при жизни, но пишут как бы от имени погибающих, а не спасенных. Достоевский тоже не отделяет себя от грешников, идет их путем, но идет за Христом,
234
образы которого он ищет в живых людях; По сравнению с ним, католическая трагедия (в форме романа) кажется более мрачной, почти безнадежной. Но это «почти» необходимо помнить. Луч света, то есть надежды — должен прорезать мрак для того, чтобы трагедия оставалась христианской.
Менее других трагичны авторы настоящих, т. е. драматических христианских трагедий: Клодель и Т. С. Элиот (англо-католик). Но их иерархическое миросозерцание приближает к Фоме Аквинскому и Данте. Они строители Церкви, прежде всего, и способны «радоваться справедливости». Но сам по себе факт возрождения христианской драмы в наши дни весьма знаменателен. Он подготовляет возможность появления великого трагического поэта: христианского Эсхила.
* * *
Что же изменилось в религиозном сознании, чтобы христианская трагедия стала возможной?
Если остаться в границах мира Достоевского, то этот мир представляется не «управляемым хозяйством» Бога, а полем битвы, где Бог одна из борющихся сторон. «Поле битвы — сердца людей». Человек обладает неограниченной, страшной свободой к добру и злу. Ставрогин поворачивается к нам то серафимским, то демоническим своим обликом. Карамазовское насекомое живет и в Алеше. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов — вылиты из одного и того же металла — потомки байронистов, предтечи ницшеанцев. Но какая различная метафизическая судьба: один спасен, другой погиб, третий, мы чувствуем, может спастись. Это тайна человеческой свободы. И Достоевский, показывает нам Христа-сострадающего и страдающего, который хочет победить человека не «чудом, тайной и авторитетом», то есть не всемогуществом Своим, а притяжением духовной
235
красоты. Свобода поставлена наравне с божественной любовью, и это означает и ныне, как в начале мироздания, трагическую не предопределенность конца. Вместо «вседовольного» небесного Царя и Судии, перед нами распятая Красота. Вспоминается слово Паскаля, которое повторяется теперь многими выразителями современного трагического католицизма: «Христос в агонии до скончания века». Произошла огромная революция в христианском сознании, по значению равная и по смыслу тождественная той, что имела место на пороге XII века: новое восприятие и углубление Голгофы и возвращение Кресту центрального значения в христианстве. Может быть, школьное богословие еще медлит на старых схоластических путях. Но в новом русском богословии мы уже видим, как вчера бесстрастное Божество вовлекается в трагедию падшей твари. Отец сострадает Сыну, и Сын является «Агнцем, закланным от сложения мира».
Трагическая теология еще в зародыше, но трагическое искусство уже господствует в христианском секторе культуры. Его религиозная основа выступает не с одинаковой рельефностью. Иногда это трагедия человеческой судьбы, без всякой религиозной мотивации, но лишь ощущаемая чутким читателем на религиозном фоне. Таковы романы Мориака и Грина, которые могут быть допущены, по близорукости, и в советские библиотеки, как иллюстрация разложения буржуазного общества. Но Бернанос изображает духовный путь подвижников и мистиков нашего времени. Его тема — борьба души с Богом и за Бога. «SouslesoleilduSatan» рисует поразительный мир католического святого, который до самого конца, вместе с читателем, остается в неизвестности: не был ли он всю жизнь жертвой демонической иллюзии? Только смерть разрешает это страшное сомнение. Наконец, возможно возрождение средневековой мисте-
236
рии, и есть уже попытки воскресить страсти Христовы, где Christus passus сам является героем трагедии.
Мы уже видели темы этой трагедии, несравненным гением которой остается Достоевский. Царящее в мире зло, как грех — личный и социальный. Глубокое несчастье человека — грешника и сострадание наше к нему. Борьба света с тьмой, исключающая безнадежность. Герой, еще не очищенный от страстей, пусть, падая, ведет неустанную борьбу с собой и злом мира. Его борьба освещается и вдохновляется свыше. За ним стоят или чувствуются небесные силы, против него — демонические. Но Бог уважает его свободу. Спасение или гибель зависят от его воли. Он может совсем перестать слышать небесный голос и изнемочь в своем одиночестве. Но исход не предопределен до конца. Если спасение, — «радость-страданье». Если гибель, — ангелы плачут. «Христос в агонии до скончания века».
Здесь уместно поставить вопрос, важный для нас, русских: почему трагедия Достоевского не нашла себе последователей у нас? Достоевский оказал огромное влияние на все наше православное возрождение и на поколение символизма вообще. Им в значительной мере питалось новое богословское сознание. И вот, те православные художники слова, которые ныне составляют особый, ясно очерченный сектор русской литературы, чужды трагедии. В своей религии они нашли покой от суеты и безумия мира: в церковном ли благолепии быта (Шмелев), в чистой ли элегической красоте тварного и уже закатного мира (Зайцев). Зло и мрак оставлены в удел безбожникам или людям без догмата. Те живут этим мраком, но, без материи нравственной борьбы, не могут претворить мрак в материал для подлинной трагедии.
Почему это. произошло? Почему мы утратили наследие Достоевского, доставшееся французам?
237
Мне кажется, причиной тому имморализм, что вошел в. русскую жизнь и душу с великого кризиса 90-х годов. И декадентство-символизм, и марксизм, и «новое религиозное сознание» были одинаково враждебны этике. Замолкли, потеряли свой смысл вопросы, волновавшие полвека русских мальчиков, которые нашли свой голос в Достоевском: что добро и что зло? можно ли убить, можно ли солгать, принести человека в жертву идее? Этика в России была утоплена в эстетике, и воспитанный на Киркегарде Ибсен быстро сошел с русской сцены. Но без остроты этической проблематики не может быть трагедии. Религиозная мысль ищет успокоения в красоте (София) и даже там, где не находит выхода в оптимизме всеобщего спасения (Булгаков), удовлетворяется эстетически, как бл. Августин, двойною вечностью. Это страшный ущерб русской души, который сказался, конечно, не на одной трагедии. И религия, и политика сейчас страдают от него, и, вдумываясь в смысл нашей не литературной, а политической трагедии, мы приходим к тому же роковому перелому: 90-ые годы. Но сейчас нас интересует только искусство.
* * *
«Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». В конце концов, христианство ведь благая весть — о спасении, а не о гибели. Там, где утверждается крест без воскресения, мрак без надежды, там уже нет христианства. Есть трагедия, родившаяся на почве христианства, но не христианская трагедия. Так, на почве христианской этической проблематики вырос русский атеизм, абсолютный и в конечном выражении своем сатанинский. Вероятно, ни одна культура, вне христианства, не могла создать такого трагического искусства, какое создает сейчас Запад в своей агонии, но является ли оно христианским? И где границы
238
христианской трагедии? Вопросы мучительные, может быть, неразрешимые. Я хотел бы подойти к ним от одного исторического и в то же время личного воспоминания.
Лет двадцать тому назад, проезжая через Кольмар (в Эльзасе), я остановился, чтобы увидеть знаменитое распятие Матиаса Грюневальда (ок. 1515 г.). Впечатление осталось на всю жизнь, сильное, но смутное. Дальше нельзя идти в очеловечении Христа. Напрасно искать в этом лике отблеска божественности. Художник не только не пощадил ни одной черты от обезображивающих мук смерти, но постарался сделать это лицо и это тело отвратительными, покрыв все его, без всякого основания, кровоточащими точками. Говорят (может быть, это только легенда), что он взял своей моделью труп человека, умершего в госпитале от какой-то накожной болезни. Зачем? Это распятие стояло в церкви. Перед ним молились. Это трудно понять человеку восточного воспитания. Но трудно переварить и гуманисту. Мне было трудно поверить, что такой труп может воскреснуть (хотя воскресение изображено тут же, на другой доске). Но, может быть, я был неправ, и в этом моем смущении говорила немощь веры. Вера отца Сергия Булгакова была покрепче моей; он принимал Грюневальда.
Христос Грюневальда, Христос-утопленник Гольбейна в Базеле, ад Иеронима Босха — все это пограничные вехи христианской трагедии. Кисть живописца отважилась на то, на что не решился ни один поэт. Но остается доныне — и, может быть, до Страшного Суда — под вопросом: христианское ли это искусство?
Этот же вопрос стоит по отношению к современному искусству — искусству вообще. Здесь живопись, музыка и слово идут одним путем. Еще дожи-
239
вают старые формы, и, как всегда, огромное большинство производимых вещей принадлежит прошлому. Это дает возможность людям отдыхать или наслаждаться искусством и закрывает от глаз страшную пропасть. Еще никто не загоняет принудительно в MuseumofModernArt и не заставляет слушать концерты передовых композиторов. Но ведь настоящий, а не вчерашний день определяет будущее. Сюжеты рыцарских романов находили кое-каких читателей и в наше время. Может быть, «нищие духом» будут читать любовно-семейные романы XIX века — в XXV-ом. Но интеллигентные молодые люди их уже не читают. Они «устали» от Бетховена и их тошнит от Ренессанса. То в современном искусстве, что заслуживает этого имени, трагично. Но лишь малый сектор его принадлежит христианской трагедии, о которой мы говорили. Какова же ее секулизированная сестра?
Современный художник ненавидит красоту, ненавидит самую ее идею и большинство ее воплощений: особенно красоту человека и красоту мира. Отказаться совсем от красоты искусство не в состоянии. Что-то должно уравновесить дисгармонию: будь то краска или орнаментальная линия, равновесие плоскостей или соответствующие «формальные» ценности в музыке. Но эти элементы так слабы, что им не уравновесить всей нагрузки безобразия, которого алчет современный художник. Что отрицается начисто — это человеческое лицо, человеческое тело, эмоциональное содержание в музыке, первозданная красота мира. Все это является предметом отвращения и надругательства. (Esse homo!). Не одна эпоха Ренессанса отвергается, но и все христианские тысячелетия со всеми их истоками. Искусство Востока, Мексики и, еще лучше, негров, — чем примитивнее, чем острее, чем дальше от греческой гармонии, тем лучше, — заменяет прежние классические образцы. Не образцов жалко, а
240
погибающего мира человеческой души (с духом и телом), разлагающегося на свои элементы.
Под эту характеристику подойдут французские сюрреалисты и экзистенциалисты, левые американские романисты (только не Стейнбек), — наконец, Кафка и его школа. Не знаешь, что страшнее: каменное бесчувствие к мукам человека (то подлинное, то напускное) или садистический интерес к ним. Многие современные книги и картины кажутся написанными чекистом. Чувствуешь: если бы современный палач обладал талантом и досугом, то он мог бы написать такую вещь. Во всяком случае, если человечество сейчас более, чем когда-либо, разделилось на палачей и жертв, то передовое искусство скорее с палачами, чем с жертвами. Это искусство концентрационных лагерей, отражающее направление «передовой» политики: фашизма и коммунизма. Если же это искусство жертв (Кафка), то впавших в прострацию отчаяния. Ни там, ни здесь невозможно ждать очищения страстей. Впрочем, и сострадание покинуло нас, оставив один ужас.
* * *
Но возможно ли современнику произносить окончательный суд над своим искусством? Что мы знаем о скрытых интенциях художника, может быть, неизвестных ему самому? Возможно, что глубоко придавленное сострадание скрывается под садизмом, который играет роль стыдливого защитного покрова. В сентиментальное время бывало наоборот; случалось, садизм прикрывался чувствительностью. Перед распятием Грюневальда, перед иным католическим романистом нашего времени не знаешь, верит ли он в воскресение; т. е. не теоретически верит, а есть ли в душе его луч надежды и любви? Так и о специалистах ужаса никогда нельзя сказать с уверенностью, не живет ли еще дитя в этой измученной и мучающей душе и не
241
осветится ли вдруг ее мрак. Судьба искусства, неотделима от судьбы всей культуры, к которой, оно принадлежит, и никто из нас не может и не смеет произнести окончательного приговора над собой, над всеми нами, над нашим веком.
От других связанных и взаимопроникающих сфер культуры искусство отличается особой чуткостью. Чувствительный к незримым духовным токам, художник многое предчувствует. Его называли пророком; он скорее похож на ясновидящего. Блок еще в 1908 году сказал: «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней!» Современный американец может проживать веселое наследство XIX века и схематически улыбаться для фотографов. Фокнер и Хемингуэй показывают, каково будет самочувствие американца во время и после атомной войны. Но каково будет тогда самочувствие самих Хемингуэев? Великие потрясения производят в сознании такие разряды, которых невозможно предвидеть, извлекают из-под глубоких пластов души хранившиеся на дне тысячелетние инстинкты. Но,, главное, существует же такая вещь, как новое рождение, как творчество нового, небывалого и непредвиденного. Мы, за наш краткий век, видели столько небывалого и непредвиденного. К несчастью, новое почти всегда являлось, как новая форма зла. Но почему не случиться обратному? Среди безоблачного дня вчерашнего прогресса могли вдруг затрепетать от ужаса редкие провидцы нынешнего дня. Так и среди обломков нашей культуры, на самом дне ада, солнечный луч или одно его предчувствие может осветить мрак, Тогда трагедия перестанет быть безвыходной. Распятый вместе с Богочеловеком разбойник сможет вдруг поверить в Его и свое воскресение. Его трагедия станет христианской.
242
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
