13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Франк Семён Людвигович
Франк С.Л. О природе душевной жизни
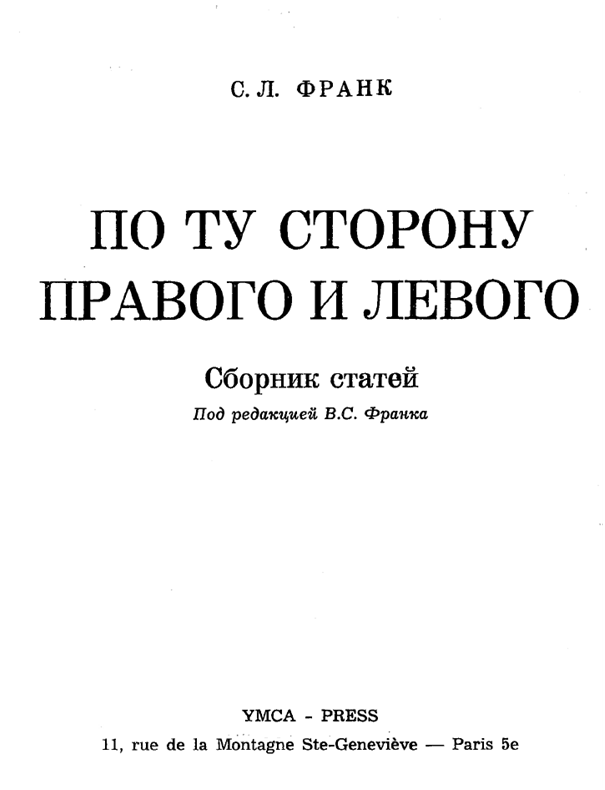
1972
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Франк С. Л.
О ПРИРОДЕ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ
I. Чистый материализм (материализм в строгом смысле)
II. Материализм в широком смысле (натурализм)
III. Душа и тело. Учение психо-физического параллелизма
IV. Критика психофизического параллелизма
V. Старая «эмпирическая» психология («психология без души»)
VI. Критика «эмпирической» психологии
VII. Итоги критики эмпирической психологии. Понятие личности и задачи философской антропологии
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая работа не представляет нового самостоятельного исследования автора. Ее назначение — дать популярное изложение того преодоления материализма и натурализма и нарастания принципиально нового, углубленного понимания душевной жизни, которое столь характерно для новейшего развития психологии. В этой книжке отчасти использованы соображения, более полно и углубленно развитые автором в его книге «Душа человека» (Москва 1917), но приведены и совсем новые мысли, и привлечен новый материал. Обзор современных течений в психологии мог быть дан только в суммарной форме и, разумеется, не претендует на полноту; приведены только те общие течения психологической науки, которые имеют наибольшее принципиальное значение для выработки нового общего понимания природы душевной жизни.
Берлин, февраль 1927 г.
ВСТУПЛЕНИЕ
Из всех вопросов, занимающих мысль человека, разрешение которых имеет для него не только теоретический интерес, но и практическое значение, так как кладется в основу целесообразного практического поведения, самым важным является бесспорно вопрос о природе и существе самого человека. В самом деле, в чем заключается вообще практическое значение знания для человеческой жизни? Оно заключается, очевидно, в том, что знание научает человека правильному поведению. Но что значит правильное поведение? Это есть поведение, избирающее верные, надлежащие средства для целей, необходимых и существенных в человеческой жизни. Но все другие вопросы, помимо вопроса о природе самого человека, касаются именно уяснения надлежащих средств для уже поставленной цели. Идет ли речь о проблемах естественных, о познании предметов и сил внешнего мира, или о проблеме правильной организации человеческих отношений, т. е. о надлежащих общественных реформах — всюду знание здесь в последнем счете имеет техническое значение, т. е. сводится к уяснению того, как использовать наличные реальности и силы так, чтобы они легче всего, т. е. с наименьшей затратой и с минимальным трением привели к искомой цели. Человеку нужно есть, пить, одеваться, ему нужны тепло, свет, жилище, передвижение. Естествознание, лежащее в основе техники, научает его, как легче и удобнее всего, с минимальными затратами, достигнуть этих целей: знание законов природы научает его использовать силы и свойства вещей, как средства для цели, к которой он стремится. Или человеку для цели мирного и наиболее производительного совместного существования, нужны государственная власть, союзы всякого рода, полиция, суд. Опыт, накопленный в общественных науках, научает его, какими способами ему лучше всего достигнуть этой цели. Практическая важность вся-
156
кого знания такого рода очевидна сама собой, и никто в ней не сомневается. Но ведь, для того, чтобы вести себя действительно целесообразно или чтобы найти разумный образ жизни, мало уметь отыскивать верные, надлежащие средства: надо еще уметь поставить себе верную цель. Печальны и вредны для жизни ошибки в выборе средств; но если человек идет к верной, истинной цели, то эти ошибки, в конце концов, всегда поправимы; и даже если человек не нашел наилучших, наиболее целесообразных средств, то, при правильности самого стремления, он, хотя и плохо, с чрезмерной затратой сил, с лишним блужданием по сторонам, вес же движется вперед в надлежащем направлении, и сам опыт научает его совершенствовать необходимые ему средства. Но что, если человек избрал себе ложную цель, идет вообще не туда, куда ему нужно идти? Тут уже не поможет никакое знание средств; чем скорее и вернее он дойдет до поставленной цели, тем хуже для него — ибо, чем дальше он зашел по ложному пути, тем труднее ему вернуться назад, чтобы пойти по правильному пути.
Все, что делает человек, он делает, в конечном счете, для себя самого, и все, что он знает или хочет узнать, ему нужно, как средство для удовлетворения его собственных потребностей и желаний. Не ясно ли, что важнее всего на свете человеку узнать самого себя, иметь правильное представление о том, что такое есть он сам, и что ему подлинно нужно? Как ни важно практически для человека знание законов природы, которое лежит в основе технических знаний (в узком смысле слова), как ни важны ему те общественные знания, которые помогают ему в технике общественных организаций, в правильной организации экономических отношений, государства, суда, самоуправления и т. п. — все эти знания висят в воздухе, и могут вместо пользы даже принести непоправимый вред, если человек не знает, чего ему собственно нужно, т. е. если он не знает самого себя. Допустим, что человек
157
умело достиг большого материального богатства, и вдруг замечает, что оно ему вовсе не нужно, что избыток материальных благ лишает его свободы, или ведет к пресыщению и отупению; он отныне уже не знает, что с собой начать, и чувствует, что вся его, внешне столь удачная жизнь пропала даром. Или допустим, что общество, путем умелых реформ, достигло своей цели — всеобщего и подлинного равенства; и вдруг обнаруживается, что равенство это приводит к господству глупых над умными, к принижению культурного уровня, к невозможности свободного и подлинно плодотворного культурного творчества в области науки и искусства, к придавленности высших сил человеческого гения. В этих случаях именно потому, что поставленная цель вполне достигнута, не достигнута истинная цель человеческой жизни, и человек испытывает глубочайшее разочарование. Таким образом, практически наиважнейшим из всех вопросов, которые ставит себе человек, есть вопрос: что подлинно нужно человеку, к чему он действительно стремится и по своей истинной природе должен стремиться? А это есть в сущности вопрос о том, что собственно есть сам человек, в чем заключается его природа.
Но именно этот вопрос остается в полном пренебрежении в господствующем ныне миросозерцании. Самая его постановка считается излишней и вредной, признаком беспочвенной мечтательности, как бы обнаружением отсталости человека. Существует глубокое противоречие между страстью, с которой люди стремятся осчастливить себя всякими техническими и общественными реформами, между упорством и напряженностью, с которыми они ищут правильных средств для достижения своих целей, — й полным равнодушием в деле уяснения самих этих целей. Для чего произошла революция и продолжает быть развиваема и укрепляема, для чего люди лихорадочно работают, для чего было пролито море крови, испытаны и еще испытываются величайшие бедствия и лишения? Для все
158
общего богатства? Или для равенства, хотя бы в бедности? Или для подлинного расцвета человеческой культуры, для достойного и творческого человеческого существования? Вместо ясного, осмысленного и обоснованного на подлинном знании ответа здесь даются лишь туманные и необоснованные общие фразы.
Впрочем, дело обстоит еще хуже. Не только нет в этой области никакого точного и серьезного знания, не только, вместо знания, здесь царят туманные фантазии. Простое невежество и легкомыслие было бы здесь, как и всюду, легко поправимы. За ними скрывается, однако, нечто худшее: основанная на самомнении невежества уверенность, что ответ давно найден, и что он так прост, что всякое дальнейшее размышление здесь излишне и вредно. Ответ заключается в том, что человек есть не больше, чем комочек органической материи, и что поэтому его потребности исчерпываются материальными нуждами — потребностью быть сытым и беспрепятственно удовлетворять свое влечение к наслаждению. Все другие, более глубокие и сложные мысли о природе и назначении человека суть, как полагают, результат ложных метафизических идей, когда то владевших человечеством, но ныне окончательно разоблаченных научным знанием. Этот простой, элементарный ответ — ответ материализма — выдается за последний итог строгого объективного научного знания. Если вся практическая жизнь посвящена страстному, лихорадочному исканию, как лучше всего удовлетворить нужды и потребности человека, то в основе этого стремления странным образом лежит воззрение, которое отрицает самое бытие человека, как человека: человек есть не что иное, как животное, и в качестве такового, не что иное, как комочек материи; вся его душевная жизнь есть лишь отражение материальных процессов, «души» в собственном смысле у него совсем нет. Нет, собственно, той реальности, ради которой, во имя подлинного осуществления которой имеет смысл вся забота о благе
159
человека. Этот нигилизм, эта вера в небытие человека, как человека, т: е. как духовной реальности, выдается, как указано, за неотразимо-прочный итог современного научного знания о человеке.
В действительности, однако, именно современное и притом строго научное, основанное на опытном наблюдении, знание о человеке, т. е. современная психология приходит к выводам, прямо противоположным этому утверждению. Господствующее мировоззрение здесь, как и во многих других областях, отстало от подлинного научного развития примерно на полвека. В задачу предлагаемого очерка не входит положительное разрешение всех проблем, связанных с уяснением подлинной природы человека. Задача его скромнее — показать, что господствующее материалистическое отрицание человека, как подлинной и самобытной духовной реальности — отрицание, стоящее, как указано, в таком вопиющем противоречии с практическими заботами о благе человека и в корне обессиливающее и обеспложивающее эти заботы, вместе с тем стоит в противоречии со всеми важнейшими и уже прочно обоснованными выводами современной научной психологии.
I
ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ
(МАТЕРИАЛИЗМ В СТРОГОМ СМЫСЛЕ)
Материализм в строгом и точном смысле слова есть утверждение, что в мире не существует ничего, кроме материи. В применении к человеку он означает, что лишь «кажущимся» или «мнимым» образом у человека есть «душа» или даже «душевная жизнь», «душевные явления»: «на самом деле» у него есть только мозг, нервная система, и все, что «кажется» нам душевными явлениями, есть в действительности только физико-химические и вообще материальные
160
процессы в нервной системе. Такого рода чистый или строгий материализм проповедовался в Германии в 5000-ых годах XIX века рядом популярных писателей — Бюхнером, Фохтом, Молешоттом. Маркс и Энгельс, которые были крупными учеными в области политической экономии и общественных наук, но совсем не были философами, исповедовали собственно «материализм» в совсем другом смысле (в смысле «экономического материализма»), но фактически, без особых размышлений и доказательств, примыкали к материализму Бюхнера и Молешотта. У нас в России, вслед за Писаревым и Чернышевским, этот материализм упорно проповедовал Плеханов, от которого его заимствовал Ленин, объявивший его обязательной доктриной коммунизма *).
Философский материализм в этом строгом смысле есть учение, о котором можно сказать, что оно не столько опровергнуто какими-нибудь специальными данными и выводами науки, сколько просто есть бессмыслица, опровергаемая простым здравым смыслом, простым умением ясно понимать смысл употребляемых слов. Один немецкий философ (Паульсен) сказал метко, что материализм трудно опровергнуть не потому, чтобы он был прав, а потому, что трудно опровергать чистую бессмыслицу. Представим себе, что человек говорит: «черное на самом деле есть белое». Как можно его опровергнуть? Никакие рассуждения, никакие доказательства тут помочь не могут. Остается только апеллировать к умственной добросовестности человека и сказать: посмотрите внимательно на черное и на белое и скажите, можно ли утверждать, что они — одно и то же? Подобным же образом материализм противоречит простой самоочевидной истине, которую
*) Не мешает напомнить, что целый ряд марксистов, из которых некоторые стали коммунистами (напр. Луначарский), всегда решительно отвергали материализм, как философское учение.
161
трудно доказать не потому, что она сомнительна, а именно потому, что она есть непосредственно самоочевидная истина, не требующая и не допускающая никаких доказательств. Возьмем любой конкретный пример и притом наиболее правдоподобный, наиболее благоприятный для материализма и проверим на нем утверждение материализма. Представим себе, что материалист утверждает, напр., что чувство зубной боли «на самом деле» есть материальный процесс гниения зуба. Вообразите себе на мгновение сперва само «чувство боли» — самое нытье, колотье, резь в зубе, как оно непосредственно мне дано — и затем картину дупла в зубе, опухоли, гноя и т. п., и скажите: это есть одно и то же, или разные вещи? Что же, это нытье или колотье само желто, как гной, красно и опухше, как вспухшая десна? Боль есть боль и больше ничего; говорить о ней, что она «желта» или «красна», что она опухла, значит говорить бессмысленные слова. И, с другой стороны, зубной врач, который видит опухоль и процессы гниения, видит именно их, но не видит самой боли. Вы можете сказать, что боль бывает всегда при процессе гниения зуба, что она есть его «следствие», но вы не можете сказать, что она сама есть гниение зуба. Или представим себе, что нам говорят: звук, который я слышу, цвет, который я вижу, чувства любви, или гнева, или страха, которые я испытываю, «на самом деле» суть только такие-то материальные процессы в моей нервной системе. Но звук «до» или красный цвет, или те или иные чувства суть каждое нечто совершенно определенное, в чем нет никакой «нервной системы» и никаких процессов в нем. И, с другой стороны, анатом или человек, производящий вивисекцию, может увидать нервную систему, скажем, серое корковое вещество мозга и все, что в нем совершается, но при этом он видит нечто совсем другое, чем звук «до», красный цвет, или какое-нибудь чувство. Это серое вещество само не звучит, в нем нет того «красного цвета», который я вижу, и тем более
162
оно само не есть ни любовь, ни гнев, ни страх. Процессы нервной системы и различные ощущения и чувства могут быть очень тесно связаны между собой, последние могут быть следствием первых, но они, во всяком случае, суть совершенно разные вещи, и говорить о них, что они «собственно» суть одно и тоже, значит говорить такую же бессмыслицу, как утверждение, что «черное есть белое».
На это совершенно бесспорное и самоочевидное разоблачение материализма сторонники его, однако же, отвечают: «Вы не поняли нашей мысли или сознательно исказили ее. Мы совсем не утверждаем, что зубная боль, звук, цвет, чувство и т. п., как таковые, суть материальное процессы. Мы только утверждаем, что «на самом деле», объективно, существуют только материальные процессы, а все остальное есть именно только иллюзия, кажущееся, не существующее на самом деле. Когда человек испытывает боль, то это есть нечто только субъективное, кажущееся, существующее лишь в его сознании. На самом же деле и объективно существуют лишь материальные процессы».
Заметим сейчас же: материализм, будучи чистой бессмыслицей, туманным, недодуманным и до конца для мысли неосуществимым допущением, вынужден постоянно изворачиваться, менять свой облик, прибегать к различным, противоречащим друг другу формулировкам. Последуем за, ним в этом новом его обличии.
Итак, суть дела теперь уже не в том, что душевные переживания, как таковые, тождественны материальным процессам, а в том, что их объективно совсем не существует, что они только «кажутся» самому переживающему, тогда как объективно, «на самом деле» существуют лишь сопутствующие им или вызывающие их материальные процессы. В основе этого рассуждения, которым легко ловят философски необразованных, логически плохо мыслящих людей, лежит грубый и без труда разоблачимый софизм. Что вообще
163
мы называем «кажущимся», «субъективным»? Мы называем таковым данное или переживание, содержание которого, будучи фактически наличным только в сознании, в душевной жизни, ошибочно принимается нами за содержание предмета, существующего вне нас. Если я, напр., принимаю звон в ушах за звонок в двери, то мне вправе указать на нереальность или иллюзорность моего утверждения. Иллюзия есть там, где что-либо только психическое принимается за нечто материальное или вообще вне-психическое. Признать что-либо иллюзорным, субъективным, значит признать ложным суждение, относящее данную реальность к области вне-психического бытия. Но значит ли это отрицать саму реальность (именно психическую реальность) того содержания, о котором идет речь? Очевидно нет. Как раз наоборот: утверждая иллюзорность чего либо, мы тем самым утверждаем его реальность, как содержания душевной жизни. Сказать, что звон был только «в ушах», а не во внешней реальности, значит тем самым признать, что «в ушах», тоже, в сознании, он действительно был. Но если назвать что-либо субъективным значит отнести его к сфере психической реальности, то как можно саму эту сферу в свою очередь назвать субъективной, не-существующей «на самом деле»? Если я выметаю сор и всякие ненужные предметы из комнаты на двор, то могу ли я признать ненужным и самый двор, и попытаться «вымести»... его самого — и куда? «на двор»? Если я ненужное убираю из комнаты на двор, то я тем самым признаю очень нужным сам двор, и его самого никуда убрать не могу и не хочу. Таким же образом, если какое-либо содержание, признаваемое «субъективным», относится этим к сфере психической, то тем самым утверждается незыблемая и совершенно объективная реальность самой сферы психического бытия. Одно дело сказать человеку: то, что вы испытываете, напр., «звон», вне вас, вне вашей психической жизни, не существует; и совсем другое дело сказать: того, что вы испытываете,
164
вообще не существует, да и самой вашей психической жизни не существует. Последнее суждение есть опять-таки чистая бессмыслица, нечто, что можно сказать на словах, но осуществить в мысли невозможно. Сказать человеку, что его чувства, напр., его боли, на самом деле не существует, может значить только одно: именно что он лжет, что он на самом деле не испытывает того, о чем он говорит. Но о всей области психической жизни в целом, очевидно, даже этого нельзя сказать. Она существует настолько самоочевидно и притом на своем месте, т. е. именно как психическая жизнь, настолько объективно, «на самом деле», что всякое сомнение и отрицание здесь пустой звук, лишенный всякого смысла. Боль, которую я испытываю и от которой кричу, есть такая же очевидная, невыдуманная, неустранимая, объективная реальность, как материальные предметы, которые я вижу своими глазами. И если кто-нибудь мне осмелится сказать, что этой боли «на самом деле» нет, что она мне только «кажется», то я восприму это, либо как личное оскорбление, именно как утверждение, что я лгу, либо как бессмысленный набор слов. И при этом я должен поверить материалисту, что моей душевной жизни вообще, всей совокупности моих чувств, настроений, желаний, «не существует»! Спрашивается: что, напротив, на всем свете может быть более реальным, более бесспорно очевидным, чем то, что непосредственно дано в переживании? Даже мой сон, содержанию которого я ошибочно приписываю реальность вне меня, во мне, как сон, очевидно и совершенно объективно есть.
Сущность рассматриваемого софизма заключается, очевидно, в смешении понятий. Слово «реальность» или «бытие» употребляется в разных смыслах. В узком смысле оно означает реальность вне сознания — для большинства людей даже просто реальность материальных вещей и процессов, и, конечно, совершенно очевидно, что психическое, не будучи материальным, в этом смысле не реально: оно находится не вне, а вну-
165
три нас, оно есть не мертвый внешний предмет, а наша собственная жизнь. В широком же и единственно верном смысле реальность есть все, что самоочевидно дано, предстоит, как неотменимый факт; и в этом смысле психическое, именно как особое, несводимое ни к чему иному, содержание, совершенно бесспорно и самоочевидно реально; и так же, как никакие рассуждения и софизмы не могут сделать белого цвета, который я вижу, черным, — ничто не может опровергнуть, отменить, устранить неотразимой и неустранимой реальности чувств, настроений, желаний — реальности психической жизни. Из того, что многие люди не интересуются этой областью реальности, потому что их интересы, их внимание сосредоточены только на внешнем, материальном мире, не следует, что этой области не существует; забыть о чем-либо, не видеть чего-либо не значит устранить реальности того, чего не видишь и о чем забыл. Материализм есть не объективное учение, основанное на рассмотрении и познании того предмета, о котором он учит, это есть просто шоры, которые человек охотно на себя надевает, чтобы не видеть того, что усложняет и портит ему простую и узкую картину мира, которую он одну только хочет видеть. Из этого сравнения можно психологически понять, почему столь многие люди верят в материализм, несмотря на его очевидную бессмысленность; но отсюда же понятно, что материализм не может претендовать на какую-либо объективную истинность, ибо есть лишь результат умышленной или бессознательной ограниченности умственного взора.
Если ученики материализма часто вполне добросовестно исповедуют его, не замечая его бессмысленности, то учителя материализма, философы-материалисты, по большей части хотя бы смутно чувствуют что-то неладное в своем учении. Поэтому они обычно варьируют, видоизменяют свои формулировки; и если их ловишь на бессмысленности одного утверждения, они, как уже указано, тотчас же пытаются подменить
166
его другим. Мы рассмотрели два утверждения, в которых резче всего выражается обыкновенно материалистическое воззрение: одно, по которому «психическое и материальное есть «собственно» одно и то же, т, е. именно «материальное», и другое, для которого «психического совсем не существует на свете». И мы видели бессмысленность обоих. Нет надобности столь же подробно останавливаться на других формулировках материализма — все они столь же туманны и столь же легко разоблачимы, как рассмотренные выше. Только для примера упомянем вкратце еще одну, весьма популярную редакцию материалистического воззрения, согласно которой «психическое есть продукт материи и материальных процессов». Материалистический смысл этого утверждения опирается опять на грубый софизм — на смешение понятий в слове «продукт». Под словом продукт можно разуметь либо нечто конкретно-материальное, напр., готовую материальную вещь, получающуюся в результате какого-либо процесса, как продукт фабричного производства, или продукт работы органов тела, как желчь, кровь, моча, — либо же нечто совершенно отвлеченно-общее, равносильное понятию «результата» или «следствия». Этой двусмысленностью пользуется материализм. Несомненно, что психическое есть «продукт» материальных процессов в том. общем смысле, что оно в человеческом существе обусловлено некоторыми материальными явлениями и является их «следствием». Но это, во-первых, ничуть не изменяет своеобразного нематериального характера психических явлений; если человек, напр., не может мыслить, при отсутствии притока крови к мозгу и в этом общем смысле его мысль есть следствие или, если угодно, «продукт» мозговых процессов, обусловленных кровообращением, то из этого ведь ничуть не следует, что его мысль сама есть материальный процесс. И во-вторых, из этого даже не следует, что психическое производно от материального, ибо если психическое в этом смысле обусловлено материальными
167
явлениями, то всем известна и обратная зависимость; всякое произвольное действие или движение органов моего тела — хождение в намеченном направлении, действия руками, движение языка при речи — есть образец обратной зависимости материальных процессов от психических; и, следовательно, если психическое есть в этом смысле «продукт» материального, то и материальное явление может быть «продуктом» психического, и ни о каком материализме тут не может быть речи. Если же мы подменим понятия и возьмем слово «продукт» в узком смысле материальной вещи, получающейся в итоге каких либо физических процессов — если мы скажем, например, вместе с Молешоттом, что «мысль есть такой же продукт мозга, как желчь — продукт печени», то мы, конечно, придем к материализму, но лишь ценою впадения в уже рассмотренное нами бессмысленное утверждение тождества психического с материальным. Ибо ведь совершенно ясно, что «мысль» есть нечто совсем иное, чем «желчь», что ее нельзя вывести через трубку и собрать в пузырек, что она не имеет ни веса, ни цвета, словом — что она в этом, характерно материалистическом смысле, совсем не есть «продукт».
С какой бы стороны мы ни подходили к материализму, какую бы формулировку его мы ни стали рассматривать, — всюду и везде, где мы имеем дело с попыткой сколько-нибудь точно, в определенных понятиях, выразить основную мысль материализма, именно, что в мире нет ничего, кроме материи ·—-мы неизбежно наталкиваемся на бессмыслицу, которую можно сказать и написать (ибо перо и бумага, как известно, все терпят), но нельзя подлинно продумать. Поэтому материализм, как строгое и точное философское учение, ни одним серьезно и добросовестно мыслящим человеком не может быть поддерживаем и есть достояние лишь полуобразованных и смутно мыслящих умов. Если бы люди руководились только точными, обоснованными мыслями, материализма на свете бы не суще-
168
ствовало. И надо сказать, что при всем преобладании на свете людей, не склонных и не способных к точной мысли, исповедники материализма в рассмотренном строгом смысле этого понятия, составляют ничтожное меньшинство — даже в России, где «материализм» есть государственная религия, обязательное вероисповедание всех верноподданных СССР. Но дело в том, что кроме материализма в строгом смысле слова, именно учения о материи, как единственной реальности, существует еще материализм в совсем другом смысле, материализм, так сказать ослабленный и более широкий. И этот вид материализма, будучи менее резким, чем рассмотренный нами материализм в строгом смысле слова, менее очевидно нелеп и не так просто опровержим; и вместе с тем он вполне удовлетворяет тому нравственному вкусу, тем тенденциям, из которых вырос и строгий философский материализм. Не удивительно, что именно он пользуется наибольшим распространением. Мы уже упоминали, что, напр. т. наз. «экономический материализм», собственно, не имеет ничего общего с строгим философским материализмом (ясно ведь, что можно исповедывать убеждение, что вся человеческая жизнь определена хозяйственными — т. наз. «материальными» интересами — и не разделять веры, что кроме «материи» ничего на свете нет; ведь голод, корысть, жажда богатства сами по себе суть не «материальные» вещи или процессы, а явления психического порядка). С другой стороны, экономический материализм все же недаром и не случайно называет себя «материализмом»: он все же опирается на какую-то философскую теорию, которую называет «материализмом».
Как ни легко опровергнуть «материализм в строгом смысле слова» (в виду его совершенной бессмысленности), этим, следовательно, еще мало что достигнуто: основная мысль, центральный нерв господствующего мировоззрения этим совсем еще не затронуты. И мы должны обратиться теперь к рассмотрению го-
169
сподствующего материализма в ином, более широком смысле этого понятия.
II
МАТЕРИАЛИЗМ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ
(НАТУРАЛИЗМ)
Для той тенденции, из которой родился материализм, и удовлетворению которой он служит, совсем не важно утверждать тезис чистого материализма, именно отсутствие в мире чего-либо иного, кроме материальных вещей и процессов. Для нее достаточно утверждать, что все явления и силы порядка высшего — все живое, сознающее себя, разумное духовное — вырастает исключительно из темной почвы мертвого, слепого, недуховного бытия, из слепых сил «равнодушной природы» и всецело подчинено этим низшим началам. Пусть существует психическое, одушевленное, разумное; во всяком случае, оно есть не какая-либо самостоятельная сила, а лишь производное и бессильное следствие мертвых материальных сил и в своей деятельности отражает последние и всецело им подчинено. Такое мировоззрение тоже можно назвать «материализмом» (в широком смысле слова); называют его также и «натурализмом» (от слова natura — природа), т. е. верой в универсальное, всеобъемлющее значение явлений и сил чисто природных, причем под «природой» разумеется комплекс начал или просто материальных, или во всяком случае, совершенно «слепых» (не имеющих отношения к понятиям разума, смысла, совести и т. п.). Ясно, что по своим практическим выводам такое мировоззрение ничем не отличается от «материализма в строгом смысле»; в том и другом случае все высшее, разумное, человеческое подчинено низшему, слепому, бесчеловечному и не имеет самостоятельного бытия, по крайней мере, в смысле самостоятельной активности, самобытного значения
170
бытии. И вместе с тем, как указано, оно не так очевидно и резко противоречит законам логики, не содержит такого грубого и беспомощного смешения понятий И потому не так легко может быть разоблачено, как чистый материализм.
«Натурализм» или — что то же — «материализм в широком смысле слова» — есть некое цельное миросозерцание, сущность которого можно выразить словом «цинизм». В основе его лежит неверие в высшие, духовные силы, — убеждение, что темное, слепое, хаотическое, низменное есть абсолютная, всевластная сила, самая сущность бытия, и что все иное, чисто человеческое, разумное, осмысленное, прекрасное, доброе, возвышенное — начиная с простого факта существования сознания и кончая силой нравственного подвига, высочайшими прозрениями гениальной мысли, вдохновением поэтического творчества и обнаружениями религиозной жизни — есть лишь производная, бессильная и бессмысленная пена и накипь, образующая в волнах хаотических стихий и не имеющая самостоятельного онтологического и действенного значения. В задачи предлагаемой работы не входит общая критика натурализма. Лишь мимоходом, в форме краткого намека, укажем на ее путь *). Обычно и по большей части натурализм впадает в то противоречие, что, утверждая всевластие слепых и бессмысленных сил, вместе с тем проповедует конечное торжество правды и разума в человеческой жизни. Такова, напр., позиция «экономического материализма» — типичного образца натуралистического мировоззрения, — который с одной стороны утверждает, что все высшие, духовные моменты человеческой жизни — наука, искусство, нравственность, религия — суть лишь утонченные орудия для единственного подлинно реального, космического фактора человеческого бытия — начала экономического,
*) Подробнее об этом см. нашу брошюру — «Религия и наука ».
171
стремления к удовлетворению материальных потребностей, — и вместе с тем верит, что имманентное развитие этих слепых экономических вожделений приведет к насаждению абсолютной гармонии, окончательного торжества правды и разума в человеческих отношениях в лице социализма. В отношении такого построения и ему подобных не трудно, конечно, обнаружить заключенное в нем противоречие между неверием и верой. Но если даже взять (почти несуществующий реально) вполне последовательный натурализм, до конца и совершенно бесстрашно утверждающий роковую и абсолютно всеобъемлющую силу слепых хаотических начал в бытии, — то и он не избегает того же противоречия: ибо по крайней мере само это утверждение абсолютной бессмысленности бытия выставляется, как разумное, осмысленное утверждение, как свободное достижение человеческого разума, проникающего сквозь тьму мировой бессмысленности, сознающего ее и тем самым уже идеально возвышающегося над ней. Можно сказать, что если бы все на свете без остатка было слепо и бессмысленно, то не нашлось бы существа, которое могло бы сознать и выразить эту истину. Другими словами: натурализм самым фактом своего наличия, как определенного разумного учения, опровергает содержание своего учения.
Но помимо этого общего логического опровержения натурализма, которое, несмотря на всю присущую ему непререкаемую логическую очевидность, не всегда убеждает людей — потому что не все способны психологически убеждаться тем, что принуждает не чувственно-эмпирически, а чисто идеально-логически, — возможно еще и опровержение натурализма путем сопоставления его с эмпирически-установленными фактами. В задачу настоящей работы входит проверка натурализма на фактах душевной жизни человека и ее отношения к его телесной жизни.
Натурализм в области психологии сводится по
172
существу к двум принципиальным утверждениям, из которых одно касается самой природы душевных явлений, другое — их отношений к телесным процессам. А именно, натурализм утверждает, во-первых, что душепиые явления совсем не суть проявления какой-либо единой, глубокой и разумной «души» или «духа», как особой реальности, глубоко отличной от всего слепого природного мира, а суть, наоборот, лишь комплекс или игра хаотических явлений, непроизвольно возникающих и сменяющихся, что — образно выражаясь — между строением душевной жизни и строением кучи песчинок, гонимых силой ветра, нет никакой принципиальной разницы. И, во-вторых, натурализм утверждает, что даже эта, сама по себе уже совершенно слепая и хаотическая психическая действительность не имеет никакого самостоятельного действенного значения, не играет никакой самобытной роли в мировой жизни: она, напротив, всецело зависит от материальных процессов, обусловлена ими и потому не может с своей стороны воздействовать на них, а есть лишь их бессильный (в сущности не нужный, излишний) продукт или спутник — как бы психическая тень, отбрасываемая материальными телами и бессильнопокорно сопровождающая все их передвижения. Мы начинаем с рассмотрения этого второго натуралистического учения, касающегося отношения между душевными и телесными явлениями.
III
ДУША И ТЕЛО
УЧЕНИЕ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
Во второй половине XIX века и в начале XX пользовалась необычайным распространением и почти безраздельным господством своеобразная теория об отношении между душевными и телесными явлениями, которая претендовала быть строго-научным, эмпири-
173
ческим, чуждым всякой метафизике учением, в действительности же, как будет показано ниже, была предвзятой метафизической доктриной, определенной натуралистическим мировоззрением. Эта теория, которая и ныне еще разделяется многими, но по существу уже окончательно опровергнута развитием современной научной мысли, носит название психо-физического параллелизма.
Как указано, теория эта претендует быть чисто эмпирическим описанием фактических отношений в области психо-физической реальности. Она утверждает, что, если воздерживаться от всяких необоснованных метафизических построений, то нужно утверждать закономерную связь между физическими и психическими явлениями, не признавая, однако, настоящей причинной связи между ними. Мир так устроен, что известным физическим явлениям, напр., процессам в центральной нервной системе, соответствуют определенные психические процессы, и наоборот. Оба ряда — ряд физический и ряд психический — протекают параллельно, не влияя, однако, друг на друга, а будучи, наоборот, в смысле причинной связи совершенно независимыми друг от друга. Каждое физическое явление может быть объяснено только из предшествующего ему другого физического же явления, которое есть его единственно возможная причина; и так же обстоит дело с явлениями психическими. Между физическими же и психическими явлениями дано только соотношение «параллельности», закономерного соответствия, без того, чтобы одно из них могло быть признано причиной другого. Главным представителем этого учения был немецкий философ и психолог Вундт; оно разделялось, впрочем, не только многочисленными учениками Вундта, но и множеством других философов, психологов и физиологов.
На первый взгляд, теория эта есть прямая противоположность материализму (даже понимаемому в широком смысле слова). Ведь она отрицает всякое пер-
174
венство материальных явлений над психическими, всякую зависимость последних от первых, и утверждает, наоборот, как бы полное равноправие и одинпковую первичность обоих рядов или обеих сторон бытия. Но это есть только обманчивая внешняя видимость этой теории: на самом деле, в основе ее лежит утверждение господства материальных явлений над психическими и совершенного бессилия последних, полной их подчиненности первым. Чтобы усмотреть это, достаточно обратить внимание на то, что явления материальные охватывают всю космическую действительность, явления же психические (если воздержаться, как это и делают психологи-эмпиристы, от произпольного допущения психических процессов в неорганической природе) наличествуют только в малой области бытия — именно там, где есть живая нервная система; проще говоря, они присущи только одушевленным существам. При этом условии принципиальное требование психофизического параллелизма — объяснить всякое психическое явление из предшествующего ему психического же (подобно тому, как физическое явление имеет своей причиной предшествующее ему физическое) — становится просто неосуществимым. Возьмем конкретный пример. Внутреннее течение моей физической и психической жизни подвергается какому либо воздействию из внешнего мира: напр., раздался звонок, и я его слышу, или я укололся булавкой, вздрагиваю и чувствую боль. Смена физических процессов может быть при этом удовлетворительно объяснима без всяких пробелов: предыдущее их течение изменяется под влиянием раздражения барабанной перепонки воздушными волнами, идущими от колебания звонка, или раздражения оконечности нервов острым концом булавки; и последующее течение физических процессов определено этим физическим воздействием извне. Но как быть с психическими процессами, одновременно при этом во мне совершающимися? Если в ход моих размышлений, чувств, ощущений
175
внезапно вторглось звуковое ощущение или ощущение боли, то может ли это новое психическое данное быть как либо выведено из предшествующих ему психических процессов во мне? Звуковое ощущение или ощущение боли очевидно не обусловлено ведь никакими предшествующими ему настроениями, мыслями, чувствами; оно возникает во мне совершенно неожидано; в психическом ряду оно совершенно беспричинно. Или оно должно быть объяснено из чего-либо психического вне меня? Но тогда мы должны были бы сделать совершенно произвольное и фантастическое допущение (которое, конечно, никто в серьез не возьмет), что неведомое психическое данное, соответствующее дрожанью звонка или острию булавки, произвело во мне звуковое или болевое ощущение. Трезвому наблюдателю остается здесь сказать одно: в то время, как физический ряд действительно непрерывен, и каждое явление в нем может быть объяснено из предшествующего ему, психический ряд, напротив, прерывен; новое явление возникает в нем — в пределах психической действительности — из ничего, и следовательно может быть объяснено только из какого-либо физического явления, с которым оно связано (в нашем примере — появление того или иного ощущения — из раздражения соответствующего нерва и нервного центра).
Отсюда видно, что психофизический параллелизм скрыто все же допускает зависимость психических явлений от физических. Существует универсальная космическая материальная природа, как некое замкнутое в себе целое, в котором каждое отдельное явление может быть причинно объяснено из другого; и в отдельных местах этого материального мира — там, где есть живая нервная система — параллельно ей возникают отдельные ряды психических явлений, как бы вспыхивают огоньки душевной жизни; и внутри этих рядов смена отдельных явлений (как и само первое их возникновение) находится под непрерывным
176
действием факторов материального порядка. И, с другой стороны, обратной зависимости быть уже не может: ни одно явление материального порядка — будь то вне или внутри живого тела — не определяется психическими процессами, ибо оно всецело определено предшествующими процессами материального порядка. Поэтому психо-физический параллелизм называет обычно психические явления «эпифеноменом» материальных явлений (т. е. производным, побочным спутником их). С этой точки зрения, если бы в мире каким-нибудь чудом исчезла бы всякая душевная жизнь, всякое сознание, то в мире материальной природы ровно ничего бы не изменилось: все явления протекали бы по-прежнему; ибо все одушевленные существа все равно суть автоматы, все действия которых определены физическими процессами, механикой их нервной системы, тогда как душевные явления лишь сопровождают, как бессильные, ни к чему ненужные спутники («эпифеномены») процессы их материальной жизни. Но, если бы, напротив, чудом исчезла вся материальная действительность или хотя бы только все нервные системы, всякая психическая жизнь, само собой разумеется, исчезла бы без остатка.
Мы видим: под оболочкой совершенно нейтральной, чуждой пристрастия к какому-либо из отдельных начал мирового бытия в теории т. наз. психофизического параллелизма кроется отчетливо выраженное натуралистическое мировоззрение, для которого все душевное, сознательное, духовное есть побочное, производное и действенно бессильное начало, всецело обусловленное самодовлеющей и единодержавной силой слепого, бездушного материального мира и без остатка ему подчиненное.
Многие полуобразованные люди и доселе воображают, что «психофизический параллелизм» есть последнее слово науки, высшее ее достижение. В действительности же, за последние десятилетия уже накоплена огромная литература и отвлеченных аргу-
177
ментов, и опытно установленных фактов, которые окончательно опровергают эту теорию. (Упомянем только имена Буссе, Венчера, Бехера, Бергсона). Но прежде чем изложить итоги этой критики психофизического параллелизма, постараемся уяснить себе, какие выводы, собственно, вытекают из нее, и на каких аргументах она пытается обосновать себя.
1) Выводы психофизического параллелизма.
Основное, отвлеченно-выраженное требование психофизического параллелизма — объяснить каждое физическое явление только из физического же, и каждое психическое — из психического, — как мы видели, не может быть последовательно проведено на практике. На практике, как указано, психическое подчиняется физическому, и безусловную силу сохраняет только первая половина этого требования. Поэтому психофизический параллелизм совпадает с утверждением всеобщего, универсального автоматизма. Попытаемся конкретно представить, что это, собственно, значит.
Всякое движение одушевленного, напр., человеческого тела и его отдельного органа, будучи явлением физическим, с этой точки зрения не может быть объяснено из его душевной жизни, из его чувств, представлений и желаний, а должно быть всецело выведено из предшествующего ему физического процесса. Когда я иду куда-нибудь, то этот процесс «передвижения моего тела с помощью соответствующих движений моих ног» никак не может вытекать из того, что я, напр., хочу увидеть кого-нибудь, что я сознаю себя обязанным выполнить какое-нибудь дело, для чего я должен отправиться в определенное место и т. п. Вор или убийца ворует и убивает не потому, что он того хочет, что преступная воля побеждает в нем чувство долга или самоограничения, герой, спасающий утопающего или отдающий свою жизнь за своих ближних, поступает так не потому, что его вдохновляет любовь
178
и вера — нет, просто нервные центры работают так, что автоматически человек идет туда или сюда, протягивает руку в одном случае, чтобы своровать или убить — в другом, чтобы спасти погибающего. Когда гениальный ученый или поэт творит научное или художественное произведение, когда Ньютон пишет свою книгу об основах мироздания или Шекспир — Гамлета и Отелло, то это происходит не потому, что научная или художественная идея овладевает его душой, созревает до ряда образов или мыслей и ищет подходящих для них слов. Нет, просто процессы в нервной системе Ньютона или Шекспира заставили их тело сесть за стол, их руку — взять перо и двигаться так, чтобы на бумаге оставались чернильные следы определенной формы, называемые буквами и складывающиеся в слова и фразы. То же самое могла бы сделать мертвая машина без всякого признака сознания, устроенная по образцу нервной и мускульной системы Шекспира и Ньютона. Когда гениальный полководец, вроде Цезаря или Наполеона, выигрывает сражение, то это объясняется не тем, что он составил гениальный тактический план, сумел во время понять отдельные эпизоды сражений и надлежащим образом реагировать на них, что он окружил себя талантливыми генералами и сумел внушить к себе любовь армии и веру в себя; дело происходило просто так: из автомата, называемого Цезарем или Наполеоном, исходили, на основании процессов в его нервной системе, известные звуки, вызванные движением его языка; эти звуки действовали на барабанную перепонку окружавших, определяли в них движения различного рода, которые действовали в свою очередь на других человеческих автоматов и т. д. По такому же образцу должны быть объяснены все великие исторические события, революции, зарождение и распространение новых идей и т. п.
И так же, как действия, исходящие от человека, должны пониматься и впечатления, действующие на
179
него. Нам кажется, что одни впечатления возбуждают в нас радость, другие — горе, одни — любовь, другие — ненависть, и что этими психическими реакциями определяются наши отношения к явлениям. Но все это — сплошная иллюзия. Все дело — в раздражении внешними материальными процессами нашей нервной системы; чувства же, желания, настроения и т. п., их сопровождающие, не играют никакой действенной роли в этих реакциях. Возьмем опять конкретный пример. Представим себе действие на нас двух различных телеграмм, отличающихся друг от друга только одной буквой, но имеющих благодаря этому совершенно разный смысл, напр., телеграмм, сообщающих, что любимый нами человек «удавился» или что он «удивился». С обычной точки зрения, абсолютно различное действие на нас этих двух телеграмм, несмотря на сходство их внешних начертаний, объясняется различным смыслом слов и, следовательно, различными психическими реакциями, которые они вызывают в нас. С точки зрения психофизического параллелизма все это совершенно фиктивно. Просто различные (хотя и весьма мало различные) зрительные впечатления (точнее, действия на зрительный нервный центр) черных значков, называемых буквами, вызвало в нас нервные процессы различного рода, из которых последовали все остальные наши телесные процессы в обоих случаях. Если я в одном случае вскочил со стула, закричал, схватился за волосы, впал в истерику, а в другом — улыбнулся и спокойно продолжал свои обычные дела, то все это — есть результат разного механического действия на мои нервные центры значков а и и в данной комбинации других значков.
Нет надобности пояснять дальнейшими примерами это учение; всякий может сам придумать множество аналогичных примеров и на них конкретно понять все отличие учения психофизического параллелизма от обычного взгляда здравого смысла, и, тем самым, всю его чудовищную парадоксальность. Весь смысл челове-
180
ческой жизни — как личной, так и общественно-исторической, вся полнота и многообразие чувств, идей, интересов, которые ее заполняют, вся осмысленная связь между впечатлениями и действиями людей, как И между умышленными действиями и их последствиями — все это объявляется здесь мнимым, несуществующим. Люди, включая сюда и величайших гениев, суть просто «массы тепловатого вещества определенного веса», внутри которых действует довольно сложная машина нервной системы; их чувства, мысли, идеалы, открытия — все это не играет в их жизни никакой роли, все это — только бессильные, ненужные искорки, разгорающиеся от верчения ремней и колес их нервных систем, и бездейственно потухающих в них, никак не отражаясь на их действиях.
Если до конца додумать эту теорию во всех ее выводах, то невольно возникает вопрос: что же заставляет ученых строить такую чудовищную гипотезу, переворачивающую вверх ногами все естественные наши понятия и заставляющую нас верить в то, что здравому человеческому уму и всему нашему опыту представляется верхом нелепости? Неужели все это действительно доказано, и мы вынуждены отказаться от всех наших обычных представлений, с которыми связан весь смысл, все содержание нашей жизни, и обязаны отныне считать себя и всех людей мертвыми машинами-автоматами?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть аргументы, на которых обосновывается это учение.
2) Аргументы психофизического параллелизма.
Поскольку психофизический параллелизм не есть просто безотчетное выражение слепой натуралистической веры, а пытается найти себе научное обоснование, он опирается обычно на два основных аргумента, из которых один носит характер обще-философский, а другой — специально-научный.
181
Первый, обще-философский аргумент состоит в невозможности представить себе причинную связь между телесными и душевными явлениями в виду их абсолютной разнородности. Мы легко можем себе представить, что при столкновении двух тел, напр., двух биллиардных шаров, движение одного обусловливает или определяет движение другого, потому что тут причина и следствие однородны. Мы можем также представить себе, что явления порядка химического, светового, электрического, и т. п. обусловливают одно другое, а также обусловлены явлениями механическими (явлениями движения) и в свою очередь их обусловливают, — потому что и здесь легко допустить внутреннюю однородность всех этих явлений (обыкновенно все они рассматриваются, как скрыто-механические явления, т. е. явления движения). Но немыслимо представить себе, чтобы какие-либо, скажем, химические или электрические процессы, происходящие в нервной системе, создавали бы явления сознания, напр., чувства или ощущения, и так же немыслимо и обратное соотношение, напр.., чтобы психическое явление хотения, волевого решения, определило движение органа тела; здесь явления настолько разнородны и несравнимы между собой, что понять их внутреннюю причинную связь представляется невозможным. Согласно одному старинному сравнению, представить себе, что моя воля привела в движение мою руку (в случае, напр., когда я, желая взять какой-нибудь предмет, протягиваю к нему руку) — это все равно, что допустить, что под влиянием моего желания гора сдвинулась с места. То и другое было бы одинаково чудом, т. е. чем-то, с научной точки зрения невозможным или непостижимым.
Этот обще-философский аргумент подкрепляется далее аргументом специально-научным. Указывают на то, что допущение психофизического взаимодействия, т. е. воздействие психического явления на физическое и обратно нарушило бы твердо установленный в науке
182
закон сохранения энергии. В самом деле, если бы какое либо физическое явление, напр., движение органа тела, было причинно определено психическим, напр., хотением, то оно и, следовательно, необходимая для него физическая энергия не были бы следствием предшествовавшей затраты физической же энергии, а возникли бы, с физической точки зрения, из ничего. С другой стороны, если бы физический процесс в нервной системе производил бы какое-либо психическое явление, то это значило бы, что развитая в нем физическая энергия с физической точки зрения обращается в ничто, исчезает, не имея своего продолжения в лице какого-либо другого физического же процесса. Но то и другое, и возникновение физической энергии из ничего (т. е. из того, что не есть также физическая энергия), и обращение ее в ничто — противоречит закону сохранения энергии, согласно которому сумма физической энергии в мире неизменна, и всякое частное проявление физической энергии может возникнуть лишь из затраты равного количества физической энергии другого вида и должно превращаться в свою очередь в какое-нибудь новое обнаружение физической же энергии. Следовательно, причинная связь между физическими и психическими явлениями невозможна.
IV
КРИТИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
Мы видели, однако, что психофизический параллелизм приводит к выводам совершенно чудовищным и несогласным с практической установкой человеческой жизни, превращая живых, свободно и разумно действующих людей в мертвых автоматов. Проверим теперь, достаточно ли убедительны приводимые им аргументы, чтобы заставить нас принять его выводы. Легко показать, что эти аргументы обладают лишь мнимой убедительностью.
183
Обще-философский аргумент о немыслимости психофизического взаимодействия в силу разнородных психических и физических явлений ложен и основан на смутном, неверном, философски давно уже опровергнутом понимании причинной связи.
Возможны два понятия причинной связи, которые нужно точно и строго отличать друг от друга: одно — эмпирическое, другое — метафизическое.
а) С эмпирической точки зрения причинная связь и есть не что иное, как закономерная связь последования двух явлений. Ее формула есть: вслед за явлением А всегда и необходимо возникает Б. Для такой причинной связи не нужно никакой однородности между двумя явлениями, рассматриваемыми, как причина и следствие. Не только в области психофизических связей, но и в области связей между чисто физическими явлениями мы нигде не имеем той однородности, на которую ссылается рассматриваемый аргумент, и не нуждаемся в ней. Английский философ-эмпирист Юм еще в XVIII веке неопровержимо убедительно показал, что причинная связь логически нам остается непонятной, что в опыте нам дано не какое-либо «рождение» следствия из причины, не какое-либо «созидание» следствия причиной, а просто закономерная связь, в силу которой после одного явления А всегда бывает другое явление Б, причем внутренний смысл этой связи эмпирически нам всегда недоступен. Почему собственно один биллиардный шар, наталкиваясь на другой, приводит его в движение, это так же непонятно, как и почему моя воля движет моей рукой. Так же легко можно было бы представить себе, что биллиардный шар, о который ударился другой, не движется в том же направлении, что и первый, а остается на месте, или начинает вращаться, или подпрыгивает вверх, или взрывается, или улетучивается и т. п.; и только из опыта мы знаем, что движение первого биллиардного шара имеет для второго именно такое, а не иное последствие, и лишь в силу привычки мы
184
считаем именно это последствие «естественным» и «понятным». А современное естествознание, устранив, как необоснованную метафизическую предпосылку, механистическое объяснение всех физических явлений, устраняет тем самым соблазн кажущейся простоты и «понятности» причинных связей между физическими явлениями. Что электро-магнитные процессы переходят в световые или вызывают химические процессы, и наоборот — все это еще могло (хотя, как мы видим из приведенного соображения Юма, тоже лишь мнимо) казаться «понятным» лишь при произвольном допущении, что под всеми ими скрываются одни и те же процессы движения. Но современная физика в это больше не верит. Но в таком случае, чем же более понятно возникновение света из электричества, или электричества из химических процессов и т. п., чем возникновение нервных процессов из психических и наоборот? Психофизическая связь, как закономерная связь последовательности межу определенным физическим и определенным психическим явлением (и наоборот), есть именно та связь, которую эмпирическая наука называет причинной связью (ибо она вполне соответствует формуле: вслед за явлением А всегда и необходимо возникает явление Б); и нет никаких оснований с чисто эмпирической точки зрения делать для нее исключение из общего правила о чисто эмпирическом, логически до конца необъяснимом характере причинной связи между разными (и следовательно, вовсе не однородными) явлениями А и Б.
б) Но возможно, конечно, и более углубленное, добирающееся до скрытых основ явления метафизическое понятие причинной связи. Когда мы видим, что вслед за явлением А всегда возникает явление Б, то мы не удовлетворяемся простым констатированием этой связи, а спрашиваем: почему это так? как это возможно? Мы стараемся анализировать явления А и В, проникнуть в их скрытую природу так, чтобы отсюда стало понятным, как из А действительно «рож-
185
дается» или «происходит» Б, т. е. стараемся понять явление Б, как продолжение в новой форме явления А. Конечно, абсолютной однородности, т. е. полной тождественности явлений А и Б и здесь никогда нельзя найти или даже искать, потому что при ней совсем не было бы двух разных явлений А и Б, а было бы просто одно явление, следовательно, не было бы места для причинной связи. Но переход от А к Б или превращение А в Б мы стараемся понять так, чтобы в нем не было скачка, т. е. как некоторый непрерывный процесс изменения, напр., при объяснении связи между тепловыми явлениями и явлениями движения из понятия теплоты, как молекулярного движения. Спрашивается: применимо ли, хотя бы в принципе, такое объяснение для связи между физическими и психическими явлениями?
На это надо ответить следующее. Представление об абсолютной разнородности и несравнимости физических и психических явлений, как принадлежащих к двум абсолютно разным и чуждым друг друга мирам, совершенно ложно. Оно основано на старом (идущем от Декарта) понимании материи, как чистой «протяженности» и психического, как чистой «мысли», при котором между телом, как чем-то мертвым, пространственным объемом, и душевным явлением, как сознанием или мыслью, не оказывается ничего общего. Но и современная физика, и современная психология давно уже устранили такое понимание как материи, так и душевных явлений. Поскольку же мы существо материи будем усматривать в том, что она есть место обнаружения сил или энергии (как это допускает динамистическое и энергетическое миропонимание), а существо психического будем видеть не в чистом сознании или мысли, а в жизненности, в некотором внутреннем делании, — различие между ними оказывается не непреходимой бездной между двумя абсолютно разнородными мирами, а именно различием между явлениями, внутренне близкими друг другу. Поэтому сов-
186
ременная биология допускает наличие сил или начал промежуточного порядка между психическими и физическими, т. наз. психоидные, т. е. «душеподобные» Начала, которыми, напр., крупнейший современный биолог Дриш объясняет особенности органической жизни. (Отсюда становится также понятным, почему материальные и психические явления встречаются и связываются между собой только в живых, т. е. органических телах). Современная психология, освободившись от этого устаревшего дуалистического представления, обратила внимание на ряд общеизвестных, но упускавшихся раньше из виду, функций человеческой жизни, которые вообще нельзя отнести к одной из этих двух сторон жизни, а которые имеют силу сразу в обеих и потому называются психо-физически нейтральными (Виллиам Штерн, «Дифференциальная психология»). Из множества явлений такого рода укажем здесь на явление танца или — шире — ритма вообще. Когда человек пляшет или вообще движется ритмично, то ясно, что ритмичность сразу определяет и его душевную, и его телесную жизнь, или точнее — что тут есть нераздельное единство душевно-телесной жизни, явным образом основанное на каком-то внутреннем единстве человеческого существа. Из этих соображений видно, что сколь бы велико ни было различие между телесными и душевными явлениями, они имеют какой-то общий корень, общую основу, и что, следовательно, и с точки зрения более глубокого метафизического понимания причинной связи нет никакого основания отвергать ее возможность в отношении между ними.
Не менее призрачным оказывается, при ближайшем рассмотрении, и аргумент, почерпаемый из ссылки на закон сохранения энергии. В современной литературе этого вопроса указываются разные возможности согласований психо-физического взаимодействия с законом сохранения энергии. Мы приведем здесь лишь соображения наиболее бесспорные, из которых выясняется грубое недоразумение, лежащее в основе выше
187
приведенного рассуждения. Дело в том, что закон сохранения энергии «определяет» не сполна или всецело смену физических процессов, а только их количественную сторону (поскольку, согласно этому закону, все физические процессы совершаются так, что при них количество энергии не может ни увеличиться, ни уменьшиться). Следовательно, с законом сохранения энергии согласимо всякое иное воздействие на физические явления, поскольку оно, не изменяя его количественную сторону, меняет его качество. Для того, чтобы, напр., человек мог двигаться или производить какую-либо работу, он должен питаться — в этом выражается незыблемое, никакому иному началу неподвластное действие «закона сохранения энергии». Но пойдет ли человек направо, или налево, отдает ли он свои силы грабежу или подвигу, и вообще — что именно человек делает, когда и как он это делает — все это явно независимо от закона сохранения энергии и, следовательно, может определяться психическими факторами без малейшего нарушения закона сохранения энергии. Если общее количество проходимого расстояния и наибольшая быстрота движения автомобиля зависит от имеющегося в нем запаса бензина, от числа «лошадиных сил», то, с другой стороны от этого условия совершенно независимо, когда и куда именно поедет автомобиль, с какой скоростью он будет двигаться в данное время, где и как долго он будет стоять и т. п. Все это зависит, очевидно, непосредственно от управляющей воли шофера. Психическим процессам принадлежит в нашей жизни именно это значение факторов направляющих, а не созидающих физические явления, и потому их действие вполне согласимо с законом сохранения энергии. Быть может, скажут: но ведь рука шофера, поворачивающая руль автомобиля, тоже затрачивает известную физическую энергию! Конечно, это так. Но, во-первых, эта энергия направляющая ни в каком определенном отношении к количеству энергии, ей подчиненной и повинующейся,
188
уже не стоит (приведем еще более очевидный пример: нажатие электрической кнопки, зажигающее искру в динамитном подкопе, создает взрыв чудовищной силы). Ни о каком соответствии между количеством энергии, заключенном в такой «направляющей» причине, и количеством энергии в определенном ею следствии здесь уже не может быть и речи. Здесь может идти речь лишь о необходимости какой-то, хотя бы минимальной физической энергии, чтобы изменить ход или качественную особенность какого-либо физического процесса. Поэтому можно было бы сказать, что воздействие психического явления на физическое нарушает не «закон сохранения энергии» (который тут не при чем), а только закон «инерции», согласно которому всякое тело пребывает в раз присущем ему состоянии (покоя или движения), пока какая-либо внешняя ему физическая сила не изменит этого состояния. Однако — и здесь мы переходим ко второму возражению, — кто же когда доказал универсальную силу закона инерции в отношении не одних лишь мертвых тел, но и тел живых, одушевленных? Кто когда-либо доказал, что человек или всякое вообще одушевленное существо есть не что иное, как биллиардный шар, который «сам по себе» может либо находиться в покое, либо прямолинейно двигаться, — изменить же свое состояние или направление своего движения может только в том случае, если его извне толкнут? Не говорит ли нам здравый смысл прямо противоположное? Во всяком случае: вера в универсальное действие закона инерции и есть не что иное, как вера в всеобщий автоматизм, и механическую природу и потому в только механическую закономерность всего существующего, в том числе, всех процессов в одушевленных телах. Таким образом, ссылка на «закон инерции» не обосновывает па какой-либо достоверной физической истине учение о невозможности психофизического взаимодействия, а лишь другими словами повторяет ту же самую веру и эту невозможность; и, следовательно, здесь соверша-
189
ется типическая логическая ошибка idem per idem (выведение какого-либо положения из него самого) *).
Таким образом, вся ссылка на закон сохранения энергии основана на чистом недоразумении. Оно сводится, в общей форме, к тому, что в этом рассуждении общее понятие «причины» или «действующего начала» заранее и совершенно незаконно отождествляется с понятием «физически действующей причины», т. е. именно затраты физической энергии. Другими словами, здесь опять обнаруживается, что психофизический параллелизм предполагает именно то, что он должен доказать — именно, что действенной силой в мире могут быть только физические силы. Если же под причиной, как и надлежит, подразумевать всякий вообще процесс, имеющий своим следствием какое-либо изменение условий действительности, то никакой закон сохранения энергии не препятствует возможности допустить воздействие психических начал на физический мир.
Обсуждаемый нами вопрос имеет отнюдь не только отвлеченно-теоретическое значение: он имеет вместе с тем и огромное принципиально-практическое значение. Дело ведь идет о том, что может вообще воздействовать на человеческую жизнь, — вопрос, который, очевидно, имеет первостепенное значение и в педагоги-
*) Мы коснулись лишь вопроса о воздействии психического на физическое, потому что 1) оно имеет наибольшее практическое и принципиальное значение (как увидим сейчас же дальше) и 2) вызывает наибольшие сомнения. Обратный тезис психофизического параллелизма — невозможность воздействия физического на психическое — может быть опровергнут в двух словах: ведь ничто же не мешает тому, чтобы физический процесс, наряду с психическим следствием, имел и физическое же следствие, чем (как это и есть на деле) были бы вполне удовлетворены требования закона сохранения энергии. Но мы уже видели, что эту сторону своего утверждения сам психофизический параллелизм не берет в серьез, так как он имеет тенденцию утверждать именно подчиненность психических явлений физическим.
190
ке (индивидуальной и социальной) и в медицине. Остановимся здесь только на применении полученных выводов к медицине, к врачеванию человеческого тела, так как здесь изменение взглядов, происшедшее за последние десятилетия в науке и основанное на преодолении психофизического параллелизма, особенно разительно и вместе с тем поучительно.
В современной медицине мы замечаем воскрешение, под именем «психотерапии», давно забытых и преданных некогда осмеянию и пренебрежению, в качестве невежественного суеверия, методов духовного врачевания. В приемах лечения с помощью гипнотического внушения, в достижениях школы «психоанализа» (школы Фрейда, Адлера и других современных психопатологов) и, наконец, в недавних успехах метода внушения Куэ было обнаружено с неотразимой очевидностью, что значительная часть болезней, — во всяком случае, болезни, связанные с расстройством нервной системы — находятся в зависимости от состояния человеческих представлений и верований и потому могут быть излечены соответствующим воздействием на область последних. Мысли, чувства, представления, которые врач внушает больному, или которые он пробуждает у больного, оказались силой, гораздо более действенной и отношении процессов человеческого тела, чем всякие химические или механические действия лекарств и всяких иных физических воздействий. Это есть неотразимо убедительный факт, на опыте удостоверенный современной медициной и опровергающий все предвзято-натуралистические представления психофизического параллелизма. То, что знали все древние народы — что молитвами, заклинаниями, оловом воздействиями на душу больного — можно излечить его тело — именно это, — как бы парадоксально это ни звучало, — и как бы ни шокировало т. наз. передовых и просвещенных людей (которые только потому и считают себя передовыми, что отстали на несколько десятилетий от развития науки и без смы-
191
сла твердят уже опровергнутые «зады»), — становится вновь бесспорным достоянием современной науки. Современный врач, стоящий на уровне именно последних достижений науки, начинает гораздо более походить на древнего целителя, чем на своего недавнего предшественника, верившего только в порошки и пилюли.
Это есть лишь одно из выражений коренного переворота в понимании отношения между душой и телом, совершающегося в современной психологии через преодоление психофизического параллелизма и вообще натуралистического воззрения в психологии. Рабство человеческого духа, плененность и совершенная скованность духа плотью — было до недавнего времени в научной психологии и психофизиологии догматом, казалось, незыблемо твердо установленным, и всякое сомнение в нем казалось выражением невежества и суеверия. В настоящее время все это существенно изменилось; догмат о совершенной пассивности человеческого духа и полной, безграничной его подчиненности силам телесной жизни начинает именно в научном познании отношения между телом и душой все более сознаваться именно, как слепой, на веру принятый догмат, не соответствующий подлинной сложности соотношения и насильственно съужающий свободное исследование. Представления христианской религиозной веры, признающей, с одной стороны, действительную плененность человеческого духа плотью, и, с другой стороны, утверждающей наличность у человека свободной воли, через которую он может бороться с плотью и достигать господства над ней — в связи со всем относящимся сюда опытом аскетической практики, состоящей именно в постепенном освобождении духа от власти тела — оказываются отныне гораздо более широкими, объективными, более соответствующими итогам действительно свободного научного познания, чем узкий и схематически-односторонний догмат психологического натурализма. Но это связано уже с новым, утверждаемым в современ-
192
ной психологической литературе, пониманием существа человеческой душевной жизни. Поэтому окончательное уяснение ложности психофизического натурализма или материализма требует знакомства с новейшим развитием не одной лишь психофизиологии, но прежде всего и самой психологии. Мы обращаемся теперь к рассмотрению той глубокой и многозначительной эволюции психологического знания, которая за последние 2-3 десятилетия привела к полному крушению старой натуралистической психологии и к созданию новых представлений о природе человеческой души.
V
СТАРАЯ «ЭМПИРИЧЕСКАЯ» ПСИХОЛОГИЯ
(«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ДУШИ»)
Примерно в середине XIX века возникла и достигла на многие десятилетия почти безраздельного господства т. наз. «эмпирическая психология», принципы которой, впрочем, были предуказаны еще английскими эмпиристами Локком и Юмом в конце XVII и середине XVIII века. Эта «эмпирическая психология» получила подкрепление в лице т. наз. экспериментальной психологии, создавшей лабораторное экспериментальное исследование душевных явлений (первая психологическая лаборатория была создана Вундтом в Лейпциге в 70-х годах). Эмпирическая и экспериментальная психология, которая добыла некоторый интересный и ценный материал специально-научного характера, по своим общим философским посылкам опиралась на философский натурализм и была его характерным выражением в психологии.
Замысел эмпирической психологии состоит в создании из учения о душевных явлениях точной положительной опытной науки, освобожденной от всякой связи с метафизикой и разрабатываемой по образу других положительных опытных наук. Замысел этот
193
в своей общей форме, именно как попытка создания из психологии подлинной, обоснованной на опыте науки — бесспорно правомерен. Но в своем осуществлении в «эмпирической психологии» он осложнился целым рядом предпосылок, которые — как это обнаружило именно новейшее развитие психологических исследований — сами не только не были научно обоснованы, не только были совершенно произвольны, но и прямо противоречили непосредственно-опытно данной природе душевных явлений. Предпосылки эти были приняты на веру, как некие бесспорные истины потому, что они соответствовали специфическому пониманию эпохи того, что надо разуметь под «положительной» или «точной» наукой. А именно, казалось бесспорным, что всякое знание становится «положительным» и «точным» лишь в той мере, в какой оно начинает походить на единственный образец истинного знания — на естествознание и притом на естествознание, понятое в духе механистического мировоззрения. Господствовавший в ту эпоху натурализм требовал, чтобы все явления понимались по образцу явлений природы, т. е., в конечном счете, материальных явлений. Поэтому казалось, что и психология — наука о душевной жизни — станет «настоящей наукой», лишь если ей удастся познать душевные явления в понятиях и с помощью методов естественных наук. Отсюда именно объясняется совершенно своеобразное направление, принятое «эмпирической психологией», и тот замечательный факт, что исследование, пытавшееся быть точным, беспристрастным, объективным описанием данных душевной жизни, в действительности подменило такое описание произвольной конструкцией, в корне искажавшей действительную природу душевной жизни и упрямо отрицавшей самые характерные, в опыте непосредственно предстоящие свойства и своеобразия душевной жизни. Но прежде, чем приступить к критике этого направления, дадим вкратце отчет о самом содержании его.
«Эмпирическая психология» утверждала себя че-
194
рез противопоставление себя психологии «метафизической». По ее мнению, старые философские теории душевной жизни строились не на опытном наблюдении фактов, а на отвлеченных рассуждениях, опиравшихся на предвзятые, по большей части заимствованные из религии верования. Строилось, напр., понятие о душе, как о субстанции, лежащей в основе душевных явлений; чтобы доказать, что душа бессмертна, утверждалось, напр., что она есть субстанция абсолютно простая, и потому и неразрушимая (ибо разрушимо только разложимое, т. е. сложное). Все такого рода утверждения, исторически идущие еще от средневековой схоластики, — по мнению сторонников эмпирической психологии — не имеют никакой научной ценности; это суть именно «метафизические» рассуждения, т. е. рассуждения о предмете, которого никто не видал и увидеть не может и потому совершенно бесплодные и произвольные. Их надо — как этому учил уже Кант — радикально и раз навсегда отбросить, как ненужные и бесплодные, и заменить скромной, не притязающей на решение великих метафизических вопросов, работой по наблюдению, накоплению и систематизации фактов душевной жизни — работой, которая соберет материал для настоящего, опытного знания закономерностей душевной жизни и таким образом заложит основу научно-обоснованного, точного и практически-плодотворного знания в этой области.
Поэтому «эмпирическая психология» в лице Фридриха Альберта Ланге (автора известной «Истории материализма») провозгласила себя «психологией без души» — не в том смысле, чтобы она отрицала существование души (по крайней мере, по сознательному своему замыслу), а лишь в том смысле, что она не занимается исследованием этого — неразрешимого, чисто метафизического вопроса — и умышленно ограничивает себя изучением явного в душевной жизни, именно непосредственно опытно данных душевных явлений.
Таким образом, в этом замысле подчеркивается,
195
что истинно научная психология должна отвергнуть, отклонить без всякого рассмотрения все предвзятые, чисто отвлеченные, «априорные» философские теории о природе души и ограничиться совершенно непредвзятым опытным описанием очевидных фактов. Замысел, сам по себе, как уже указано, превосходный; но не трудно убедиться в том, что он с самого же начала остается неосуществленным и даже прямо нарушается. Если до всякого исследования утверждается, что эмпирическая психология есть «психология без души», что она ограничивается познанием закономерностей отдельных душевных явлений, то очевидно, что это убеждение опирается на некое философское, заранее принятое убеждение, которое сводится к тому, что то, что называется «душой», никогда не может быть дано нам в опыте, что, напротив, в опыте нам даны лишь отдельные душевные явления, и что, наконец, эти душевные явления протекают закономерно, по образцу закономерности всех отдельных, т. е. материальных явлений природы. Таким образом, программа научной работы по эмпирической психологии совсем не ограничивается простым требовать утверждать лишь то, что опытно удостоверено; она разработана с самого начала на основании определенных, заранее принятых философских убеждений. Попытаемся уяснить себе содержание этих убеждений.
Первая посылка эмпирической психологии заключается, как указано, в том, что в опыте нам даны только отдельные душевные явления, но никогда не дано что-либо, что мы могли бы назвать нашей душой. Эта посылка сама разлагается на два утверждения, смотря по тому, что мы будем разуметь под «душой».
а) Под «душой» можно разуметь некое первичное неразрывное единство душевной жизни — то, что мы называем нашим «я» — единство, которое объемлет в себе и имеет отдельные душевные переживания. В этом смысле утверждение эмпирической психологии сводится к тому, что никакого первичного, неразрыв-
196
ного единства душевной жизни, как носителя отдельных душевных явлений или их как бы общего фона, в опыте не наблюдается; для опытного наблюдения наша душевная жизнь являет картину, слагающуюся из совокупности отдельных явлений, напр., отдельных ощущений, представлений, чувств и т. п.; в опыте мы не имеем ничего, кроме суммы таких отдельных элементов — их единство же мы примышляем, а не воспринимаем опытно. Уже Юм, один из предшественников новой эмпирической психологии в XVIII веке, утверждал это. «Когда я погружаюсь в самого себя — говорил он — и стараюсь найти свое «я», мне никак не удается это. Я нахожу в себе чувство голода или сытости, тепла или холода и т .п., но нигде я не нахожу своего «я». В Англии на основе этого воззрения сложилась (возникшая еще в XVII веке в лице философа-натуралиста Гоббса, но особенно укрепившаяся после Юма) т. наз. «ассоциационная» психология, которая нею душевную жизнь рассматривала, как совокупность «ассоциаций», т. е. связей, устанавливающихся между отдельными «представлениями» или «идеями». Душевная жизнь есть с этой точки зрения комплекс или набор отдельных «идей», между которыми устанавливается связь («ассоциация»), так что одна идея влечет на собой возникновение какой-нибудь другой идеи. Это же воззрение было потом подкреплено учением Гербарта, немецкого философа начала XIX века, который, будучи сам метафизиком, в силу атомистического характера своих метафизических воззрений, содействовал пониманию душевной жизни, как механического набора и взаимодействия отдельных, замкнутых «элементов». По Гербарту, «душа» есть как бы пустое место, в котором только разыгрываются всякого рода столкновения, явления притяжения и отталкивания между «представлениями», как некими атомами душевной жизни. Но особенно сильное действие на это убеждение «эмпирической» психологии оказало одно психологическое воззрение, связанное с материализ-
197
мом и в новейшей философии идущее от французского философа XVIII века Кондильика — именно, т. наз. сенсуализм. Сенсуализм утверждает, что вся наша, душевная жизнь во всем ее содержании, — все наши мысли, воля, общие чувства — в конечном счете разложимы без остатка на простейшие чувственные ощущения — на ощущения тепла и холода, звуков, света и цветов, запахов, вкусов, твердости, гладкости, давления и т. п. Если принять эту точку зрения, то становится очевидным, что «душа» или даже «душевная жизнь» есть не более, как общее название для множества отдельных элементарных душевных явлений, именно «ощущений». Под всеми этими влияниями сложилось убеждение «эмпирической» психологии, что в опыте мы не наблюдаем и не можем наблюсти никакого первичного единства, что наша душевная жизнь не есть некое первичное целое, а лишь сумма отдельных «явлений», и что именно поэтому эмпирически исключена всякая возможность познания «души». Наша душевная жизнь, с этой точки зрения, складывается как бы из отдельных кусочков или кубиков, вроде как ребенок строит дом из кубиков, и, отсюда именно возникает программа «эмпирической психологии» познать эти отдельные камешки и способы их комбинирования. Позднее, в новейшее время, когда ложность этой теории была уже разоблачена (о чем ниже), она была названа «атомистической психологией» (один из лучших ее критиков, американский психолог Джемс, будучи сам чистым эмпиристом, метко назвал ее теорией «душевной пыли» (Mind-dust theory).
б) Но под «душой» можно также разуметь не просто единство душевной жизни, а некую центральную руководящую инстанцию, то единство душевной жизни, которое является носителем отдельных душевных явлений или ту последнюю глубину, из которой вырастают и частными проявлениями которой служат отдельные единичные переживания. Обыкновенно мы
198
считаем — и с этим обычным мнением согласовалась и старая «метафизическая» психология — что все отдельные наши переживания и душевные процессы как то вытекают из недр нашего «я», определены началом, скрытым в глубине и непосредственно недоступным для постороннего наблюдения; и это начало и называется «нашей душой». В отношении этого понятия «души» отрицательная позиция эмпирической психологии обосновывается особенно просто: так как ее задача состоит в простом описании или констатировании видимого, непосредственно данного, явствующего в опыте, то она отклоняет как недоказуемые, все догадки о скрытой глубине душевной жизни. В опыте нам дано, так сказать, только наружное, только внешний пласт душевной жизни; иметь опытное знание равносильно тому, чтобы констатировать явное, непосредственно данное; в опыте мы как бы читаем то, что открыто стоит перед нами, как написанное на доске. О том же, что скрыто в глубине, мы можем только строить догадки — и притом догадки непроверимые, так как взор наш непосредственно в глубину не проникает. Поэтому психология, как эмпирическая наука, ничего не знает и не может знать о «душе», как подземной глубине душевной жизни, как о «носителе» ее или о единой силе, из внутри ею управляющей. И в атом втором смысле она, следовательно, отклоняет всякие гипотезы о природе души, отклоняет и самый вопрос о существовании «души» в этом смысле.
Если мы проанализируем и постараемся точно выразить ту посылку, на которую в этом отношении опирается и из которой исходит эмпирическая психология, то она' может быть сведена к следующему: «глубины» душевной жизни непосредственно в опыте никогда не даны, они резко и определенно отделяются от поверхности ее, которая одна только открывается нам в опыте.
С этим утверждением, что предмет эмпирической психологии ограничивается отдельными душев-
199
ными явлениями, сочетается еще одна посылка эмпирической психологии, касающаяся понимания самой природы душевных явлений. Она состоит в утверждении, что душевные явления суть явления природы, и что, следовательно, к ним применимы все те понятия (категории) и только те понятия, которыми мы пользуемся при изучении остальных, т. е. материальных явлений. Комплекс душевных явлений должен быть изучаем, как некий природный механизм, и задача эмпирической психологии заключается в познании закономерностей и причинных связей между частями этого механизма. Уже идея психофизического параллелизма (с которой исторически связан замысел эмпирии ческой психологии) предполагает, что между порядком и связью психических явлений и таковыми же — материальных явлений может быть установлена точная пропорциональность (ведь «параллельными» могут быть только однородные образования, как в геометрии — две прямых линии или две плоскости; наоборот, между, напр., линией и кругом нельзя установить «параллельности» в виду их разнородности). С другой стороны, по мысли эмпирической психологии, этими механическими связями исчерпываются отношения между душевными явлениями; все, что выходит за их пределы или с ними не согласуется, должно быть отброшено, как «метафизика»; сюда относятся такие понятия, как «свобода», «цель» (телеологическая связь), «разумность», «смысл» и т. п. Можно сказать, что и в этом отношении эмпирическая психология есть «психология без души» в том смысле, что она смотрит на живого человека, который (по своему внутреннему чувству) действует свободно и разумно, направляется к определенным целям и имеет какое-то осмысленное отношение к окружающему его миру, как на «психический автомат», как на комплекс отдельных душевных явлений, подчиненных только одним слепым природно-закономерным связям.
Таковы предпосылки эмпирической психологии,
200
которая, заявляя о своей независимости от всякой метафизики и пытаясь быть простым, непредвзятым описанием опытно-данных фактов, в действительности опирается, таким образом, на принятое на веру общее философское (или — что то же — метафизическое) представление о природе душевных явлений и приспособляет к нему методы своего исследования.
VI
КРИТИКА «ЭМПИРИЧЕСКОЙ» ПСИХОЛОГИИ
Есть еще немало т. наз. «образованных» людей (и в Европе, и в особенности, в современной России), которые веруют в эти идеи и замыслы эмпирической психологии и при этом с наивным самомнением полагают, что они придерживаются наиболее «передовых идей», идут вровень с новейшим развитием научной психологии. В действительности, все развитие научного, действительно непредвзятого изучения душевной жизни за последние четверть века привело к совершенному, всестороннему опровержению этой «эмпирической» (в действительности — натуралистической) психологии и к замене ее действительно новой психологией, которая, хотя часто также называется эмпирической (так как строится на опытном познании), но не имеет ничего общего с эмпирической психологией в старом, традиционном изложенном выше смысле. Шаг за шагом были опровергнуты, изобличены, как ненаучные фантазии, все изложенные выше посылки старой эмпирической психологии, вытекавшие из предвзятого натуралистического миропонимания.
1. Критика психического атомизма и учение о
душе, как единстве душевной жизни.
Как указано, старая эмпирическая психология утверждала, что в опыте нам даны только отдельные
201
психические явления, тогда как первичное единство душевной жизни, коренное единство «я» есть лишь домысел метафизической психологии, опытно не оправдываемый. Новейшее изучение душевной жизни привело к решительному опровержению этого тезиса. Уже старый английский философ Джон Стьюарт Милль, сам сторонник «ассоциационной», т. е. «атомистической» психологии, однажды (в сочинении «Обзор философии Гамильтона) высказал сомнение в ее правильности. Он рассуждает так: допустим, что душевная жизнь есть как бы ожерелье, состоящее, как из бус, из отдельных душевных явлений (представлений, ощущений и т. п.). Но отчего же все же это ожерелье не рассыпается? Отчего оно держится вместе и создается хотя бы иллюзия его единства, наличия какого-то сознания, которое имеет все эти душевные явления? Должна же и здесь быть какая-нибудь нить, которая из многих бус создает одно цельное ожерелье! Позднее знаменитый американский психолог Джемс, который может почитаться первым современным реформатором психологии, дополнил эту мысль следующим соображением. Если бы душевная жизнь была только совокупностью отдельных, замкнутых, самостоятельных душевных явлений, которые стояли бы только в закономерной внешней связи между собой, то каждое из них сознавало бы или знало бы только само себя; человек распался бы на множество маленьких сознаний, и душевной жизни, как некого цельного, прозрачного для самого себя единства (именно «личного сознания»), совсем не существовало бы. Вообразим себе несколько человек, из которых каждый знает одно слово; из многих отдельных слов слагается фраза. Свяжите как угодно тесно этих людей, заставьте их соприкасаться друг с другом — и все-таки фразы (или — что то же — единой мысли) не получится, если слова распределены между ними так, что каждый знает про себя только одно слово; их совокупность не составит такого единства, которое имело бы всю фразу
202
целиком. Так же было бы и с индивидуальным сознанием, если бы оно было только совокупностью отдельных душевных явлений: сознания, как целого, обозревающего эту совокупность и обладающего ею, вообще бы не было.
Это общее соображение Джемс — и одновременно и ним французский философ и психолог Бергсон — подтверждают прямыми наблюдениями над душевной жизнью. Ошибка старой эмпирической психологии, как они указывают, заключалась бы в том, что она имела в виду единство «я», как особое содержание душевной жизни наряду с другими; вполне естественно, что она не могла его найти и стала его отрицать. Ио если единство не искать отдельно от других душевных явлений, а видеть в нем лишь как бы общее свойство всех душевных явлений, общий фон, на котором они обнаруживаются и которым они пронизаны, то непредвзятое наблюдение свидетельствует о прямо обратном: нигде и никогда мы не встречаем в душевной жизни отдельных переживаний или явлений, которые были бы обособлены друг от друга и были бы мыслимы самостоятельно. То, что нам действительно дано в сознании, есть некий сплошной поток, некая цельная и неразрывная стихия душевной жизни, в которой то, что мы называем «представлением», «ощущением» и вообще каким-либо особым именем, ость не отдельная вещь, мыслимая обособленно, а лишь что-то вроде оттенка и перелива, нераздельно и неотрывно входящего в состав сплошно-цельной душевной жизни. Другими словами: именно единичное душевное явление, взятое независимо от всего остального, как какая-то самодовлеющая замкнутая реальность, есть лишь результат нашей абстракции и никогда не может быть дана в опыте. Все, что мы имеем в опыте, носит характер некого общего самочувствия, некоторого сплошного и неразделимого единства многообразия; поэтому многообразие в нем есть не многообразие отдельных «явлений», а лишь многообразие отдельных, абстрак-
203
тно неделимых сторон или моментов общей душевной жизни. Реально в душевной жизни не существует ни отдельных «представлений» или «ощущений», ни отдельных «чувств», ни отдельных» «волевых движений» («хотений» и т. п.). Каждое переживание есть конкретное единство, в котором мы можем лишь отметить «сторону» представлений, чувств, хотений и т. п. Я испытываю, напр., укол иголкой; в этом переживании сразу есть и «ощущение» острия, и представление об иголке, и чувство боли, и волевое усилие избегнуть ее; и притом переживание вовсе не слагается, как из отдельных кусков, из всех этих душевных явлений; оно, напротив, лишь задним числом разложимо (для нашей абстрагирующей мысли) на них; непосредственно оно есть, наоборот, одно целостное переживание, которое реально никак нельзя разнять на отдельные части. Такое же единство обнаруживает душевная жизнь и в своем протекании во времени. Как особенно хорошо показал Бергсон, душевная жизнь протекает во времени не в форме смены отчетливо разграниченных между собой отдельных душевных явлений, а, напротив, в форме сплошного потока, в котором старое и новое не только соприкасаются одно с другим, но внутренне пронизывают одно другое и образуют непрерывное и неразложимое единство. Во всякое мгновение нашей жизни «настоящее» (то, что сейчас переживается) переходит в прошлое, как и «будущее» переходит в «настоящее», так что в каждое, наималейшее мгновение мы имеем сразу в слитной форме прошлое, настоящее и будущее; и душевная жизнь человека, протекающая во времени, вместе с тем в известном смысле целиком, как единство, присутствует или наличествует в каждое мгновение его жизни. Коротко говоря, все многообразие душевной жизни есть как бы многообразие волн и переливов цветов одного подвижного океана, а ни в каком случае не многообразие отдельных камушков или кирпичиков, из которых чисто механически слагалась бы какая-то внутренне
204
несвязанная «груда» или «комплекс» душевных переживаний.
Перед лицом непосредственного и непредвзятого психологического опыта старая эмпиристическая психология, утверждавшая, что душевная жизнь есть лишь совокупность отдельных душевных явлений, обнаруживается, как плод рационалистической метафизики, которая продукты абстракции, отдельные понятия, смешивает с самой конкретной реальностью. Окапывается, что старая эмпирическая психология совсем не видела своего предмета, как он есть на самом деле; исходя из предвзятых предпосылок о том, каким он должен быть, она подменяла реальность своею выдумкой.
Это общее описание душевной жизни у Джемса и Бергсона было затем подкреплено специальными, отчасти экспериментальными, изысканиями над некоторыми сторонами душевной жизни. Главная заслуга принадлежит здесь изучению явлений мышления. Примерно одновременно, в первом десятилетии XX века, французский психолог Бинэ и группа немецких психологов (т. наз. «вюрцбурская школа», по месту, в котором были начаты эти исследования) впервые принялась за внимательное изучение явлений мышления. Что собственно с нами происходит, когда мы «думаем», ставим «вопросы», «сомневаемся», «понимаем», приходим к решению» и т. п.? Выводы, к которым пришли и Бинэ, и вюрцбургская школа, оказались в общем тождественными. Обнаружилось, что явления мышления никаким образом нельзя свести ни к представлениям, ни к ощущениям, ни к каким либо иным отдельным душевным явлениям. При всей трудности описания явлений мышления пришлось все же констатировать, что они лучше всего могут быть определены, как некоторое общее «душевное состояние». Не то, чтобы в нашем сознании совершалось или возникало при этом что-либо отдельное; напротив, наше сознание приходит, как целое, в особое «состояние»
205
или «положение» (Bewusstseinslage). С особенной отчетливостью обнаружилось, что результат умственной работы, напр., как кто решает поставленную задачу, понимает вопрос и отвечает на него, определяется не какими-либо отдельными «данными», а общим направлением сознания, его интересами, его тяготением в определенную сторону, его общими «определяющими тенденциями». Эти выводы имеют, между прочим, очень большое практически-педагогическое значение, так как ограничивают преувеличенную старым эмпиризмом роль т. наз. «наглядного обучения», т. е. обучения с помощью отдельных, внедряемых в ученика, образов или наглядных представлений и указывают на зависимость умственного развития от совершенствования общих внутренних сил сознания. Здесь для нас, однако, существенен лишь принципиальный вывод этих исследований, с новой стороны изобличивших ложность атомистической психологии, экспериментально показав, что все, что может быть (хотя бы условно) названо «единичным» содержанием душевной жизни, находится у человека, как мыслящего существа, под постоянным управлением общих сил и общего состояния сознания. То, что мы называем нашим «я», единством нашего сознания, обнаружилось в этих исследованиях не только, как необходимый общий фон, общая почва для всякого многообразия, но и как реальная действующая сила, определяющая ход душевной жизни *).
*) К аналогичному выводу в области волевой жизни пришел, впрочем, уже раньше упомянутый выше Джемс: он указывает на несостоятельность обычного представления, по которому волевая жизнь протекает в форме борьбы как бы равноправных между собою разнородных мотивов. Напротив, в опыте волевой жизни мы явно различаем разные по глубине или иерархическому достоинству, т. е. более центральные и более иерархические инстанции. Человек, склонный к пьянству, когда ему удалось преодолеть эту страсть, говорит «я преодолел свою страсть к вину». Но никогда пьяница, поддавшись
206
В другой связи мы касаемся ряда иных новейших психологических учений, которые также ведут к опровержению атомистических представлений о душевной Жизни. Здесь же упомянем еще лишь об одном новейшем направлении в психологии, которое непосредственно, с новой стороны, подтверждает наличие первичного единства в душевной жизни. Мы разумеем учение о т. наз. психической «форме» (Gestalttheorie). Ha основе мысли намеченной австрийским психологом Эренфельсом в работе о т. наз. «качестве формы» (Gestaltqualität) еще в конце девятнадцатого века, в настоящее время ряд психологов, во главе с профессорами Берлинского университета Кёлером и Вертгеймером, опубликовали ряд работ на тему «Gestalttheorie». (Работы эти вышли в самые последние годы, между 1922 и 1927 г., и соответствующие изыскания продолжаются и далее). Общая мысль этого направления состоит в том, что в душевной жизни все определено не отдельными «элементами», в ней участвующими, а теми цельными комплексами, которые вырастают из своеобразных сочетаний этих элементов. Логически мысль этого направления можно выразить так: всякое целое, по крайней мере, в непосредственном его восприятии и переживании, есть нечто большее, чем простая сумма его частей. Картина разложима на ряд пятен, линий и т, п., но, как целое, она имеет в себе нечто большее, того нет в сумме пятен и линий и в этом добавке состоит именно главное, самое важное в картине. Мелодия есть последовательность тонов, но, как мелодия, она есть единство, и в этом единстве есть что-то новое,
искушенью, не скажет: «я преодолел стремление к воздержанию», а скажет, напротив: «страсть к вину одолела меня». В пашей волевой жизни мы отличаем, следовательно, отдельные, как бы чуждые нашей личности, извне вторгшиеся в нас и овладевающие нами влечения, от влечений, исходящих им недр личного сознания, из центра личности. И здесь, следовательно, обнаруживается, что личное единство есть действенная реальность.
207
чего нет в простой совокупности отдельных звуков, из которых она слагается. Весьма тонкие и тщательные изыскания этой школы показали, что душевная жизнь всегда протекает по типу такого рода «форм» (Gestalten), что во всех душевных переживаниях специфическое, определяющее их качество дается не отдельными элементами, а именно своеобразием целостных комплексов. Так, напр., качество ощущения, взятого в отдельности — скажем, отдельного цвета — есть лишь абстракция, не существующая реально в душевной жизни; конкретно качество отдельного цвета определено единством той сложной зрительной картины, в составе которой он в данный момент встречается. (Это, конечно, на практике давно известно всем художникам, и лишь в теоретической психологии впервые теперь формулируется). Таким образом, здесь с новой стороны раскрывается, что душевная жизнь никогда не может быть сведена к совокупности отдельных «душевных явлений», а есть всегда некоторое целостное первичное единство. Психолог, стоящий на уровне современных достижений научной психологии, уже не решится сказать, что психология есть изучение отдельных явлений, без всякого отношения к «душе». Напротив, поскольку под душой разумеется просто непосредственное, первичное единство нашего «я», или душевная жизнь как некое исконное целое, он должен сказать, что современная психология всегда занимается самой «душой», и все единичное и частное, что встречается в душевной жизни, рассматривает всегда на фоне «души», как целого, или в связи с ней — ибо именно так, а не отрешенно и самостоятельно, даны нам в опыте «душевные явления».
2. Критика психологического рационализма. Душа,
как глубина душевной жизни.
Но, как уже указано, под «душой» обычно разумеется не только единство душевной жизни в его не-
208
посредственной очевидности, но и, по большей части, скрытый «носитель» душевной жизни, та последняя, недоступная непосредственному восприятию, глубина, в которой зарождаются и из которой возникают отдельные душевные переживания. Старая эмпирическая психология утверждала, что эта «глубина», будучи недоступна непосредственному научному опыту, тем самым должна быть исключена из состава научного психологического знания, которое должно ограничиваться описанием непосредственно явных психических данных. И в этом отношении новейшее развитие психологии привело к радикальному изменению общего воззрения на предмет и задачи психологии.
Уже давно — примерно со времени книги Эдуарда Гартмана «Философия бессознательного», в 70-х годах XIX века — психология обратила внимание на явления т. наз. «бессознательной душевной жизни». Но лишь за последнее время она приступила к систематическому их изучению и усмотрела в них основу всей нашей душевной жизни. Исследования этого рода привели к решительному перевороту во взгляде на задачи и метод эмпирической психологии.
С точки зрения старого, рационалистического понятия психологического опыта самое понятие «бессознательных душевных явлений» было чем-то невозможным, заключая в себе внутреннее противоречие. Ведь душевные явления для него были «явлениями сознания»; мы имеем душевное явление, поскольку мы что-либо «сознаем» в себе; тем более «познать» и научно описать можно только то, что «сознается». Как же может научный опыт проникнуть в то, что не сознается, что бессознательно? И как может вообще существовать, в сфере психического, такая область? Не есть ли область «бессознательного» попросту область не-психического, материального, что совершается в нашей нервной системе, не переходя в сознание, т. е. не порождая «душевных явлений»?
Эти отвлеченные соображения, на первый взгляд
209
весьма убедительные, должны были, однако, отступить перед разительными фактами, которые с ними никак не могли согласоваться. На эти факты натолкнулась прежде всего описательная психопатология, наука о душевных болезнях. Знаменитый французский психопатолог Пьер Жанэ в своей книге о «Психическом автоматизме» (1912) дал мастерское изображение роли, которую играют бессознательные переживания в душевных болезнях, напр., в истерии. При этом оказалось совершенно невозможным или, по крайней мере, в высшей степени неправдоподобным и искусственным чисто физиологическое, т. е. материалистическое истолкование бессознательной душевной жизни. Из бесчисленного множества примеров приведем здесь один — два наиболее показательных. При явлениях т. наз. «смены личностей», когда больной вдруг забывает все свое прошлое и воображает себя совсем новой личностью, можно, с помощью особых приемов, напр., автоматического письма и т. п. показать, что «прежняя личность» продолжает жить и мыслить в больном, но так, что он об этом ничего не знает. Другой пример. При исследовании явлений т. наз. «отрицательной галлюцинации» (т. е. невидения предметов, стоящих перед глазами) исследователь внушает испытуемому лицу с помощью гипноза, что он не будет видеть числа «кратные трех». Испытуемое лицо, видя все остальное на месте, где стоят числа б, 9, 12, 15 и т. д. видит пустое место. Чтобы такое явление было возможно, очевидно, необходимо, чтобы испытуемое лицо не только фактически видело эти цифры, но и произвело над ними умозаключение, узнав в них «кратное трех», и в результате этого умозаключения не видело этих чисел. Здесь наличие бессознательных умственных процессов обнаруживается с полной очевидностью.
Особое развитие исследование «бессознательного» или «подсознательного» получило в психопатологических учениях школы Фрейда. Фрейд, его многочисленные ученики и единомышленники пришли к убеж-
210
дению, что одной из главных причин большинства душевных заболеваний является какое-либо тягостное, Неприятное или позорящее представление, которое вытесняется в «подсознание», забывается самим больным, но из глубины подсознания давит на сознательную жизнь больного и калечит его. Для исцеления больного, нужно, путем исповеди, наводящих вопросов, толкования его снов и т. п., специально разработанных приемов «психоанализа», вскрыть это загнанное вглубь подсознания представление, довести его до сознания больного, благодаря чему оно сразу же теряет Свое болезнотворное действие. Нам нет надобности здесь более подробно рассматривать учение этой школы, напр., роль, которую она с некоторой чрезмерной исключительностью, приписывает представлениям сексуального порядка, в особенности представлениям, идущим из сферы детской сексуальности. Существенно для нас лишь то, что здесь с замечательной проницательностью, принесшей существенные плоды в споем практическом применении к терапии, т. е. к леченью болезней, показана огромная роль явлений бессознательных, лежащих в неведомой глубине душевной жизни.
Аналогичные результаты дает недавно начавшееся психологическое изучение т. наз. «оккультных явлений» — явлений ясновидения, телепатии, «говорящих столов» в спиритических сеансах и т. п. В настоящее время собран уже огромный материал как фактического, так и экспериментального порядка в области этих явлений. Сводку его дает теперь маститый французский психофизиолог Шарль Ришэ в своем обширном руководстве «Traité de Métapsychique» (1 изд. 1921, 2-е изд. 1925). Здесь, в нашей связи, из этого обширного и в высшей степени интересного материала мы отмечаем лишь тот общий факт, что явления этого рода имеют теснейшую связь с сферой «бессознательного». В «телепатических» явлениях угадываются обыкновенно мысли, о которых лицо, их имевшее,
211
уже забыло, но которые оно когда-то имело. И сами «оккультные явления» (движения стола или блюдечка, угадывания мыслей, видения на расстоянии и т. п.) совершаются участниками сеансов бессознательно и именно поэтому получается впечатление, что здесь действуют неведомые «духи». Вместе с тем обнаруживается, что через посредство нашей бессознательной сферы мы имеем восприятия и знания, совершенно невозможные для нормального состояния и потому представляющиеся «чудесными». Исследование показывает, что такими «медиумическими» способностями, по крайней мере, в элементарной или слабой форме, обладают едва ли не все люди, и что т. наз. «медиумы» суть лишь лица, особенно одаренные в этой области.
Общий итог всех подобных психологических изысканий сводится к тому, что наша «сознательная», как бы воочию видимая душевная жизнь есть лишь малая и зависимая часть всей нашей душевной жизни, в значительной мере определяемая другой, «бессознательной» частью душевной жизни. Жизнь «снов» не прекращается в нас никогда и наяву, а только вытесняется дневным светом сознания, подобно тому, как свет звезд невидим днем из-за вытесняющего его света солнца. Но тем самым меняются и задачи опытного познания душевной жизни. Простое описание явных, бросающихся в глаза «сознательных» явлений не дает нам подлинного понимания структуры душевной жизни; чтобы постичь последнюю, мы должны проникнуть в непосредственно невидимую глубину душевной жизни. И потому, напр., психология фрейдовской школы называет себя «психологией глубин», «Tiefenpsychologie».
Если же мы спросим себя, как возможно для опытного эмпирического изучения такое проникновение в глубину, то ответом на это должно быть требование преобразовать самое понятие «психологического опыта». Старое представление, по которому опыт означает здесь описание явного, сознаваемого, оказывается со-
212
вершенно ложным. Душевная жизнь по самому своему существу не есть «сознание», а есть именно жизнь, переживание. Мы можем иметь опыт «переживания» во всей темноте, смутности, глубинности этой сферы бытия. Всякий психологический опыт есть по существу не рациональное видение того, что, как написанное на доске, воочию стоит перед нами, а проникновение и глубь, ориентирование в темном, глубоком, таинственном нутре душевной жизни. Неверно, будто «глубь, души» какой-то непроходимой китайской стеной отделена от ее наружных проявлений, от явных «психических явлений». Это представление, лежащее п основе метода старой эмпирической психологии, есть предвзятая идея, не соответствующая истинной, действительно в опыте данной структуре душевной жизни. Напротив, непрерывность, присущая вообще душевной жизни, присуща и этому ее измерению в глубину. Душевная жизнь есть некая туманная стихия, которую мы всегда видим неотчетливо, лишь приблизительно, но которую вместе с тем мы принципиально видим насквозь, так что мы вовсе не обречены останавливаться перед ее будто бы непроницаемыми глубинами и оставаться на ее поверхности. Психологический опыт ость то же самое, что психологическая проницательность: в согласии с своеобразием своего предмета, он есть всегда проникновение в глубину, вхождение во внутрь душевной жизни.
Общий философский вывод из этих достижений новейшей психологии и здесь сводится к тому, что «психология без души» есть бессмыслица. Душа, в смысле определяющей жизненной глубины отдельных душевных явлений, есть не метафизическая выдумка, которую эмпирическая наука могла бы и должна была бы отбросить, а опытно данная реальность, вне связи с которой мы ничего не можем как следует познать и в поверхностном слое душевных явлений, потому что паления эти сами развертываются в связи с ней, вырастают из ее глубин и в своем закономерном течении
213
обусловлены ею. Душевная жизнь и с этой стороны, именно в отношении между скрытой своей глубиной и поверхностью, обнаруживается, как первичное единство, как непрерывное или сплошное целое, которое нужно брать, как оно есть, т. е. как оно действительно предстоит в опыте, а не искусственно разрывать его на отдельные части, как то в угоду предвзятой теории пыталась делать старая психология, незаконно именующая себя «эмпирической».
3. Критика психологического натурализма.
Как ни значительны приведенные в двух предшествующих параграфах достижения современного психологического знания, в корне разрушающие традиционные представления старой эмпирической психологии и восстанавливающие в психологии права «души», как первичного единства и действенной глубины душевной жизни, решающими, в смысле критики психологического натурализма, являются не они, а ряд других соображений и достижений, в которых обнаружено своеобразие самой области душевных явлений и ее несравнимость с областью явлений природы, в силу чего падает весь замысел построения психологии по образцу «естествознания».
а) Первый вопрос, поднятый в этом отношении в психологической литературе, был вопрос об измеримости душевных явлений. Со времени возникновения т. наз. «психофизики», т. е. исследования отношений между физическими раздражениями (звуковыми воздушными волнами, световыми лучами, температурным состоянием, весом тела и т. п.) и соответствующими им, чисто психическими ощущениями (ощущениями звуков, света, теплоты, давления, тяжести и т. п.). Основатель психофизики Фехнер, открывший в 40-50-х годах XIX века соотношение между раздражением и ощущением, согласно которому ощущение совсем не пропорционально величине раздражения, а меняется
214
и более сложной зависимости от последней (т. наз. «икон Вебера — Фехнера), натолкнулся на необходимость количественно измерить ощущения. В виду невозможности прямо измерить ощущения, он прибег к искусственному и спорному приему: за единицу ощущения он принял ту величину, на которую изменяется ощущение, когда мы впервые вообще замечаем его изменение, т. е. когда оно еле заметно увеличивается или уменьшается для нас. (Когда мы замечаем, что стало, напр. «чуть-чуть» светлее, громче, тяжелее и т. п.). На основании этого допущения Фехнеру удалось формулировать, казалось, точный математический закон о соотношении между величинами раздражения и ощущения (согласно которому ощущение растет, как логарифм раздражения). Казалось, что психология пошла по стопам естествознания, ставши «точной» математической наукой. Но тотчас же обнаружились и сомнения, неизменно нараставшие по мере хода исследования вопроса. Была обнаружена совершенная произвольность приема Фехнера. Сомнительной оказалась и возможность считать «еле заметный прирост» ощущения величиной постоянной, и в особенности возможность принять его за единицу, из которой складывается и которой измеряется абсолютная величина ощущения. Здесь и невозможно, и ненужно, излагать в подробностях этот специальный вопрос. Достаточно отметить итог, к которому пришло его обсуждение: математическое измерение величины ощущения оказалось совершенной фикцией; предприятием принципиально неосуществимым. Если не смешивать оценку величины физического явления (раздражения) с оценкой величины или интенсивности самого (психического) ощущения, то оказывается совершено невозможным ответить на вопрос, во сколько раз, напр., один свет ярче другого, один звук громче другого, один груз тяжелее другого, именно в самом душевном переживании. Вопрос этот, в сущности, столь же бессмысленный, как напр., вопрос, во сколько раз одно блюдо вкуснее дру-
215
гого, или один человек нам приятнее другого. Первоначально казалось, что отрицательный итог здесь (неизмеримость ощущения) может быть выражен в том, что одно ощущение можно назвать (неопределенно) большим или меньшим, чем другое, т. е. что количественное сравнение здесь все же возможно, хотя точное измерение и невозможно. Дальнейший шаг в критике количественной оценки душевных явлений был сделан упомянутым уже выше французским психологом Бергсоном. Для количественного сравнения нужна качественная однородность. Бергсон весьма тонко показывает, что такой качественной однородности никогда не встречается в душевных явлениях. То, что мы называем количественным изменением, есть в душевной жизни, собственно, изменение качественное. «Более яркий свет», «большая тяжесть» и т. п. — когда мы имеем в виду не характеристику физического предмета, а характеристику самого душевного переживания, есть, собственно, «иной свет», «иное ощущение тяжести», и лишь потому, что мы привыкли и склонны переносить определения внешнего мира на область душевных явлений и наперед знаем, что этому качественному различию соответствуют количественные различия во внешнем мире, мы неточно обозначаем новизну переживания, как изменение ее величины, и говорим о «больших» и «меньших» ощущениях.
Таким образом, замысел математического измерения или даже просто количественного определения душевных явлений при внимательном и действительно непредвзятом отношении к предмету разлетается, как дым, обнаруживает свою неосуществимость.
б) Приведенное выше указание Бергсона на невозможность даже простого количественного определения душевных явлений имеет, однако, еще более широкое значение, которое одновременно с Бергсоном, было отмечено Джемсом. Если продумать его до конца, то окажется, что всякое единичное душевное явление настолько качественно своеобразно, что, собственно, не
216
допускает повторения. Всякое душевное явление есть принципиально новое, иное явление, которое, конечно, может быть похоже на бывшее раньше, но не может быть ему строго тождественным. Если всякое вообще различие между душевными явлениями есть различие качественное, то не может быть двух одинаковых душевных явлений. Эту мысль можно подтвердить также изложенными выше соображениями «теории психических форм». В душевной жизни, как мы видели, качество отдельного элемента определено единым, цельным качеством того сложного комплекса переживаний, в состав которого он входит. А так как комплекс этот в развитии душевной жизни постоянно меняется, то, следовательно, меняется и каждый отдельный элемент. Это можно уяснить на простых и совершенно очевидных примерах: известно, что «первая любовь» есть совсем другое чувство, чем вторая и третья любовь, что сладость конфеты для ребенка есть нечто совсем иное, чем для пресыщенного или старого человека, что все «новое» вообще для нашего восприятия есть качественно нечто иное, чем уже знакомое, и т. п.
Из этого следует в высшей степени важный вывод. Та закономерность или повторяемость, которую мы замечаем в явлениях материального мира, т. е. подчиненность единичных явлений известным общим правилам и свойствам, оказывается в строгом смысле слова неприменимой к душевной жизни. Душевная жизнь есть поток, который все время несется вперед и никогда не обращается вспять, т. е. в котором, в точном смысле слова, ничто не повторяется. Поэтому психология никогда не может быть точной естественной наукой, как наукой о (повторяющихся) закономерных связях явлений, или как наукой, подводящей единичные явления под общие понятия. Она будет тем более «точной», т. е. соответствующей своему предмету, чем более будет приближаться к «биографии» или к художественному изображению единичного, однократного.
Конечно, вывод этот не может иметь безграничного
217
значения. Если бы он был принят в этом резком, несмягченном виде, то пришлось бы сказать, что психология, как наука об общих свойствах человеческой душевной жизни, вообще неосуществима. Но душевные явления, не будучи в точности тождественными, имеют сходство, в силу чего становится возможным их типология, описание типов или примерных образцов душевных явлений и их взаимных связей, в чем и состоит подлинная задача теоретической психологии. Но вместе с тем необходимо раз навсегда запомнить, что такое строение психологического знания, как описание примерных типов душевных явлений, лишь приблизительно и сходно, но никогда не точно осуществляющихся в конкретной душевной жизни, резко и решительно отделяет психологию от всех точных, математически определимых наук о физических явлениях. Психология в этом отношении, впрочем, приближается к описательной биологии, к познанию типов и форм органической жизни, где конкретно-единичное тоже никогда строго неповторимо, и точные понятия, которыми мы оперируем, никогда не совпадают с действительностью, а являются лишь примерными образцами, помогающими нам при ориентировке в бесконечной сложности конкретных реальностей. В этом отношении психология, вместе с биологическими науками, в качестве науки о жизни, т. е. о творческом процессе, состоящем в беспрерывном изменении и формировании, отчетливо отделяется от математического естествознания.
в) Своеобразие душевных явлений в смысле неподчинимости их схемам математического естествознания открывается еще и с другой стороны. Со времени Декарта в психологии считалось бесспорным, что душевные явления, будучи непространственными, т. е. не имея пространственных свойств объема, формы, величины, покоя и движения, однако, подобно материальным явлениям всецело подчинены закономерности времени, т.е. протекают во времени, имеют временное начало, конец и длительность, так что могут быть
218
точно измеряемы во времени. Если нельзя сказать, как много места занимает, напр., вспышка гнева или чувство страха, или где они находятся, то, казалось, можно с точностью определить, когда они начались и кончились и сколько времени длились. По крайней мере, с этой своей стороны, т. е. как процессы во времени, психические явления казались точно измеримыми, что вместе с тем открывало простор для точных психофизиологических исследований, т. е. для установления точной закономерной связи между физическими (или физиологическими) процессами и соответствующими, т. е. одновременными им процессами психическими. Более внимательный анализ, которым мы и здесь обязаны Бергсону, показал, однако, что и это предположение есть предвзятое допущение, основанное на искусственном искажении самобытной внутренней природы душевных явлений.
Математическое время — время, как общая форма внешне-предметной действительности, материальных процессов — есть смена одного другим. Оно как бы символизируется качанием часового маятника —; вправо, влево, вправо, влево и т. д. — или движением часовой стрелки, отсчитывающей секунды, минуты, часы: одно возникает — потом исчезает, и на его место становится другое и т. д. Внешне-предметное время имеет, поэтому теснейшую связь с числом, оно есть как бы онтологическое, бытийственное счисление, порядковое число, как сущее и само себя счисляющее: первое, второе, третье. Когда мы извне, через посредство процессов материального мира, подходим к психическим явлениям, то нам удается и их как бы вложить, вернее искусственно втиснуть, в это математическое время. Мы можем определить, когда, т. е. в какой математически определимый момент, «начинается» психический «процесс», когда он кончается и сколько длится; и такого рода определения составляют излюбленный предмет изысканий эмпирической и экспериментальной психологии. Но когда мы, освобождаясь от
219
всяких предвзятых схем, погружаемся в действительное наблюдение душевных явлений так, как они переживаются, т. е. как они эмпирически даны в своей собственной стихии, то мы получаем совершенно иную картину их. Нигде и никогда в душевной жизни мы не замечаем того, что образует существо математического, внешнепредметного мира, именно точную смену, отчетливо разграниченный порядок, в котором взамен одного, исчезнувшего явления, наступает, становится на его место, другое, отчетливо выделяющееся, как второе. Напротив, так как душевной жизни неотъемлемо присуща сплошность, то развитие его идет не в порядке накопления отдельных счислимых и отделимых друг от друга звеньев или моментов, а в порядке развертывания одной сплошной нити или движения потока. Новое не устраняет старого, старое не исчезает, уступая свое место новому — напротив, новое и старое пронизывают, пропитывают друг друга так, что образуют одно сплошное целое. В силу этого психическое время есть не смена, а живая длительность. В психическом времени новое не сменяет старого, а рождается из его недр, сохраняя связь с ним и удерживая его в себе. Поэтому развитие психической жизни, в отличие от материально-предметного мира, мыслимого в схеме математического времени, носит характер подлинного творчества, органического произрастания, т. е. именно того, что выражает тайну жизни, как таковой *).
г) Эти соображения Бергсона можно обобщить и далее, связав их с принципиальной критикой натуралистической психологии. Во всяком внешнем подходе душевной жизни, когда мы глядим на нее, как на часть эмпирического предметного мира, как на какой-то уголок жизни, запрятанный где-то внутри нашего тела, мы не усматриваем душевной жизни так, как она есть
8) Последующие строки дают краткое изложение некоторых принципиальных соображений, развитых мною в книге « Душа человека » (Москва 1917).
220
сама в себе, т е. так, как она дана в самом переживании. Когда мы действительно погружаемся в нашу душевную жизнь, мы переходим в какой-то совсем новый мир, не имеющий ничего общего с предметным миром. Душевная жизнь не только сплошна, и потому исключает возможность временного измерения, но она и во всех направлениях безгранична, так что самое понятие начала и конца к ней неприменимо. Представим себе человека в состоянии, когда он действительно целиком захвачен стихией душевной жизни и уже не и состоянии смотреть на нее со стороны, т. е. из предметного мира: таковы состояния аффекта (напр., сильнейшего гнева, или страха, или восторга) и состояния дремоты (грез, сновидений и т. п.). Ясно, что для такого Состояния (которое есть, повторяем, не что иное как пребывание всецело внутри стихии душевной жизни) времени вообще не существует; ясно, что мы пребываем тогда в некой безграничности, для нас открывается бесконечная стихия, как бы целая вселенная, в которой все живет по своим законам, непонятным и бессмысленным для внешнего мира, но естественным и единственно возможным в этом внутреннем мире. Не только этот мир непространственен, но он и невременен; он не вмещается ни в какие рамки предметного мира. И даже высшие, казалось бы, всеобъемлющие категории — категории тождества и различия — именно в своем точном логическом смысле сюда не применимы, ибо и понятие «определенного качества» в душевной жизни, в которой все слитно, имеет совсем иной смысл, чем в предметном мире. Наблюдая душевную жизнь извнутри, т. е. так, как она дана в самом переживании, мы переходим из «этого», знакомого, привычного нам мира в совсем «иной мир», и не может быть и речи о том, чтобы этот «иной мир» мог быть исследован и выражен в понятиях, относящихся к внешнему миру, и с помощью методов, применимых к последнему. Поскольку т. наз. эмпирическая (натуралистическая) психология пытается уловить душевную
221
жизнь этими понятиями и методами, относящимися к предметному миру, она совсем не улавливает саму душевную жизнь, как она есть в себе (или — что то же — как она дана в непосредственном, т. е. живом опыте), а лишь некую ее тень, ее отражение в. предметном мире, или, в лучшем случае, ее наружный слой, соединяющий ее с внешним миром. Поскольку человек судит о душевной жизни с этой, внешней стороны, он имеет о ней примерно такое же понятие, какое имеет о подземной шахте с бесконечной сложностью жизни и работы в ней человек, глядящий на нее с земной поверхности, т. е. видящий только наружное отверстие и начало спуска в шахту, но не ее самое.
Давнишние навыки мысли и чисто обывательски-утилитарное отношение к действительности приводят к тому, что обычно нас совсем не интересует душевная жизнь в ее собственной, внутренней природе, а интересует только ее внешнее действие и обнаружение в предметном мире. Т. наз. эмпирическая психология покорно следует этой обычной, распространенной, обывательской установке сознания в отношении душевной жизни; в этом смысле можно сказать, что господствующая или до недавнего времени господствовавшая психология находится в том состоянии, в котором астрономия находилась до Коперника и Галилея, когда она видимую простым глазом внешнюю картину неба принимала за существо закономерности в строении астрономической действительности. Как там, в астрономии, так и здесь, в психологии, необходимо перемещена точка зрения в внутрь самой реальности, как бы парадоксально ни было такое перемещение с точки зрения обычного обывательского сознания. Это обычное, обывательское, в том числе и научное сознание, конечно, решительно протестует против такого перемещения точки зрения. Неужели — спросит оно — мы должны принимать наши фантазии, сны, капризы, все смутное, нелепое и субъективное в нашей жизни — всерьез, видеть в них действительность? Неужели про-
222
снувшийся должен верить своему сну, врач — бредням душевно-больного, педагог должен сам стать ребенком со всеми ребяческими фантазиями и капризами? Но ведь если мы хотим познать душевную жизнь, как особый объект, то вправе ли мы начинать с того, чтобы отрицать ее реальность или переделывать ее по нашему усмотрению, приспособлять к тому, что мы привыкли признавать в другой сфере бытия? Ссылка на «субъективность» душевной жизни была уже изобличена нами в ее полной несостоятельности выше, в критике материализма. Душевная жизнь есть именно душевная жизнь; во всей ее «субъективности», «иллюзорности», «невозможности» ее содержаний с точки зрения предметной действительности она — есть. Она образует реальную, непосредственно нам данную сферу бытия, которую мы — именно с точки зрения осуществления подлинно опытного, эмпирического знания — должны брать, так, как она есть.
Здесь остается упомянуть лишь об одном еще возможном возражении. Может быть, такое подлинно опытное познание душевной жизни из глубины ее самой окажется практически бесплодным, так как уведет нас от эмпирической действительности предметного мира в какие-то бездны «внутреннего мира», не имеющего никакого отношения к нашей практической жизни? Но с таким же правом такое возражение можно было бы предъявить, напр., научной астрономии, по сравнению с эмпирической космографией, или научной биологии и химии, по сравнению с агрономическими знаниями мужика-хлебороба, и, в сущности, любой науке. Всякая наука уводит далеко от видимого, общеизвестного, непосредственно нужного в некие глубины, не имеющие, казалось бы, ничего общего с практическими нуждами человеческой жизни. Но известно, что именно через это углубление, через этот отход от наружного, общеизвестного, практически важного слоя явлений к их подлинной внутренней закономерности наука научает людей практически овладевать силами
223
природы и использовать их для своих целей. Не иначе обстоит дело и с психологией. Кто окажется лучшим педагогом — человек, умеющий вжиться в жизнь ребенка и конкретно ее себе представить, или человек, судящий о душевной жизни ребенка лишь извне, по ее внешним обнаружениям? Кто окажется лучшим психиатром — врач, не боящийся погрузиться в туманную и безумную жизнь душевно-больного и извнутри ее понять, или же врач, который умеет только выстукать больного, исследовать его рефлексы и всякие иные внешние обнаружения его душевной жизни? Ответ и а priori ясен сам собой, но он подтвержден и опытно: новейшее развитие педагогики, прикладной психологии и психопатологии всецело определено именно тем, что за последнее десятилетие психологическое наблюдение с внешней стороны душевной жизни перемещается на внутреннее ее существо, т. е. что психология начинает все более обретать мужество быть подлинно опытной наукой, познающей душевные явления не так, как они вырисовываются извне, на поверхностном, по существу чуждом им слое внешне-предметной действительности, а так, как они раскрываются в своей собственной природе внутреннему, переживающему их опыту. Это мы отчасти уже видели на приведенных выше течениях, реформирующих психологию, отчасти еще увидим ниже.
д) Совершенно независимо от этих соображений; уясняющих своеобразие душевной жизни и неприменимость к ней категорий предметно-природного бытия, развивается в современной психологии ряд учений, сущность которых состоит в критике обычного представления о слепоте душевных явлений и в уяснении их коренной связи с моментом смысла или разума. Инициатором этого течения является австрийский психолог Франц Брентано, который еще в 1884 г. в своей книге «Psychologie vom empirischen Standpunkte» (т. e. намечая программу именно чисто эмпирической психологии) указал на существенный и специфический
224
момент душевной жизни, который позднее (гл. образом через посредство исследований Гуссерля) получил название интенциональности. Не все в душевной жизни носит характер чистого, как бы пассивного и замкнутого в себе переживания; напротив, существенным для душевной жизни является наличие «актов», через которые сознание так или иначе направляется на Предметный мир и выявляет свое отношение к нему. Так, в познании мы имеем не пассивное воспроизведение действительности в «представлениях», а — в лице Суждения — акт признания или отвержения, который сходен с одобрением или неодобрением в практическом отношении к действительности. Такого рода явления (Врентано называл их «феноменами любви и ненависти») по своей структуре резко отличаются от всего, что носит характер пассивного бытия или процесса в душевной жизни; они суть «акты», устремленности, и вместе с тем через них осуществляется в душевной жизни то, что мы называем смыслом. Эти указания Брентано были развиты немецким философом Гуссерлем в целую систему т. наз. «феноменологии». Оставляя здесь в стороне то философское содержание феноменологии, которое выходит за пределы психологии, отметим лишь вытекающую из нее реформу психологии. В душевной жизни то, что можно назвать ее имманентным «содержанием» (ощущения, представления и т. п.) есть как бы лишь сырой материал, который перерабатывается в актах интенции, направленности, в смысловое отношение личности к предмету. В познании, в волевых устремлениях, в оценках мы имеем дело не с простым переживанием, не с наличием какого то материала или содержания душевной жизни, а с актами, через которые как бы устанавливаются связи между личностью и предметным миром, в которых личность раскрывает для себя предметный мир и устанавливает свое отношение к нему. Именно это отношение есть то, что можно назвать «смыслом», и потому особенность душевной жизни именно в том и
225
состоит, что она имеет смысловое значение, в ней осуществляется телеологическая, «разумная» позиция личности в отношении воспринимаемых или мыслимых ею предметов.
Открытие этого момента оказало решающее реформирующее влияние на всю современную психологию. Можно сказать, что оно как бы пробудило дремоту психологии и впервые в новейшее время раскрыло ей глаза, показало всю значительность ее предмета. Одним из первых среди чистых психологов-эмпириков и эксперименталистов на это течение откликнулся известный психолог Штумпф, который в работе «Явления и психические функции» на чисто-психологическом анализе подтвердил учение об «интенциональности». Штумпф показывает, что, кроме психических «явлений» в строгом смысле, т. е. содержаний переживаний (напр., ощущений), душевная жизнь содержит то, что в отличие от «явлений» можно назвать «функциями». То, что мы называем, напр., восприятием, памятью, волей и т. д. носит по существу характер функций, т. е. некой работы, некого делания сознания, напр., в актах воспринимания, припоминания, волевой устремленности и пр. Вслед за Штумпфом мюнхенский психолог Пфендер подробно развил программу нового понимания и новых задач психологии в своей книге «Введение в психологию». Одновременно с ним в России аналогичные идеи, в связи с своими гносеологическими учениями, развил Н. О. Лосский («Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»). Крупнейший немецкий психолог Липпс под влиянием этого нового течения отказался от своих прежних гносеологических и психологических идей, сводивших все содержание сознания к внутренним переживаниям, и примкнул к новому направлению. Упомянутая выше школа «психологии мышления» также, несомненно, обусловлена феноменологией и теорией «интенционализма». За последние два десятилетия в специальном журнале школы Гуссерля «Jahr-
226
buch für Philosophie und phänomenologische Forschung» и но множестве других работ появился целый ряд интереснейших изысканий по теории знания, по философии нравственности и права, а также по психологии, И которых обнаружилась вся плодотворность этого направления. Мы не имеем здесь возможности даже вкратце передать их содержание. Для рассматриваемого ими принципиального вопроса существенно только общее направление идей этой школы. Если сопоставить его с воззрением старой т. наз. эмпирической психологии, то сразу же обнаруживается, что последняя, исходя из предвзятых допущений и рассматривая душевную жизнь, как некий мертвый, пассивный, в себе пребывающий комплекс «психических явлений», работала как бы в шорах, загораживала себе взор на самые важные и характерные стороны душевной жизни. Вместо подлинной душевной жизни, т. е. живого, действенного и осмысленного отношения личности к миру, она имела дело только как бы с осадком душевной жизни в лице отдельных бессмысленных процессов или явлений. Чтобы не изменить своему замыслу, она должна была искусственно превращать все живое, личное, осмысленное в душевной жизни в какой-то безличный «комплекс» или «механизм». Возьмем: для примера любой конкретный пример. Если старая «эмпирическая» психология исследовала, скажем, явление любви или «влюбленности», то она сводила его к ряду физиологических или психических «явлений», напр. исследовала изменение пульса или дыхания при аффекте любви, указывала, напр., на длительное представление о любимом существе в сознании влюбленного, на связывание этого представления с другими представлениями, на чувство радости и т. п. Если вообразить себе (что, к счастью, редко бывало) живого влюбленного человека, который, чтобы понять свое состояние и получить полезные для себя указания, обратился бы к исследованиям «эмпирической» психологии, то он мог бы прийти в полное отчаяние —
227
настолько ничтожно, несущественно для него самого было бы все, что он мог там найти, и настолько отсутствовало бы то, что образует самое существо его внутренней жизни. Напротив, феноменологическое описание этого переживания обратило бы (по крайней мере, в принципе) внимание на самое существо дела (для примера сошлемся на исследование Макса Шелера «Чувство симпатии, любовь и ненависть» 1923): оно показало бы, что любовь есть чувство, в котором любящий направляется на центр личности любимого и, несмотря на все эмпирические недостатки последнего, усматривает в нем нечто абсолютно-ценное, дарующее смысл его собственной личности и т. п. Этим прекращается то ужасающее бесплодие, которое во всех практических жизненных вопросах обнаруживала обычная «эмпирическая» психология, подменявшая живого, осмысленно чувствующего и действующего человека какой-то бессмысленной куклой-автоматом, и открывается по крайней мере в принципе путь для научного изучения и постижения человеческой жизни в ее конкретной полноте и жизненности.
Из всех влияний школы «интенционализма» и феноменологии мы отметим здесь лишь одно, самое разительное и значительное. Это — влияние ее на такую, казалось бы, чисто «естественную» и медицинскую науку, как психопатология, наука о душевных болезнях. Еще до недавнего времени психопатология, в качестве именно «естественной науки», связанной к тому же с науками физиологии и общей патологии, т. е. с познанием человеческого тела, — при всей разнородности специальных направлений в ней — единодушно рассматривала душевные заболевания, как расстройство психического (или психофизического) механизма. Изучались (помимо всякого рода сопутствующих физиологических процессов — все равно, причин или симптомов душевных заболеваний) своеобразия ощущений, ассоциаций, эмоций и т. п. у душевно-больных, и строились различные теории о том, в чем именно
228
заключается причина порчи и неправильного функционирования, так сказать, душевной машины при разных формах душевных болезней. Тот, казалось бы, простой и самоочевидный факт, что душевное заболевание есть в своей основе нарушение нормального смыслового строения сознания, нормального познания, оценки волевого отношения к окружающим явлениям, совсем не изучался, как таковой, а считался лишь как бы самоочевидным последствием расстройства психического механизма. Можно сказать, что за последнее десятилетие здесь, в области психопатологии наступил полный переворот. Упомянутая уже выше школа «психоанализа» и целый ряд других направлений и работ в психопатологии принципиально изменили свою общую точку зрения, переместили центр своего интереса при изучении душевных явлений. Под несомненным влиянием «феноменологического метода» отныне душевные болезни изучаются прежде всего путем внимательного описания структуры сознания больного, т. е. содержания его ненормального восприятия и понимания мира. Душевное заболевание рассматривается теперь, как ненормальное, своеобразное миросозерцание больного. В новейших, вышедших за последние годы трудах по психопатологии немецких ученых Ясперса, Кречмера, Шильдера и других, психопатология превращается в внимательное описание своеобразных типов отношения к миру у душевно больных. Такое исследование требует, очевидно, в качестве своей основы, анализа общей природы миросозерцания и классификации миросозерцаний, которые Ясперс и дает в своем обширном исследовании «Die Psychologie der Weltanschauung» (1922). (Ср. аналогичное исследование немецкого педагога Шпрангера «Lebensformen»). Таким образом, психопатология оказывается в ближайшем соседстве с науками чисто философскими и в зависимости от них, и не случайно упомянутый психопатолог Ясперс занял кафедру чистой философии в Гейдельбергском университете. Что это направление не
229
есть что-то, обусловленное чисто умственными течениями, а выросло именно из сознания практической неудовлетворительности старой психопатологии и в полном соответствии с специально-научными запросами этой области знания, свидетельствует большой успех ее приложения к терапии, т. е. к лечению душевных болезней. Как уже указано, на той же почве стоит и «психоанализ», который подходит к душевному заболеванию, как к расстройству нравственной жизни больного, как к результату некоторого «греховного чувства», некоторых мук совести. И здесь обнаруживается, что через преодоление предвзятых натуралистических представлений старой «эмпирической» психологии, у психопатологии впервые как бы раскрылись глаза, и она обрела свой подлинный предмет. Ибо душевное заболевание, как и нормальная душевная жизнь, есть, прежде всего, реализация в личной жизни некого «смысла», некоторого «понимания» окружающего и (по замыслу) разумного теоретического и практического отношения к нему, а потому научное познание и должно быть направлено на это существо душевной жизни и никак не может быть втиснуто в «естественно-научное» изучение мертвого механизма душевной жизни.
е) В связи со всеми изложенными выше новыми течениями в психологии, приводящими и уже приведшими к ниспровержению натурализма в психологии, стоит также существенное изменение в психологическом понимании проблемы человеческой свободы (или свободы воли). Натуралистическая психология, само собою, разумеется, решительно отвергала понятие человеческой свободы, которое казалось ей лишь пережитком до-научного или ненаучного отношения к душевной жизни. Поскольку человеческая личность мыслилась, как простой механический комплекс, подобный материальному механизму, ни о какой свободе, конечно, не могло быть и речи: каждое психическое явление, подобно каждому материальному, однозначно
230
определено каким-либо другим, ему предшествующим явлением. Вера в человеческую свободу, с этой точки зрения, кажется возможной лишь при неисследованности психической связи, при смутности психологического знания, когда незнание точной связи дает простор допущению, что-либо в душевной жизни рождается «из ничего». Совершенно иное отношение к этому вопросу возникает в настоящее время, когда психология пришла к уяснению цельности и сплошности душевной жизни, ее неизмеримости, качественного своеобразия каждого ее момента, самобытности психического в отличие от предметного мира и наконец, существенности в душевной жизни актов устремленности или направленности, в которых осуществляется в душевной жизни «смысл». Простое отрицание свободы воли на почве механистического миропонимания становится в настоящее время во всяком случае невозможным. Этот вывод прежде всего сделал Бергсон из нового, установленного им понимания душевной жизни. Бергсон, правда, отвергает обычное, рационалистическое понятие свободы выбора, согласно которому «душа», колеблясь между двумя отчетливо предстоящими ей «возможностями», как между двумя отдельными элементами или содержаниями, беспричинно «выбирает» из них один. Бергсон показал, что такой рациональный выбор никогда фактически не совершается в душевной жизни. Но он вместе с тем показал и несостоятельность понятия естественной, механической необходимости в душевной жизни. Где нет отдельно прошлого и настоящего, где процесс носит характер сплошного потока, в котором все единичное определено целым, сверхвременным единством душевной жизни, там нельзя говорить о необходимом определении отдельного душевного явления чем-либо единичным, ему предшествующим. Поскольку можно говорить об определении душевной жизни, она в каждый момент и в каждой своей части определена всей своей целостностью, своим единством. Для рационального
231
познания духовная жизнь есть нечто по существу иррациональное; т. е. в противоположность механистическому воззрению, никогда и нигде в душевной жизни нельзя рационально «вывести» или «объяснить» одно из другого, показать, почему именно в данный момент в душевной жизни совершилось то, а не другое. Но эта рациональная невыводимость явлений душевной жизни, которая вытекает не из слабости или недостаточности нашего знания, а из самого существа его предмета, и совпадает с тем, что называется «свободой». Каждый шаг душевной жизни носит характер творчества, такого спонтанного рождения «из всего сразу», из самого существа личности, которое практически равносильно «рождению из ничего». Свобода и необходимость, по мысли Бергсона, в применении к душевной жизни суть не различные, а совпадающие понятия, ибо понятие механической причинности или закономерной связи между отдельными явлениями А и Б — понятие, противостоящее понятию свободы — к ней именно неприменимо.
Конечно, можно сомневаться, совпадает ли это бергсоново понятие «свободы», сводимое на иррациональность, текучесть и сплошную цельность душевной жизни, с тем, что обычно разумеется под свободой. Но эта недостаточность положительного понятия свободы не должна препятствовать признанию ценности отрицательного разъяснения Бергсона, неопровержимо показавшего неприменимость обычного, рационально-механического понятия, причинной необходимости в душевной жизни. Этим сделан еще шаг на пути опровержения психологического рационализма. Но исследование понятия свободы на этом не может остановиться. Дальнейшее его углубление связано, с одной стороны, с уяснением многослойности душевной жизни или измерения в глубину, в силу чего открывается возможность воздействия глубинных сил или центральных инстанций на процессы в наружной, периферической части душевной жизни, и, с другой стороны,
232
с уяснением существенности для душевной жизни момента спонтанности активности, выражающегося в осмысленных актах, в которых осуществляется осмысленное теоретическое и практически-телеологическое отношение человека к окружающий его среде. Поскольку самое существо душевной жизни усматривается не в пассивных «явлениях» или «содержаниях», а в актах, через которые личность осмысленно и извнутри реагирует на впечатления, все отдельные «содержания» (внутренние и внешние) становятся отныне не «причинами», из которых с однозначной необходимостью вытекали бы следующие за ними психические процессы, а лишь поводами и материалами для спонтанной деятельности личности. Отсюда возникает возможность и необходимость новой положительной оценки понятия свободы в применении к душевной жизни. Наиболее полная сводка соображений по этому вопросу, ведущих к признанию реальности человеческой свободы, дана в настоящее время в последней работе русского ученого проф. Н. О. Лосского «Свобода воли» (Париж 1926 г.).
VII
ИТОГИ КРИТИКИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Изложенные выше достижения научной психологии преимущественно за последние два десятилетия, как видим, в корне изменили понимание природы душевной жизни. От прежнего замысла т. наз. «эмпирической» психологии и от общих представлений, лежащих в ее основе — можно сказать — не осталось ничего, кроме общего требования строить психологическое знание на опытном исследовании душевной жизни. Но именно строго следуя этому требованию, психология в ее новейшем развитии показала, что посылки, на которые опиралась прежняя «эмпирическая» психология, решительно ему противоречили,
233
так что притязания ее быть непредвзято опытной наукой оказались совершенно мнимыми. Подводя итоги всему, сказанному выше, мы можем выразить современное, основанное на подлинно опытном изучении, понимание душевной жизни в следующих положениях.
1) Душевная жизнь не есть агрегат или комплекс отдельных психических явлений или процессов. Она есть, напротив, некое первичное неразложимое единство. Какую бы отдельную сторону душевной жизни мы ни изучали, такое исследование в принципе всегда направлено на целостную душевную жизнь, должно учитывать тот общий фон или ту общую почву, в которую погружено все частное. Признание наличности «души» в этом смысле есть не произвольное допущение и не помеха для опытного познания душевной жизни, а, напротив, необходимое его условие.
2) Душевная жизнь имеет скрытую глубину, и потенции, лежащие в этой глубине (в области подсознательного или бессознательного), оказывают могущественное влияние на весь ход душевной жизни. Поэтому опытное познание, не обрекшее себя на бесплодие, никогда не может ограничиться описанием поверхностного, воочию предстоящего слоя сознательных душевных явлений, а должна учитывать более трудно улови?· мне глубинные силы душевной жизни. Такое учтение не есть выход за пределы опытного познания, так как иррациональная, подсознательная глубина душевной жизни может быть предметом опыта, если не смешивать общее, широкое понятие опыта и своеобразие психологического опыта с частным понятием внешнего опыта, как он осуществляется в естествознании. И в этом отношении опытная психология не может обойтись без понятия души, как глубинной силы, определяющей, душевную жизнь.
3) Явления душевной жизни качественно резко отделяются от той сферы бытия, которую мы называем «миром природы». Душевные явления математически неизмеримы; в виду новизны и своеобразия каждого
234
из них они неподчинимы той точной закономерности, которая применима в т. наз. точных (математических) естественных науках; в строгом смысле слова невозможно даже определение их времени, т. к. «душевное» время резко отличается от измеримого времени предметных процессов; в лице душевной жизни мы имеем некий самостоятельный «мир», лежащий в другом измерении бытия, чем мир природы; душевная жизнь не есть совокупность слепых, в себе пребывающих явлений или процессов, по образцу явлений природы: в ней осуществляется осмысленное отношение, личности, субъекта душевной жизни, к предметному миру, в силу чего именно опытное ее познание сближается с философским изучением человеческих мировоззрений и практических оценок. И отсюда, наконец, следует, что понятие слепой, однозначно определенной причинной необходимости неприменимо к строению душевной жизни, чем определяется возможность и необходимость использования при ее описании понятия свободы.
Объединяя все эти достижения новейшей психологической науки, можно сказать, что все они ведут к восстановлению понятия «души» или — говоря шире — «личности» в психологии. Понятие личности, как живого действенного телеологического единства, оказывается не только неустранимым из психологии, но, безусловно, для нее существенным. Только признав, что душевная жизнь во всех ее сторонах и частных проявлениях есть обнаружение исконного целестремительного и действенного единства личности, мы можем правильно ориентироваться во всем многообразии душевных явлений и проникнуть в своеобразие присущей им закономерности. В этом отношении наиболее синтетическим и вместе с тем наиболее глубоким из новейших психологических направлений следует признать «персоналистическую психологию» современного, уже упомянутого выше, немецкого психолога Виллиама Штерна. В целом ряде трудов (укажем из них на последний обобщающий этюд «Personalistische Psychо1о-
235
gie» в сборнике «Einführung in die neuere Psychologie», herausgegeben von E. Laupe 1926) Штерн убедительно показывает, что все мотивы новейшей психологии — учение о цельности душевной жизни, открытие роли подсознательного, учение о психических «формах» (Gestalten) и др. — согласимы и сводимы в цельную систему лишь при допущении, что душевная жизнь есть обнаружение творческого саморазвития личности. Этим одновременно достигается новое и единственно правильное понимание психо-физической проблемы. Дело в том, что «личность» не есть только психологическое понятие. «Личность» есть то последнее, конкретное единство, которым одинаково определяется и психическая, и телесная жизнь человека. Не только психо-физический параллелизм, как учение о независимом параллельном протекании двух сторон бытия (фактически приводящее, как мы видели, к обратному ложному выводу о совершенной подчиненности душевных явлений телесным) оказывается ложным, но ложным или по крайней мере поверхностным оказывается и обратное учение о причинном психофизическом взаимодействии. При более глубоком рассмотрении обнаруживается, что «личность» есть понятие «нейтральное в психо-физическом отношении» (см. выше в критике психо-физического параллелизма), т. е. что она есть единство, объемлющее и подчиняющее себе обе стороны жизни. Психо-физическое «взаимодействие» оказывается лишь отражением соподчинения обеих областей формирующему началу личности. Природа личности находит свое выражение, как в психической, так и в физической ее жизни, и каждая из них может «действовать» на другую только потому, что они обе совместно сотрудничают в осуществлении и воплощении потенциального синтетического единства личности. Явления той и другой стороны суть как бы лишь симптомы или выражения целостной, органически неразделимой телеологической и осмысленной деятельности самораскрытия и саморазвития личности.
236
Этим принципиально изменяется смысл психологии, ее место в системе наук. Из «естественной науки», изучающей процессы душевной жизни, как частный вид процессов природы — каковой ее замышляла старая «эмпирическая» психология, — психология превращается в учение о человеке, как особом типе реальности, т. е. в обобщающую философскую антропологию. Мы приведены здесь назад, к исходной точке наших размышлений. Господствовавшее до недавнего времени мировоззрение не знало в точном смысле слова антропологии, или науки о человеке, потому что оно отрицало саму реальность человека, как самобытного явления, как своеобразного типа бытия. Человек, гордый своим знанием природы, мечтавший, через научное постижение законов природы и определяемое им развитие техники, овладеть всей природой и стать ее царем и властелином, — странным образом отрицал свое собственное существование. Себя самого он считал таким же явлением природы, как все остальные, каким то случайным, механически слипшимся комочком молекул и клеток. То, что носит доселе название антропологии, есть отчасти только отдел общей биологии — изучение происхождения и типов строения человеческого тела — отчасти же описание жизни т. наз. «первобытных народов». На общий вопрос: что такое есть человек, каково его место в системе бытия, какое значение в мировом бытии имеет человеческий дух и его создание — человеческая культура во всей полноте ее проявлений — эта антропология не давала никакого точного ответа. Вернее сказать, вопрос этот вообще не ставился, так как господствующее воззрение имело на него заранее принятый готовый ответ: человек есть один из видов животного царства, т. е. не представляет собою ничего своеобразного в мировом бытии. Наряду с этим, существовал и существует, как известно, ряд т. наз. «гуманитарных» наук, т. е. наук о человеческой истории и культуре во всех ее проявлениях. Но эти науки не имели в господствовавшем доселе мировоз-
237
зрении никакого теоретического обоснования; неясно было, какую собственно область бытия они изучают, каково своеобразие и общие закономерности этой области бытия. Более того, оставалось собственно сомнительным, имеют ли эти науки право на существование; с точки зрения господствовавших идей, их нужно было бы целиком свести к биологическим и физическим наукам, т. е. наукам об общей природе, так как ведь человек принципиально считался таким же явлением природы, как амеба, клеточка или даже молекула и атом. И хотя многочисленные попытки действительно превратить историю или социологию в биологию или физику на практике кончались полной неудачей, и гуманитарные науки по традиции продолжали существовать, как самостоятельная область знания, они так и не находили себе ясного места в системе научного знания и существовали без какого-либо прочного научного фундамента. С другой стороны, имело место то по истине скандальное положение, что психология — единственная теоретическая наука, изучавшая, или долженствовавшая изучать живое содержание человеческой жизни — ничего не давала для обоснования гуманитарного знания. Ни история, ни политическая экономия, ни учение о праве, которые ведь все изучают область человеческих действий, человеческой жизни — не получали никакой поддержки в психологическом знании и с естественным пренебрежением игнорировали столь, казалось бы, существенные Достижения экспериментально-эмпирической психологии. Была даже придумана особая философская теория, назначением которой было оправдать это скандальное и бессмысленное положение: такова теория Риккерта, доказывавшая, что «психология», в качестве «естествознания», не имеет и не может иметь никакого отношения к гуманитарным наукам, к наукам о человеческой истории и культуре.
Это невыносимое и бессмысленное положение, однако, не может длиться без конца. Раз оно осознано,
238
ему должен быть положен конец. И мы видим, что психология, в ее новейших преобразованиях, действительно начинает сознавать свою задачу быть наукой о человеческой личности, т. е. войти в состав философской антропологии в точном смысле этого слова — обобщающего знания о существе человека, могущего быть положенным в основу гуманитарных наук. Мы уже видели, что феноменологическое направление получило плодотворное применение в этике, философии права и ряде других гуманитарных наук. Среди западных ученых итог этой тенденции учел немецкий философ Макс Шелер, который в ряде работ наметил программу философской антропологии, как общего учения о человеке, и приступил к ее осуществлению. Несомненно, что от этого течения надо ожидать плодотворного и оживляющего действия на социальные и гуманитарные науки, которые не могут выйти из состояния некоторого хронического дилетантизма, пока не будут обоснованы на прочном фундаменте в лице теоретического общего учения о духовной природе человека.
Мы переживаем эпоху кризиса всего господствовавшего до недавнего времени мировоззрения, которое на наших глазах заменяется новым, менее предвзятым и более глубоко захватывающим, а потому практически и более плодотворным. Если социализм был продуктом переходной эпохи, и заключал в себе противоречивое сочетание своей натуралистической основы, отрицавшей самостоятельное бытие и значение человека, с смутными чаяниями торжества каких-то чисто человеческих духовных упований на разум и добро, то наша эпоха стоит перед задачей выработки действительно цельного мировоззрения, в котором практическая программа разумного и благого устроения человеческой жизни будет иметь для себя подлинную опору в лице философского постижения реальности и смысла человеческого бытия. Все новейшее развитие психологии, как мы видели, идет именно в этом направлении.
239
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
