13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Устинов А.
Устинов А. Чудо
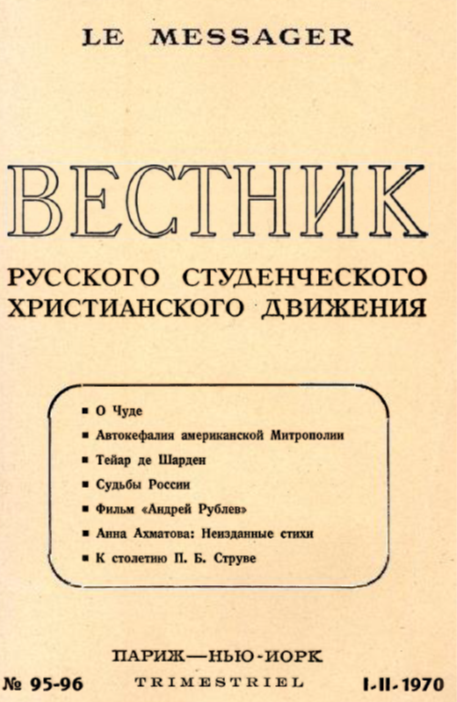
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
А. УСТИНОВ
ЧУДО
1. ОБ ЭТОМ МОЖНО ГОВОРИТЬ
То, что написано дальше, это не жалоба на хрупкость существования, не призыв отказаться от исчерпавшего себя разума и не восхищение премудрым устройством мироздания. Единственно, чего я хочу, это брать вещи такими, какие они есть, и не изображать их ни лучше, ни хуже.
Никто не может отрицать, что человек не достигает целей, к которым стремится, или же достигает совсем не того, чего хотел. Само по себе это такой факт, как смерть (и смерть тоже есть «недостижение»), то есть, ни хороший, ни плохой: все зависит от нашего отношения к факту, от оценки. Только отношение не совсем от нас зависит, если для нас существует что-то ценное в жизни. Если существует, и в той мере, в какой существует, потеря его, конечно, тяжела и печальна. Но пусть для нас сейчас это будет не конечным выводом, а исходной точкой. Из того, что человек есть, из его задатков и возможностей, обстоятельства делают нечто до странности на него непохожее — и в то же время похожее, ибо это и есть он сам. В этом изменении и в борьбе с ним заключается судьба. Взамен разрушенных целей человек творит себе новые, но только до какого-то предела. За этим пределом наступает отчаяние; можно было бы сказать, что оно выступает, потому что оно всегда есть в глубине души и должно только выплеснуться. Но и тогда жизнь еще не кончается, просто человек начинает мыслить по-другому. Опять-таки это новое мышление было в нем и раньше, когда он поступал по целям. Действия сообразно целям всегда ограничены, отчаяние же бесконечно.
Все естественные законы предстают для человека в конечном счете как один закон универсальности беды. Поэтому в отчаянии мы если к чему-нибудь и обращаемся, то не к естественным законам. Например, естественный закон или инстинкт самосохранения уже не имеет силы для отчаяния.
И может оказаться, что самый главный из естественных законов, который трудно даже сформулировать из-за его общности и суть которого в том, что все в мире вообще совершается по
16
естественным законам, — и этот самый главный закон теряет свою самоочевидность.
О чем может думать лишенный надежды и видящий только конец? Тем более, о чем может он говорить? Но если конец отступает до времени, горизонт проясняется, и он может поднять голову, он может и сказать нечто. Так отчаяние оказывается путем познания. И если он помнит о своем отчаянии и понял, что ему нечего ждать ни от чего ожидаемого и нет возможности положиться ни на какую возможность, его слова будут словами о невозможности, о надежде на невозможность, о чуде невозможности.
Воспрещение говорить о чуде может следовать из двух противоположных источников: либо мы считаем, что сверхъестественного бесполезно и даже опасно касаться человеческим разумением, либо — что это область абсурда и выдумок, которыми заниматься — не дело здравомыслящего человека. И в ряде случаев обе эти мотивировки великолепно дополняют друг друга, так что в пределе получается религия без чудес, тем более жизнь без чудес, мораль, философия, откровение тоже «в границах только разума».
Встанем теперь на чисто философскую, спокойную точку зрения, которая включает в себя, между прочим, и декартовское сомнение во всем вообще. Пусть мы потом как-нибудь преодолеем это сомнение; но для начала, не ясно ли, что окружающая нас действительность, точнее, действительность этой действительности, тоже может быть поставлена под сомнение? Теоретически это сомнение столь же достижимо, сколь затруднено оно практически. Жить в нем мы не можем.
Трудно вообще определить, с какой дозой сомнений человек может жить. Но живет ли он вообще? В собственном ли смысле мы называем способ того существования, которое мы влачим, «жизнью»? Конечно, это зависит от понятия, какое мы имеем о жизни.
Пусть это будет возвышенное понятие о «жизни как служении ближнему» или о «жизни во имя будущих поколений» и проч. Но не ходульно ли это звучит: «Я живу во имя будущих поколений», или как-нибудь в этом роде? Какое бы возвышенное понятие о жизни мы ни сформулировали, достаточно нам применить его к себе, чтобы почувствовать, что это «не то». И чем возвышенней, тем хуже.
Лучше «жить, чтобы жить». Тогда мы попадаем в кольцо. Чтобы разорвать его, нужно — что? Нечто не укладывающееся
17
в привычные причинно-следственные рамки, стало быть абсурдное; но в то же время и осмысленное, потому что в бессмысленном мы как будто не испытываем недостатка. И это должно быть нечто такое, что не потеряет своей соли от того, что о нем разговаривают, нечто содержащее в себе по самой своей природе элемент вечной свежести. Вот это и есть чудо.
Описание не из лучших, я признаю это. Когда пишешь о таком сомнительном предмете, как чудо, обязательно навлечешь на себя всю возможную и невозможную критику. Описаний чудес есть сколько угодно, обычно они подобны протоколам: «Придя в дом Петров, Иисус увидел тешу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им» (Матф. VIII, 14—15). Что может быть проще чуда? Но это простота его собственной действительности. Если же мы вписываем его в нашу действительность, мы привлекаем все ее потенции, физические, химические и психопатологические. И, наконец, объясняем. Пророк Иезекииль видел четырехликих животных в огненном облаке, но это было не «видение подобия славы Господней», как он ошибочно полагал, а пришельцы из космоса. Апостолы изгоняли не бесов, а симптоматическую эпилепсию. Могут быть и галлюцинации. Если же не удается объяснить, сошлемся на недостоверность источника. В самом деле, насколько легче измыслить чудо, чем сотворить его!
Итак, всякое чудо можно истолковать рационально. Что из этого следует? Две вещи: во-первых, чудеса подлежат обсуждению так же, как их рациональные обоснования, и мы должны быть готовы к тому, что последние могут оказаться не менее абсурдны, чем первые; во-вторых, мы должны понять самое рациональность как частный случай иррациональности. В конечном счете чудо. Не все чудеса веселы.
Когда имеешь дело с таким зыбким предметом, как чудо, никогда не можешь быть уверен, что ты что-то доказал. Да и нужно ли это? Есть области не чудесные, но такие, что ближе всего к чуду, хотя и общезначимые; и в них доказательство играет весьма малую роль. Такова, например, мораль. Никто не может доказать, что нельзя обманывать, воровать и причинять зло.
Свобода при познании чуда остается ненарушенной. Оно не навязывается как нечто доказанное и налагаемое на душу. Каждый исследует и решает для себя; но пусть он при этом помнит, что руководствоваться можно не только обыденной логикой целей (ко-
18
торая не отражает действительности, потому что целесообразность представляет в природе только редкое исключение), но и более глубокими способностями души. И если в познании каждый идет своим путем, то некоторые из этих путей могут быть сходны между собой, и мы можем надеяться помочь друг другу. Поэтому я и пишу то, что пишу.
Говорим ли мы о бытии Бога, бессмертии души, свободе воли -все дороги в философии ведут к чуду. Значит, это действительно философская проблема. Хайдеггер правильно говорит, что философские проблемы характеризуются тем, что каждая из них охватывает всю область философии в совокупности. Осмелюсь даже высказать крамольную мысль, что те дороги, которые не ведут к чуду, вообще никуда не ведут. Если Бог не есть — не скажу, бездушный механизм, но прямо-таки какое-то зияющее Ничто, — то он творит чудеса. Даже спинозовская субстанция творила чудеса. Прежде всего, она существовала! что не так-то просто, если учесть, что она держалась только на собственном понятии; а как она производила из себя атрибуты!..
В определенном и, на мой взгляд, верном понимании говорить о Боге и о чуде — это одно и то же. Это понимал Кьеркегор, (Бог, это значит — «все возможно»), а из наиболее крупных русских философов — Лев Шестов, у которого есть такой отрывок «Единое на потребу»: «Равняйте путь Господу! Как равнять? Соблюдать посты, праздники? Отдавать десятину или даже все имущество бедным? Умерщвлять свою плоть? Любить ближнего? Читать ночи напролет старые книги? Все это нужно, все это хорошо, но не это главное. Главное научиться думать, что если бы все люди, до последнего человека были убеждены, что Бога нет — это ровно ничего не значит. И, если бы можно было доказать как дважды два четыре, что Бога нет — это тоже ничего не значило бы. Скажут, что такого нельзя требовать от человека. Конечно, нельзя! Но Бог всегда требует от нас невозможного и в этом Его главное отличие от людей. Или можно наоборот — не даром ведь сказано, что человек создан по образу и подобию Божию _ не отличие, а сходство с человеком. Человек вспоминает о Боге, когда хочет невозможного. За возможным он обращается к людям». К этому добавлю только, что мало «научиться так думать», надо еще понять, насколько «есть Бог» важнее всего остального — даже собственной души, даже призвания. Ибо во «всем остальном» может быть ошибка, «прелесть».
19
Про бессмертие души можно и не говорить. Разве лишь одно: оно слишком хорошо, чтобы быть естественным. Об этом я упоминаю, чтобы вывести общее правило: хорошее может быть естественным лишь до какого-то предела» Все слишком хорошее уже есть чудо, (Хотя не всякое чудо мы можем сразу воспринять как «Хорошее»). Каждый может подтвердить это по своему опыту. И поэтому же в чудеса трудно верить.
Происхождение жизни и человека, вообще всего высшего в процессе эволюции, имеет в себе нечто от чуда не в том смысле, чтобы для всего этого нельзя было придумать гипотетического объяснения (тысячи! и друг на друга не похожих!), но в том смысле, что без этого всего прекрасно можно было бы обойтись. Не было бы жизни или человеческого сознания, и все шло бы своим порядком. То же и с демократией: насколько устойчивей унтерпришибеевский строй, который давит в зародыше все разногласия. И, однако, демократия не только возникла в истории, но и существует, пусть несовершенно.
Все мы на что-то надеемся («А может удача моргнет косыми глазами тихони», как сказал поэт), но смерть естественнее жизни, гибель — избавления, поражение — удачи. Поэтому при изложении религиозной доктрины «образованным людям, ее презирающим», чудеса обычно оставляются в тени.
И автор предпочел не трогать чудес, удовлетворившись более обтекаемыми философскими предметами. Однако, это не в его силах. Бывает, что основной вопрос философии встает именно в такой форме: бывают ли чудеса? а всякий, кто имел дело с философскими вопросами, знает, как трудно подчас от них отвертеться.
Говорить о чуде, значит не бояться многое договаривать. Это уже не только совсем другая философия, это совсем другая жизнь. Но можно ли без нее?
Вот — свершилось.
Весь мир одичал, и окрест
Ни один не мерцает маяк.
И тому, кто не понял вещания звезд, —
Нестерпим окружающий мрак.
Философии, впрочем, больше нужно чудо, чем чуду — философия. Философия должна быть восстановлена как наука о наиболее глубоком и как наиболее глубокое. Между тем, период ее самокомментирования затянулся. Достигнуто самосознание, но разве это все? Пусть неофилософия начнется с чуда, пусть она не
20
признает над собой суда: ее долг — вырасти в самостоятельную область, обобщающую рациональность и иррациональность, человеческое и сверхчеловеческое. Общий язык для духовного общения людей может быть только языком их подлинной реальности, превосходящей все заранее установленные рамки.
Автор не может подымать здесь всей литературы по вопросу, писаний христианских и нехристианских богословов, мнений философов и полемистов. Ибо это такой вопрос, по которому у каждого свое мнение, и во всяком случае один из тех вопросов, по которому каждый должен составить себе мнение сам. Задача автора как раз и состоит в том, чтобы, отбросив все предрассудки, составить объективное суждение по этому вопросу, который он ощущает как наиболее острый сейчас. Для кого-нибудь это не так. Я уже не говорю о тех, для кого вопрос бесповоротно решен и решение обжалованию не подлежит. «Бесповоротно» решить вопрос о чуде, между прочим, можно только в смысле отрицания чуда. Признать чудо, значит каждый раз сомневаться в том, является ли данное событие чудом. А отрицать можно очень спокойно, не мучась сомнениями. Отрицание чуда дает некоторое всезнайство, а именно, о чем угодно я могу ничего не знать, и в то же время знать (или думать, что знаю) нечто весьма важное — то, что оно не окажется чудом. Это действительно весьма важно; что же тогда важно, если не это?
Итак, я говорю, что многие могут и не ощущать всей остроты вопроса о чуде. Я тоже ее не ощущал. Ощутить же однажды эту остроту значит понять, что это «вопрос», который на «здесь» и «теперь», но «всюду» и «всегда» (и всюду здесь и всегда теперь).
Признать чудо, значит перейти совсем в иное жизненное измерение. Каким образом?
Каждый человек, как бы далек о г солипсизма он ни был, живет все же в своем мире. Он любит или ненавидит своих ближних такой любовью или ненавистью, какая ему дана, так же как он слышит своими ушами, видит своими глазами, и во вполне определенном смысле не может «вылезти» за пределы этого его собственного мира. Здесь мы могли бы употребить известный термин «жизненный мир». Это мир переживаемого нами, имеющего для нас значение.
Для выяснения вопроса о чуде, о том, что оно вносит в жизнь, мы должны сначала рассмотреть отношение между жизненным миром и миром науки.
21
2. ЧУДО И НАУКА
Казалось бы, это отношение таково, что жизненный мир представляет часть мира науки, его небольшой закуток, причем здесь имеется соответствие той количественной пропорции, в которой биосфера, точнее «неосфера», обитаемый человеком тонкий слой на поверхности Земли, стоит к безграничному мировому пространству.
Но если бы отношение такого рода было сущностным, человеческая жизнь была бы возможна только на основании утраты перспективы, оптического обмана или, прямо говоря, самообмана. Бытие в мире, которому нет дела до человека, требует человека, которому нет дела до мира. До мира и до его собственного человеческого бытия, ибо мир науки, если его взять в его одичалом, оторванном от жизненного мира виде, есть прямое отрицание всего человеческого: сознания, чувства и мышления, разумной соразмерности, ценности и смысла.
На это можно смотреть с какой угодно точки зрения, и мы собираемся здесь не вступать в полемику (бесконечную, поскольку речь идет о первичных и невыводимых принципах), но просто указать на другое отношение, которое существует (и по крайности не менее очевидно, чем первое) между жизненным миром и миром науки. Как мы будем расценивать это отношение, зависит от того, как мы относимся к науке.
Это второе отношение противоположно первому и заключается в том, что для жизни каждого человека, конкретно занимающегося наукой, она представляет не более чем некоторый уголок его жизненного мира. Даже если человек всецело увлечен наукой, его увлечение относится не к безжизненной схеме мироздания, но является само в теснейшем смысле частью его жизненного мира, такой же частью, какой являются все личные увлечения и страсти. Собственно же научные результаты, в их обобщенном, объективированном, не принадлежащем данному лицу состоянии, суть не более чем результат отчуждения, и иметь дело только с ними значит ограничиться «человеком на работе», в то время как жизнь начинается только тогда, когда он предоставлен себе самому.
Какое из этих двух отношений сущностное? Об этом можно судить только на основании структуры того и другого отношения.
Согласно первому, мир науки един и обосновывает собой жизненные миры всех людей. Больше того, только он и суще-
22
ствует, а жизненные миры — его местные и «с точки зрения вечности» ничтожные проявления. Ни в коем случае нельзя увлекаться кажущейся «реалистичностью» такого представления! Как бы ни было оно обиходно в качестве «научного» и даже «современного» мировоззрения, оно есть не более как вульгаризованная версия индуистского учения о тождестве всех индивидуальных «атманов» в безликом мировом «брахмане», причем вульгаризации здесь больше, чем индуизма.
В самом деле. Согласно этому представлению, развитие науки ведет к все более глубокому ее проникновению в жизненный мир каждого человека, так что точное знание постепенно вытесняет субъективные представления, которые в сущности суть не что иное, как слабо замаскированное суеверие. Человек поедает не «пищу» (что это такое?), а описанные в необъятных справочниках и журналах молекулярные структуры, и сознание этого факта помогает ему выделять пепсины и трипсины. To-есть, может быть и не помогает, и в справочниках тоже есть что-то архаичное, потому что книги не такие блестящие, гладкие и аккуратные, как микрофильмы, или кристаллы, на которых в будущем будет записываться информация. Но подробности могут быть разными, а суть в том, что жизненные миры сольются в единый, уже не жизненный, который будет откровением Единого сущего Пространства-Времени или даже самим этим Единым сущим.
Если мы обратимся теперь ко второму представлению, оно прежде всего не будет таким нетерпимым и исключительным, как первое. Если мир науки обосновывается жизненным миром, он не теряет из-за этого своих преимуществ: общезначимости, связности, рациональности, способности привносить в конечном счете в тот же жизненный мир различные полезные предметы и приспособления.
Далее, обычно считается, что мир науки следует за жизненным миром, т. е. выводится из него, чисто логически, в то время как по своей материальной сущности, наоборот, жизненный мир следует из мира науки. В этом также заключена большая неточность.
На самом деле мир науки выводится логически не из жизненного мира как целого, а только из крохотной его части, той, которая допускает рационализацию и притом рационализацию очень узкого образца: вырезаются такие кусочки, которые могут быть помещены на то или иное место в созидаемую мировую схему.
23
Это очевидно, если мы пронаблюдаем за постановкой любого эксперимента. Чтобы он был успешен, все частное, все неповторимое, все не относящееся к нему должно быть безжалостно отсечено.
Выведения жизненного мира из мира науки по материальной сущности также не получается, прежде всего из-за той особенности первого, которая легко воспринимается интуитивно, но сформулирована может быть, пожалуй, только метафорически. А именно, жизненный мир существует для человека «изнутри».
Допустим, например, что мы создали теорию памяти и можем объяснить, как мозг запоминает, вспоминает и забывает всякие сведения. Что значит, что мы можем это объяснить? Это значит, что обнаруженный нами молекулярный механизм находится в активном состоянии, когда субъективно мы воспринимаем информацию; сохраняет некоторые обратимые изменения все то время, пока мы помним эту информацию; утрачивает эти изменения или как-то их скрывает, когда мы ее забываем; проявляет также другие особенности поведения, параллельные с памятью, из которых мы заключаем, что это есть физиологический механизм памяти. Но будет ли это самой нашей памятью? Нет! даже при таком полном объяснении это будет химический или электрический, но не психический аппарат. А если это будет психический аппарат, то это не будет объяснение в действительно научном и окончательном смысле.
Замечу в скобках, что модель памяти, которую мы только что предположили, является не более, чем научной утопией. Также и весь мир науки, как он должен предстать перед очами просвещенного человечества неизвестно которого века, есть недосягаемый, хотя, быть может, и тусклый идеал, в то время как жизненный мир был и есть нечто наиболее известное и переживаемое. Сколько человечество ни жило, в этом соотношении миров никогда еще ничего не менялось.
Чем дальше мы живем, тем невежественнее становимся: только теперь мы можем оценить всю глубину своего неведения, скажем, в математике или медицине. Кант был уверен, что геометрия или формальная логика уже полностью известны. А какой законченной была физика в прошлом веке! Спенсер создал законченную систему всего гуманитарного знания. Теперь мы стали скромнее, но идеал мира науки по-прежнему закрывает от нас тот факт, что не жизненный мир создан из абстрактной материи этого идеала, а наоборот, мир науки весь соткан из материи жизненного мира, в
24
котором этой материи остается еще не на одну сотню таких научных миров.
Таким образом, основное и сущностное отношение — это обоснование мира науки со стороны жизненного мира. Но нас не интересует сейчас какие это может иметь последствия для науки.
Если мы возьмем жизненный мир не постольку, поскольку он обосновывает (опять же абстрактную) науку, а сам по себе, уже тем самым мы не найдем в нем ничего, исключающего чудо. Конечно, мы не найдем и ничего, что доказывало бы неизбежность чуда; но в применении к чуду вообще трудно говорить о неизбежности, это область свободы, а ее источники — источники чуда — опять же за пределами жизненного мира.
Так и мир науки за пределами жизненного мира. Странно ли после этого, если то, что связано в жизненном мире с миром науки, само является особым разрядом чудесного? Но об этом в следующем разделе.
Наука имеет дело с возможным, а не действительным как таковым; чудо же вещь невозможная, но к тому же еще в высшей степени действительная.
Отсюда следует, между прочим, что все так называемые чудеса науки могут быть названы чудесами только метафорически и не связаны с тем, о чем мы здесь повествуем. Никакой прибор, никакая теория, метод, оружие или изобретение сами по себе не суть чудо — и не потому, что они насквозь рациональны. Нет, даже машины не вполне рациональны.
На основе логических актов чистого мышления невозможно устранить неисправность в машине, тем более ее сконструировать. Уже на сравнительно низкой ступени механизации машины приобретают явно органические черты, сближающие их с живыми существами.
Если водитель не любит своего автомобиля и если между ними не установился внутренний контакт, он не будет хорошим шофером. Любимым винтовкам, музыкальным инструментам, станкам дают имена, иной раз очень нежные, и тем подчеркивают наличие у них неповторимости, индивидуальности, которая не является, стало быть, прерогативой человека. С машиной разговаривают так же, как разговаривают с собакой или грудным ребенком. Еще больше возможностей в смысле проявления индивидуальности у электронных, самообучающихся машин, хотя я не уверен, что
25
возрастание «индивидуальности» машины идет рука об руку с возрастанием ее сложности.
Однако, дело в том, что все, связанное с технологией, подчеркнуто связано с реальной осуществимостью. Даже научная фантастика не уходит далее принципа реализуемости. Глядя на хотя бы и не постижимые для него устройства, человек знает, что они произведены ему подобными и являются их марионетками, в разной мере строптивыми. Даже когда технические чудеса проникают в жизненный мир, они проникают из той области, в которой заведомо нет чудес и где все идет только к расширению человеческих возможностей, т. е. это те же самые действия по целям. Только они приобретают некий дополнительный мрачный оттенок, потому что цели чем дальше, тем становятся менее человеческими, и индивидуум сам становится средством выполнения каких-то неведомых для него, но жестоких целей. Поэтому это не чудеса.
Чудеса здесь, впрочем, тоже есть, только они менее заметны. Иррациональное — не то же, что чудесное, но они связаны. Иррациональное есть как бы материя или почва чуда. Поэтому, как только мы отходим от чистого разума, мы попадаем в атмосферу если не чуда, то ожидания чуда.
Настоящим чудом, несущим все черты неповторимости, внезапного развертывания ноуменологического богатства, является само появление науки и технологии; ему предшествовало, однако, более раннее чудо появления рациональности как таковой. Даже если все, что угодно, можно было бы обосновать рационально, сама рациональность осталась бы необоснованной, я бы даже сказал потусторонней, потому что она может быть обоснована только через себя же, а это противоречит ее собственному принципу, согласно которому все обосновывается другим.
Не менее поразительным чудом является то, что человек вообще может еще существовать несмотря на все успехи науки. Жизненный мир ассимилирует совершенно неизвестные ему ранее элементы, и тем не менее основная структура человеческой жизни не подвергается ни малейшим изменениям. Человек остается человеком как бы для того, чтобы исполнились какие-то обещания и заветы. Ибо какую силу имеет обещание, если уже нет того, кому оно было дано? И тогда упраздняется и Библия (книги заветов) и весь мистический опыт человечества. В науке есть нечто, внутренне движимое импульсом к такому упразднению. Она не так проста и бесхитростна, как может показаться. Но человек остается человеком.
26
3. — ЧУДО В ПРИРОДЕ
Допустим на минуту, что чудеса происходили до и безотносительно к возникновению человека. Нетрудно будет заметить, что такие чудеса могут быть представлены только как нечто совершенно бессмысленное. У этих событий не было ни причин (иначе это не были бы чудеса), ни целей (раз не было человека или еще каких-нибудь разумных существ, но от последней возможности мы отвлекаемся). Чудо, сотворенное вне жизненного мира, есть прекрасный образ «ничто» как такового, абсурд без осознания или какой-либо направленности этой абсурдности, письмо без содержания и без адреса.
Таким образом, чудо антропоцентрично и есть принадлежность жизненного мира. Однако, жизненный мир каждого отдельного человека не есть нечто изолированное от других жизненных миров.
Это очень существенный момент. Всегда напрашивается предположение, что жизненный мир человека (любого), по существу, исчерпывает вселенную, потому что все, от звезд до микромира, так или иначе соотносится с человеком. В этом смысле следует понимать изречение о том, что «под каждой могильной плитой зарыта целая вселенная».
Это предположение (солипсизм) немедленно запутывается в противоречиях, потому что сомнительным становится самое существование других людей, и в жизненный мир отдельной личности каким-то образом должно быть включено все физическое строение мира, о тонкостях которого этой личности, быть может, известно очень мало.
Причина противоречий заключается в смешении «вселенной» жизненного мира и физической вселенной. Последняя, как мы уже видели, есть лишь уголок первой; но не в смысле физической части, потому что понятие «целого, слагающегося из частей» применимо только к физической вселенной, но не к тому, что превышает мир науки. Вселенная жизненного мира, которая относится к нему, как субстанция к модусу, не может быть составлена из жизненных миров отдельных людей, но обосновывает собой их существование, причем каждый из них насквозь проницает эту субстанциальную вселенную, будучи в определенном фасете ей тождествен. Такое отношение обоснования, конечно, выше, чем та слагаемость, на которой зиждутся связи физического мира.
27
Субстанциальная вселенная есть бытие. Физическая вселенная представляет некоторый ее аспект (фасет) и именно поэтому она входит и в каждый отдельный жизненный мир.
Первое из чудес, это чудо бытия. Оно двояко: почему вообще нечто существует? и почему существует именно то, что существует? И здесь и там мы встречаем все характерные признаки чуда: иррациональность; исключительно интуитивную постижимость, сознание чего-то высшего нас и в то же время несомненного, несмотря на всю свою маловероятность (ибо насколько вероятнее отсутствие и разрушенность вообще, чем присутствие в какой бы то ни было форме); наконец, «нужность» самой личности человека, неустранимость (бытия) из ее структуры и смысла.
Это проблема, к которой невозможна даже попытка рационального приближения. Почти то же самое можно сказать и о возникновении универсальных логических схем, без которых мы не можем мыслить ни науки, ни физической вселенной, ни отношения между первой и второй. Если уж мир таков, каков он есть, почему в нем должны иметь место отношения — отношения вообще, а в особенности порядок, однозначность, тождество, причинность; откуда взялась эта поразительная математическая стройность небесных и земных явлений, откуда законы природы, да к тому же еще общие для сколь угодно удаленных друг от друга захолустий мироздания? Даже если мы сами создаем эти законы просто для удобства описания, то откуда такое прямо-таки военизированное единство в этом описании?
Но дальше идут уже более сомнительные чудеса, в определении достоверности которых мы можем опираться только на собственную интуицию. Сравнительно легко тут еще с происхождением физической вселенной в целом, которое всегда наводило людей на мысль о Творце. Но последующая эволюция вселенной, возникновение галактик, планет, жизни, сознания обычно допускает по меньшей мере два толкования.
Происхождение первоначального скопления материи, было ли оно естественным или нет? Земля имеет возраст около пяти миллиардов лет, физическая вселенная в целом — еще на несколько порядков больше. Если мы скажем, что вопрос о том, как она возникла, не должен ставиться наукой, мы тем самым признаем, что это возникновение было чудом.
О субстанциальной вселенной нельзя сказать, что она суще-
28
ствовала «извечно» в смысле бесконечной серии веков, каждый из которых имел для себя предыдущий. Время бытия не есть время физической вселенной, оно больше сходно с неравномерно текущим, капризным временем человеческой жизни. Оно может иметь более чем одно измерение, менять свое направление, меандрировать, не иметь никакого начала или иметь их несколько. От всего этого абстрагируется физическое время, которое есть, однако, чисто логическая конструкция, что следует уже из того, с какой легкостью ему приписывается безначальность только на том основании, что иначе «нельзя представить, что же было до первого момента». Мы не можем представить электрона или движения со скоростью света; непредставимость для науки вообще ничто. Так разрешается и Кантова антиномия конечности-бесконечности (точнее безначальности) времени. Доказательство «начальности» верно (если бы время не имело начала, к данному моменту истекло бы бесконечное число веков, а бесконечность истечь не может). Доказательство же «безначальности» элементарно неверно, ибо ссылается на представимость-непредставимость. Подобные обиходные доводы ясно указывают на предвзятость концепции «безначального времени», этого плода беспомощности воображения. Впрочем, сейчас уже на основании чисто физических данных обычно принимают конечность времени, по крайней мере в прошлом (конечность будущего относится больше к чуду в истории, чем к чуду в природе).
А если так, то трудно отделаться от вечного вопроса: тогда как же? Кто же? Что было «прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной» (Притч. VIII, 25—26). Тем не менее, хотя и трудно отделаться от мысли, что происхождение природного как такового в его совокупности не может не быть сверхприродным, я предпочел бы сказать, что это происхождение было не чудом, а, если можно так выразиться, сверхчудом. Потому что оно чрезмерно отдалено от нас, и его антропоцентризм непосредственно не очевиден, может быть выявлен только в результате скрупулезного гносеологического анализа.
Ближе к нам знаменитые «мировые загадки» Дюбуа-Реймона (кроме первой, о сущности материи и силы): происхождение движения, жизни, ощущения, мышления, речи и свободы воли. Но это все-таки именно загадки, а не чудеса, и список их довольно произволен.
29
Дело в том, что какое бы крупное, существенное явление природы (а равно и истории) мы ни взяли, в его происхождении обязательно заключена загадка. Неизвестно не только происхождение жизни, но и происхождение нефти, земной коры, млекопитающих, цветковых растений, человека; не только речи, но и письменности, денег, религии, мореплавания; по всем таким вопросам есть только более или менее правдоподобные, конкурирующие друг с другом гипотезы. Это положение стремятся преодолеть с помощью разного рода моделей, уточняют те или иные подробности и т. д.; в целом к природным объектам, как бы таинственны они ни были, вряд ли можно относиться как к чудесам. Исследованию это может только повредить, а взамен ничего не даст.
Среди «загадок» можно условно различить две группы. К первой относятся те, в которых речь идет о возникновении закономерности, например, органической целесообразности или логики мышления. Вторая группа включает конкретные вопросы происхождения какого-либо объекта, например, земли или человека.
Во второй группе есть нечто от чуда; слишком очевидно заранее, что нам не удастся сконструировать рациональную схему, производящую соответствующий объект во всей его индивидуальности. В конечном счете это то же самое чудо бытия, раздробленное на миллионы искр, как луч солнца в водопаде. Мы никогда не можем понять (тем более вполне понять), почему некоторое индивидуальное явление именно таково, каково оно есть. Если же «мировые загадки» ограничивают обычно некоторым кругом наиболее значительных явлений, то это только потому, что они сильнее привлекают к себе внимание.
Что касается первой группы «загадок», она ведет не к постижению чуда, но к созданию рациональной схемы вселенной, хотя бы и с деистическим оттенком. Наиболее характерная тенденция естествознания — растворить «загадки» второй группы в первой, или, пользуясь иной терминологией, заместить идиографическое познание номотетическим, свести конкретное к общему, чуждому даже намека на что бы то ни было сверхъестественное. Хотя это, конечно, не получается, описательные (т. е. идиографические) дисциплины трактуются все же как науки низшего ранга и пережиток.
В ΧIΧ веке сверхъестественное изгонялось из наук о природе с помощью принципа эволюции. В XX веке было обнаружено, что принцип эволюции более сверхъестествен чем все, что он объ-
30
ясняет, и «сотворение нового» в процессе эволюции не только допускает мистическое истолкование и вчувствование, но прямо-таки напрашивается на него. Хотя основная масса ученых продолжала заниматься выяснением сравнительно незначительных и «безопасных» деталей общей картины мира, были созданы совершенно немыслимые ранее мистически ориентированные системы эволюции Вселенной и жизни (Бергсон, Леконт де Нуи, Тейяр де Шарден, Дж. Бландино, Э. Синнот и др.). Важен даже не этот факт сам по себе, а то, что все естествознание, рассмотренное с «исторической» точки зрения, приобретает весьма фантастический вид. Зажигающиеся и гаснущие миры, призрачные ландшафты отдаленных планет и прошлого земли, превращения рыб в птиц, обезьян в людей и другие головокружительные родословные, основанные на сомнительном фамильном сходстве — все это делает конкретно-эволюционное мировоззрение Геккеля или Циолковского романтическим и неблагонадежным.
Предпочтение отдается поэтому чисто каузальным исследованиям, вскрытию существующих в настоящее время астрономических, геологических, биологических механизмов и закономерностей. Все эти исследования чрезвычайно быстро устаревают, представляют в основном узкоспециальный интерес и не имеют мировоззренческого значения. Эволюцию же неявно подозревают в том, что она слишком много возится с индивидуальным. Разве для натуралиста-эволюциониста, созерцающего гармонию и трагедию в природе, мир не является непрерывно совершающимся чудом? События в истории вселенной выглядят как осуществление некоего замысла, логично ведущего к появлению человека, а может быть и дальше. Если мы мыслим эти события как единство, то мыслим и некоторый центр в их будущем, к которому они притягиваются. Убежать от этого можно только в призрачный мир абстрактного, формул и законов... который, однако, сам есть некоторое чудо, как бы «государство в государстве» в окружающем нас и по-видимому неразумном мироздании.
Однако, когда мы переходим к человеческой истории, индивидуальное начинает резко преобладать, а возможности «естественного» объяснения сужаются.
(Продолжение следует)
31
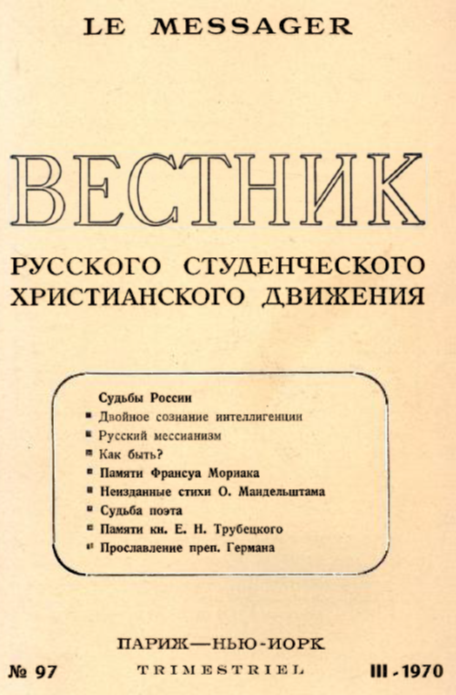
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
А. УСТИНОВ
ЧУДО
(Окончание)*
4. — ЧУДО В ИСТОРИИ
К истории нас подвели уже такие «загадки природы», как возникновение мышления, речи и свободы воли. Они относятся к философской антропологии, т. е. концептуальному учению о человеке, которое весьма мало имеет общего с антропологией как главой зоологии и должно было бы лучше именоваться антропономией.
С нашей точки зрения, они могут быть охарактеризованы, как тот же разряд «теоретических чудес», что и происхождение материи. Естественные это явления или нет, надо обладать чрезвычайно теоретическим складом ума, чтобы живо воспринять их как чудеса.
И, однако, каков бы ни был сам по себе антропономический комплекс, он сразу вводит нас в область, по существу однородную с жизненным миром.
Человек как субъект жизненного мира, как носитель субстанциального бытия не может быть просто отличен от Бога как Сущего, который по своему понятию есть носитель бытия. Этот основной принцип антропономии, утверждающий столь необычное для конечного мышления тождество, был возведен христианством и, в более абстрактной форме, религиями Индии, Он может быть пережит человеком, и это поистине удивительно.
В связи с этим стоит схоластическое и парацельсовское учение о человеке как о микрокосме, который в определенном смысле (ценностном, а также по сложности строения) равнозначен всей вселенной в ее совокупности. Согласно учению Григория Паламы (XIV в.) человек есть краткое резюме вселенной, «анакефалеосис» творения. Аналогичный взгляд на человека как «всеживотное» развивал С. Н. Булгаков, истолковывая в этом плане биологические данные о сходстве человека с другими представителями животного мира. Но в такой же мере, как для биологии, человек является исходным для логики. В частности, тождеством своего самосознания он дает образец для логического закона тождества, что было замечено уже Фихте.
*) См. начало “Вестник" № 95—96.
81
С нашей точки зрения это связывается с онтологической основой жизненного мира — субстанциальным бытием. Оно, будучи вполне человеческим, человечным и антропоморфным, вводит человека в принцип онтологического масштаба, открывает его бытие как теоморфное, субстанциальное и бессмертное. Без этого не может быть понято учение Паламы о человеке как «Боге по благодати», не отличающемся от Сущего не только по жизни, но даже по существованию. Как говорит Иоанн Златоуст в своем толковании на «Послание к евреям», «как зрак раба (Филип. И, 7) означает не что иное, как совершенного человека, так и образ Бога означает не что иное, как Бога».
Конечно, это есть учение о чуде, и самое чудо постижения этого учения не может быть чем-то повседневным или дающимся без внутреннего молитвенного усилия. В остальное время жизни человек вынужден довольствоваться хоть небольшим, да все же искажением истины, подменяя, например, понятие о человеке представлением о «каждом человеке» или «человеке вообще». Выяснение смысла существования как отдельного человека, так и целого народа или иного исторического тела может совершаться только очень просто, способом очевидным, но не поддающимся дискурсивному объяснению, путем «обыкновенного чуда».
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал.
Чудо есть избавление от отчаяния, от «трупного» состояния.
Итак, вступление человека в историю было чудом. «Естественная» история кончилась, началась история. Это прекрасный пример того, как «естественное» кончается, не кончаясь. Ведь человек ни в каком смысле не перестал быть биологическим существом!
Если же человек не эволюционирует биологически, то только потому, что он не хочет этого. Предки наши хотели, а стало быть и могли. Весь органический мир охвачен желанием изменяться. Впрочем, есть и дезертиры; например, мшанки какими были сотни миллионов лет назад, такими и остались. Речь идет о бессознательном желании. Да и у человеческого рода желание «не изменяться» не выступает как отчетливо сформулированное. При желании уже и сейчас, хотя мы и не умеем производить операций на генах, можно было бы вывести ряд искусственных рас людей, подобно тому, как это имеет место с породами скота. Этому
82
препятствует некоторая неуловимая, но вполне реальная сила, которую можно называть «общественным мнением», «современным сознанием» или даже «мировым духом» и которая действительно есть сознание человечества, но не сумма сознаний индивидуумов или усреднение, полученное с помощью прессы и телевидения, а всегда существовавшее единство, первичное по отношению к индивидуальным сознаниям.
Ноуменологическое, рационалистически не объяснимое единство человечества проявляется в общности и параллельной одновременности его духовных проявлений, которым не мешает географическая и культурная отдаленность. Я не говорю уже о таких встречающихся буквально на каждом шагу фактах, как одновременность появления двух определивших русскую литературу книг, «Горя от ума» и «Евгения Онегина»; переоткрытие в 1900 г. законов Менделя одновременно тремя учеными в разных странах (Чермаком, Корренсом и де Фризом), результатом которого было крупнейшее за всю историю революционное углубление биологии; такая же трипликация — независимая выработка первых принципов кибернетики тремя группами американских ученых в 1943 г.; и бесконечное множество других совпадений, о которых каждый знает из своего опыта.
Вспомним о сближенности во времени религиозно-философских революций, произведенных Лао-Цзы и Конфуцием в Китае, Пифагором и Сократом в Греции, Буддой в Индии (все в VI—V веках до н. э.). Опять-таки подобные совпадения не имеют доказательной силы для того, кто не усматривает в них логики и внутренней связи.
Прекрасно о «человечестве как о чем-то единственном и единодушном» выразился Метерлинк в своем «Царстве материи»: «Кажется странным, что понижение уровня мысли в массе, той мысли, которую едва так можно назвать, может иметь некоторое влияние на характер, нравственность, привычку к труду, идеал, чувство долга, независимость и умственную мощь астронома, химика, поэта или философа. Однако замечено, что оно имеет влияние, и даже решающее. Ни одна идея не загорится ярким пламенем на высотах, если бесчисленные и однообразные мелкие идеи равнины не достигнут известного уровня».
В самой основе чуда есть нечто, что мешает его исключительной субъективности, делает его как бы общим достоянием. В то же время неизбежное восприятие чуда как ни на что не похожего,
83
редкостного, благодатного препятствует какому бы то ни было конформизму, благоприятствует личности. Личность есть чудо, и ничто безличное не может быть чудесным. Но исходя из общего принципа признания за каждым человеком человеческого (и более чем человеческого) достоинства, мы должны придти к иррациональной концепции общества, потому что ни понятие достоинства не является рациональным, ни принцип равенства — научным (скорее наоборот, то, что дает людям основание на равные права, решительно выходит за пределы естественнонаучной области, ибо в любом эксперименте мы можем найти только новые и новые доказательства неравенства людей).
Человеку, живущему в некотором обществе, оно обычно кажется естественным и построенным вполне рационально. Между тем общественная жизнь построена на вере в чудо или по крайней мере на таком абсурде, который в своем обнаженном виде никак не может быть принят хотя бы и не слишком могучим человеческим разумом, но должен быть облечен в форму признания избранничества или потусторонней предопределенности.
Чем является божественное право дворянства, королей, династий, как не верой в то, что некое сверхъестественное начало вознесло этих людей на недосягаемую высоту и облекло их миссией пасти народы жезлом железным?
Ошибка здесь преимущественно в том, что люди отчуждают от себя субстанцию чудесного, понимая ее как некий факт. Убежденность в божественном происхождении возможна лишь тогда, когда люди смешивают сложные, но вполне естественные причины и констелляции фактов с тем, что уже не есть факт, но его содержание и значение. Ведь если бы плебсу удалось втолковать, что римские цезари происходят от особой породы человекообразных обезьян, живших в более благоприятных условиях, раньше развивших способность манипулировать орудиями, имевших более высокий рост, стройную осанку, в то время как простой римский народ произошел от низкорослых, грязных, тупых созданий, то психологический результат, пожалуй, был бы даже больше, чем когда пытались внедрить веру в происхождение цезарей от богини Венеры.
Но может быть такие суеверные понятия встречаются только в неразвитом обществе, не доцивилизовавшемся до нашего просвещенного уровня? Нет! Общество, в котором положение индивидуума определяется случайностями его рождения, пронизано ирра-
84
циональностыо и как таковое абсурдно с точки зрения общества, в котором положение индивидуума определяется достигнутым им в той или иной области личным успехом. Но во-первых, и в обществе, ориентированном на успех, будущее человека во многом определяется случайностями его рождения. Во-вторых, и это главное, поклонение успеху столь же иррационально, сколь и поклонение случайностям рождения. Если человеку все благоприятствует, если в этом столь трудном для жизни мире он имеет споспешествование во всех своих делах, особенно же если он при этом не выделяется сам по себе среди ему подобных, нет ли в этом чего-то от чуда? А если наоборот — разве не чудесна судьба Иова не только в своем конце, когда он получил вознаграждение, но и во всем нагромождении бедствий? Но это крайние случаи.
Современный человек располагает многими средствами для предотвращения природных бедствий, которых не было в прошлой истории. Зато есть много бедствий, которых раньше не было, и много новых угроз для личности. Я как будто могу и не рассматривать их подробно, но, по-видимому, ясно, что жизнь отдельного человека сейчас не меньше зависит от иррациональных факторов, чем это имело место в любую из предшествовавших эпох. Начиная с самого рождения, места и времени для которого мы не выбираем, через непрестанную зависимость от ситуации, встреч, отношений с высшими и низшими, поворотов событий и везения, мы следуем по тем же непредсказуемым, лишенным рационального единства путям, на которых нас так же может встретить любая неожиданность, как это было три тысячи лет назад.
Поэтому никакой разницы в суждение о чуде не вносят изменившиеся условия существования человека. Гипноз очевидности может и должен быть отброшен сейчас, так же как и раньше, и может быть, в этом сейчас больше всего необходимости. Как писал Лев Шестов, «в обетованную землю может придти только тот, кто, как Авраам, решился идти, сам не зная, куда он идет».
Если мы возьмем человечество в целом, то оно, безусловно, следует этому совету и не знает, куда идет. Оно и правда «может придти в обетованную землю», а может и не придти. Или же тот способ, которым оно туда доберется, нельзя охарактеризовать словом «придти». И когда человек остается наедине с этим вопросом, он видит, что исход зависит от него. Но знать — он этого не знает. Он только верит в это, как в чудо.
Притом непрерывно совершающееся чудо. Возьмем все предсказания на будущее, какие сейчас делаются, прогнозы и анти-
85
ципации. Как бы они ни различались в деталях, в их основе лежит убеждение, что тяга человека к исследованию и изобретению, «фаустовский порыв», никогда не иссякнет. Так ли это? Если так, то это чудо — такое же чудо, какое является непременным, категорическим (категориальным) условием всей нашей жизни.
Если мы обратимся к судьбам отдельных народов, то увидим прежде всего первейшее, непостижимое чудо: что они были таковы, каковы были. Интуитивное созерцание истории дает впечатление такой пестроты и богатства, что трудно представить себе, чтобы это все было произведено естественными причинами.
Однако же, это только начальное, так сказать, природное чудо; настоящие полные глубокого значения чудеса происходят с народами только тогда, когда они в них верят. Чем отличался еврейский народ от своих канувших ныне в вечность соседей по древней Палестине, если не верой в чудо своей избранности? Чем была бы сейчас Америка, если бы не вера ее пуританских предков в возвышенность их дела? Такая вера была и у римлян, и у китайцев, и у русских; ее напряжение вело нации к расцвету, иногда даже несмотря на огромные препятствия; с ее ослаблением и профанацией они гибли. Все они имели бесконечно разные судьбы, но эта сторона была общей. Хотя причины, по которым они верили в свое чудо, были разные -- совершенно так, как это бывает и у отдельных людей. И в таких случаях, когда народ проносит (в лице своих высших представителей, пророков) сквозь историю, несмотря на все превратности и величайшие бедствия, сознание своей миссии и вновь и вновь воскресает из пепла, мы можем постичь чудо его сверхпризвания.
Но окончательное совершение исторических чудес, их раскрытие и оправдание — в будущем. И там же великое чудо слияния истории с природой, великий горизонт, к которому история приближается при всей своей неподвижности и который предчувствует при всей своей бессознательности.
Не самообольщение ли это? Как легко человеку поверить в то, что ему хотелось бы, чтобы было! Как он хватается за малейшее благоприятное совпадение и отвергает самую убедительную цепь событий, если она говорит против желаемого! Вот с этой психологической стороны мы и должны сейчас взглянуть на чудо.
86
5. ЧУДО И БЕЗУМИЕ: ЖИЗНЬ КАК СОН
Первое и основное, что следует категорически утверждать, это что чудо не имеет ничего общего с безумием; чудо это не то, что чудится, а то, что есть, и если бы оно имело лишь призрачное существование, оно не было бы чудом.
И чудо — это не колдовство, не заклинание. Можно верить в колдовство и во что угодно, но это по существу мало будет отличаться от воззрений или заблуждений какой-нибудь научной школы. Есть ли телепатия или нет, может ли человек различать цвета пальцами или отыскивать воду с помощью ивового прута — все это проверяется экспериментально. Пусть проверка не проведена, но когда-нибудь она может быть проведена. То же самое и со всяким колдовством и оккультизмом. Конечно, есть многое, чего мы еще не знаем; но еще больше есть возможностей спекулировать на этом и выдавать фокусы за чудеса, навязывать суеверному человеку сверхъестественные жертвы помимо тех естественных, которые он так или иначе приносит, заменять мир нашего отчаяния другим, еще более жутким. Когда древние индейцы майя хотели вызвать дождь, они приносили в жертву девушку — разрубали ей грудь каменным топором и бросали в священный пруд. В таких прудах находят сотни скелетов. Пример моральной высоты и четкого понимания причинных закономерностей.
Чудо дает надежду, а не отнимает ее. Поэтому при восприятии чуда мы не можем всецело полагаться на собственный произвол или настроение, но должны иметь критерии. Как далеко можно зайти на этом пути? Наши критерии могут быть неприменимы, и многое неизвестно.
Здесь-το и начинается подлинное, неизбежное безумие чуда. Оно может быть, поскольку оно есть, и все-таки не может быть, потому что оно есть чудо. Все, что мы встречаем в жизни, сначала возможно, а затем действительно. Или же оно сначала возможно, а затем недействительно; или же сначала невозможно и затем недействительно. Но последнему, четвертому варианту — сначала невозможно, а затем действительно — противится что-то в глубине нашей души; хотя рационально этого противления обосновать нельзя: всякое обоснование явно или скрыто будет опираться на то, что нет никаких вариантов, кроме первых трех.
Но речь не о доказательствах. Мы стоим как раз на почве четвертого варианта. И для того, чтобы мы могли жить, невозможное в каком-то смысле должно стать возможным.
87
Если мы хотим проверить чудо, то это должна быть странная проверка. Прежде всего, эго проверка па невозможность: мы должны убедиться, что то, с чем мы имеем дело, невозможно. Если окажется намек не то что на возможность, но хотя бы на возможность возможности, то это не чудо. Так, например, исцеление, которое может быть объяснено внушением или какими-нибудь невидимыми волнами или полями, является чудом не в большей степени, чем исцеление симулянта. Хотя отсюда не еле- дует, что мы отрицаем медицинскую ценность, скажем, внушения.
Коренное заблуждение магического или колдовского толкования чуда заключается в том, что оно переводит вопрос в другую, привычную плоскость. Колдун может наколдовать так же, как конструктор может создать машину. Разница может быть в том, насколько то или другое получится, но не в том, что то или другое выводит нас за пределы нашего мира. Чудо — невозможно; но вторая часть его проверки — проверка на действительность.
Впрочем, если я не буду проверять чудо, оно не перестанет быть чудом для меня, если я верю в пего как в таковое. Только я не ставлю в этом случае цели убедить других. Это не значит, что я и не смогу их убедить; однако, это будет убеждение другого порядка, нежели убеждение доказательствами. Если я абсолютно неопровержимо докажу чудо, это будет столь же опасно для него, как если бы я доказал естественность произошедшего факта.
Потому что неопровержимое доказательство факта, хотя бы я не знал, как этот факт получился, всегда несет в себе нечто от естествознания. Разве что будет доказано, что факт совершился, и столь же неопровержимо доказано, что он не мог совершиться. Но и в этом случае, мне кажется, осталось бы какое-то подозрение. Вся эта четкость, разложенность по полочкам, определенность — принадлежность нашего мира, причем не жизненного мира, а мира науки. Как раз по этим принципам замкнутая схема научного мира и отбирается из богатой материи жизненного мира.
Вспомним, с другой стороны, о дотошности, с которой производится канонизация, о назначении «адвокатов дьявола», об осмотре мощей, о регистрации видений и случаев исцеления. Ясно, что все это нужно для общезначимости, для распознавания подделок и фабрикаций. По все это делается уже потом, чтобы кого- то убедить. Что значат для меня все чудесные события на свете, если я сам их не пережил? Не больше, чем волшебные сказки или мертвые и наводящие тоску протоколы. Но проникаясь чудом и
88
вдыхая его атмосферу, я сам становлюсь очевидцем. Больше того: я ощущаю, что я был воскрешен вместе с Лазарем, или чудесно избавлен от смерти вместе с Исааком. Чудо не может умереть.
Всякий смысл жизни, если он вообще может существовать, есть чудо. Вне чуда есть только естественное сцепление событий, самое понятие которого исключает «смысл». Но стремление — пусть безумное, или скорее кажущееся таковым в периоды духовного затмения — к тому, что выше этой жизни, заставляет и на нее взглянуть по-новому. Если навязчивая очевидность не есть окончательная инстанция, она уже нс есть очевидность, от нее можно пробудиться. И зыбкость, гиблемость всех вещей этого мира есть явное свидетельство неокончательности, сомнительности их существования.
Предметы, которые суть только знамения, только мгновенные обнаружения сущностей, исчезают, даже самые величественные из них, как актеры в пьесе, которую показывает Ариель в «Буре» Шекспира. Эти актеры
«...были духи
И в воздухе растаяли, как дым.
Вот так, как это легкое виденье,
Так точно пышные дворцы и замки
И самый шар земной когда-нибудь
Исчезнут и, как облачко, растают.
Мы сами созданы из сновидений,
И эту нашу маленькую жизнь
Сон окружает.,.».
Однако, во сне человек как-то обнаруживает свои сокровенные желания, ядро своей личности. Он действует в мире иногда кошмарном, иногда идиллическом, но порожденном его собственным духом в его попытке усвоить, «отреагировать» дневные влияния. «Наяву» же мы действуем почти что как куклы, как игрушки обстоятельств, и мертвая внешняя природа навязывает нам свое существование и свою волю.
Поэтому сои имеет больше шансов оказаться явью и действительностью человеческой свободы, чем явь. Но все же в нем слишком много от яви. Во сне мы еще меньше, чем наяву, чувствуем реальность происходящего; это особенно заметно, если мы сравним воспоминание о сне и воспоминание о яви.
89
Настоящее пробуждение приносит с собой только чудо. Хотя и оно, подобно молнии, только освещает и подчеркивает серий туман существования.
Мы получили бытие, чтобы благоденствовать, сказал Григорий Богослов. Действительно, если взять самое понятие бытия, а бытие есть чудо, как мы уже говорили, то мы не можем не принести в него нечто от положительной оценки.
И все же никакого благоденствия нет. Есть зло, и сомневаться в том, что оно есть, невозможно. Зло, несовместимое с бытием и тем не менее сосуществующее с ним — его можно было бы назвать чудом, если бы оно не было злом. Оно есть античудо, имеющее в себе все признаки чуда, но не его бытие. Поэтому никакое рациональное оправдание зла, будь оно теоретическое (теодицея) или практическое (преобразование мира), не искоренит его. Его можно перевести из одной формы в другую, может быть, даже смягчить. Но победит зло только чудо; и жить можно только при вере в неизбежность этого чуда.
Существование зла есть самое точное доказательство того, что жизнь есть сон. Наяву таких вещей, какие происходят, быть не может. Из этого, казалось бы, следует призрачность и зла. Но призрачность — понятие относительное, и добро есть принадлежность того же сна, что и зло. Чаще исчезает и «тает, как легкое виденье» именно добро. Это уже наше право верить, что несмотря на это, субстанциональность именно в нем, а не во зле. Впрочем, у добра то преимущество, что оно совместимо с собой, в то время как зло непрестанно обращается само на себя, и разные его виды истребляют друг друга.
Чудо есть вечное «нет» злу, и миру, им проникнутому, и нам самим, поскольку мы цепляемся за зло этого мира, любим его и тем становимся друзьями своему же врагу. Но врага этим не купишь; он идет на эту дружбу только затем, чтобы вернее погубить своих «друзей». — Общая гибель, одним раньше, другим позже, — что может быть естественнее, логичнее в этом мире? А мы живем только надеждой — значит, только чудом.
Подумать так — значит начать новую жизнь, жизнь, которая вся есть только начало и никогда — конец. Это жизнь, которая не изменит, если мы сами ее не предадим, это выбор наших чудес, тех, которые существуют именно в мою меру и для меня.
90
6. БЕССМЕРТИЕ И МОЛИТВА
Верить в чудеса не значит доверять всяким рассказам о чудесах, Вера в чудеса начиняется с первого чуда внутреннего возрождения, чуда, которое я делаю сам столь же, сколь оно делается со мной.
Потом, когда я узнал о том чуде, что несмотря ни на что, Бог есть, я могу обратить свое внимание и на меньшие чудеса. Они суть осколки, раздробленные отражения этого основного чуда.
Уже те естественные чудеса, о которых мы говорили, вроде бытия материи или сознания, суть пример того, что чудо не есть чудо для всех. Ведь человек может не воспринимать их как чудеса (что, впрочем, нельзя смешивать с тем, как он их называет — чудесами или нет. Он может их не называть чудесами, но воспринимать сверхъестественно, или же наоборот).
Тем более чудеса как факты. Каждое из них расширяет нашу действительность, и расширенная действительность уже не есть то же, что была, но — та же плюс чудо. При этом появляются новые соотношения и моральный смысл. Наше собственное существование изменяется вместе с изменением действительности. Поэтому, избирая чудо, мы избираем свое существование.
Количество чудес абсолютно не имеет никакого значения. Я могу смотреть на свою жизнь как на непрерывно совершающееся чудо, правда, в этом случае мне грозит опасность упразднить в ней самое чудесное. И я могу жить верой в некое единственное чудо, скажем: воплощение. У меня нет поползновения давать здесь советы. Но бережное, душевное отношение к чудесам, сохранение подобающего перед тайной молчания — вот что отделяет углубленную, понимающую веру от суеверия, готового присоединиться к любой бессмыслице и фанатизму, чтобы посрамить разум.
Может ли человек верить в свою жизнь, в то, что святое для него наименовано таким не по произволу, а по своей сущности, по связи с пребывающим и остающимся? Вопрос в значительной мере риторический. Конечно, человек может и не верить в такие вещи — в том случае, если он верит в естественный порядок вещей, согласно которому его ценности не переживут его самого, И он может в них верить, если для него невыносимо признать их разрушимость.
Но вот что особенно любопытно: в какой-то степени человек не может не верить в вечность своих ценностей. Во всяком цен-
91
ностном деянии человека присутствует эта вера, только уловить ее бывает не легче, чем схватить момент, когда ты засыпаешь, или отделить эстетическое ощущение пейзажа от физического восприятия этого пейзажа как игры света. Строит ли человек себе дом, учит ли иностранный язык, собирает ли коллекцию, воспитывает ли детей, создает ли научную теорию — если его спросить, зачем он это делает, он, конечно, ответит, что имеет в виду некую преходящую цель, с отпадением которой обессмыслится и его деяние. Однако, когда он действует, он забывает это, и им руководит гораздо более могучий инстинкт, без которого ничего не 'было бы создано на земле.
А вдруг право не рассуждение, а этот инстинкт? Это было бы чудо, про которое мало сказать, что мы не можем без него жить. Это чудо, которое есть сама жизнь. Мы можем стать на точку зрения, ее отрицающую, но мы можем усилием воли и веры подняться над этой точкой зрения и посмеяться над всей изобретенной нами же, приснившейся нам действительностью. В истинной действительности мы живы и — надо договаривать до конца — останемся живы.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Можно смеяться над действительностью, но не в глаза ей. В конце концов, если она или что-то в ней и приснилось нам, то избавиться от этого кошмара мы не вольны. Мы должны пережить его до конца, каково бы ни было метафизическое обоснование этого. Конец же мы предвидим впереди с уверенностью, которая превышает любую возможную индуктивную доказательность. Я хочу сказать, что эта уверенность нам прирождена. Человек не может встретиться с достаточным количеством фактов естественной смерти, чтобы вывести из них стопроцентную очевидность его собственной смерти, и ему неизвестна в достаточной мере сложная химическая картина смерти, но человек в здравом уме не может сомневаться в том, что он умрет.
И вновь в отчаянии невозможности человек обращается к чуду. Чем больше невозможность, тем больше чудо. Если мы знаем о тождественности человека и Сущего, не следует ли отсюда бессмертие человека? Опять мы видим, как все, что требуется инстинктом чуда, оказывается одним и тем же: видим, что мир чуда столь же, если не более, сцеплен и един внутри себя, как и навязываемый нам механизм естественной действительности.
Понятие о зле неразрывно в уме человека с понятием о возмездии. Мне неизвестно подробное исследование, специально по-
92
священное вопросу о развитии возмездия с древнейших времен человечества, но его вполне можно было бы написать, чтобы разъяснить такие феноменологически необходимые структуры общества, как право и закон, суд и мораль. Зло, конечно, все равно существует, но мысль о его безнаказанности бывает иногда столь же невыносима, как и мысль о бесполезности добра.
Правда, бывают поступки, которым нет вообще никакого оправдания, и роковой закон требует, чтобы они сопровождали человека всю его жизнь. Таково было для Наполеона убийство герцога Энгиенского, без которого он вполне мог бы обойтись. Таким же образом никому не удавалось оправдать геноцид, и когда Гитлер стал его проводить, он пользовался кажущейся полной безнаказанностью, но в критический для него момент его режим оказался абсолютным злом* с которым даже вести переговоры значило бы безнадежно себя скомпрометировать; и он погиб жалким образом, конечно без мук совести, но, возможно, все-таки смутно чувствуя логику возмездия.
Далеко не всегда это так. Человек может быть повинен в смерти миллионов, направить всю свою жизнь на истребление вокруг себя малейших следов человеческого достоинства и тем не менее скончаться в почете и среди общего траура.
Сколько в этом насмешки над так называемыми человеческими ценностями! Иногда трудно бывает отделаться от мысли, что эта насмешка действительно есть сознательная насмешка какого-то сверхчеловеческого, но злобного существа, до того все складывается рационально в смысле непрестанного усиления зла. Разумеется, эта интуиция не есть доказательство.
Зло оставляет после себя не только немедленные последствия в виде страдания и дальнейшего расползания зла. Самый факт причиненного зла взывает к отмщению, пусть не сейчас, хотя бы в будущей жизни. Однако, если мы даже твердо уверены в загробном воздаянии, оно не заменит возмездия здесь; больше того, оно вряд ли может вообще дать нам удовлетворение.
Часто ли бывает у цивилизованных народов, чтобы кто-нибудь дал в долг с условием получить обратно на том свете? Так и здесь. Зло причинено здесь, и здесь же мы знаем, что оно есть зло. Там, в более реальном мире, зло должно обнаружить свою ничтожность, там должны быть другие занятия, нежели борьба со злом.
Зло позабытое
Тонет в крови,
93
Всходит омытое
Солнце любви.
Здесь же, в окружающем нас кошмаре, мы обречены на борьбу со злом. Борьба эта ужасна тем, что зло не только вне, но и внутри нас. Когда человек или народ борется с внешним злом, он должен проверять и себя, нет ли в нем этого зла, и тогда эта борьба будет несомненно справедливой и очищающей для него самого.
Таким образом, предполагаемое воздаяние в загробной жизни не может служить компенсацией за зло в этой. Но это не упраздняет воздаяния, и веры в него, а лишь придает ему иной, более спокойный оттенок. Зло должно быть искоренено здесь, и все силы должны быть направлены на это. А когда откроется всякая правда и всякая неправда, искоренятся и те семена зла, которые дают ему существовать сейчас, и оно изгладится даже из прошедшего. Ибо прошедшее существует лишь постольку, поскольку о нем помнит — кто?
Да, вот это главное. Снова и снова выступает единство действительности чуда, мира свободы, противополагаемого не знающему себя, нависающему подобно скале привычному «миру сему». Воистину нет компромисса между этими двумя мирами! Потому Христос и есть «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие», что царство его не от мира сего.
Лазарь четыре дня пролежал в могиле. Когда Достоевский вывел как идеального героя князя Мышкина, который «буквально верует» в воскресение Лазаря, это было потрясение. Не то чтобы раньше в него не веровали, нет, это было в православном вероучении. Но тут чудо изъятия человека от власти смерти было извлечено из массы других чудесных рассказов, усмотрено в расправленном виде и внесено в самую гущу тогдашнего «современного сознания», предоставляя ему выбор: или остаться собой и отказаться от всякой надежды, а значит и от «сознания», или... отказаться от себя. И не всеми этот вызов остался незамеченным. Вспомним не только Вл. Соловьева и Н. Федорова, но и таких далеких от этой области людей, как Циолковский или Вернадский: углубляя космизм как мировоззрение, они должны были дойти до требования не только надежды, но и полной уверенности.
Но о «чудесах науки» мы уже говорили. Даже решение таких проблем, которые вполне могут быть сформулированы языком
94
науки, как машинный перевод или излечение от рака, представляется трудно достижимым идеалом. Воскрешение же предков, требуемое Н. Федоровым, остается далеко за горизонтом науки, сколько бы журналисты ни жонглировали понятиями информации и обратной связи.
Поэтому если здесь мыслима уверенность, то не та, которую дает служба погоды, и даже не та, которую мы черпаем из математических формул и небесной механики. Человек бессмертен не как констелляция молекулярных центров и полей (вряд ли кому-нибудь нужно бессмертие тела именно в этом смысле), но только в своей истине.
«Чем же и мир стоит — правдой и совестью только и держится», говорит праведный царь Берендей у А. Островского. Как не задуматься, так ли это? По всей очевидности, не так, господствует, наоборот, неправда, никто не обращает внимания на совесть, благо других и даже простую учтивость. Верить не в эти джунгли, а в какой-то нравственный миропорядок, значит верить в чудо. Я уже говорил о близости морали к чуду. И, однако, это чудо есть, и на нем держится мир! И самое «стояние» мира на этом чуде есть еще одно чудо, потому что «разум» подсказывает нам, что мир вполне мог бы существовать без всякого добра, на одном взаимном обмане.
Но такова потребность человека в чудесном, что ему мало этих несомненных и почти «естественных» чудес, и требуется еще одно: чтобы его правда пережила его похороны, и не в безликом виде учения или добрых дел, но в его собственном духе. Человек вживается в дела своего духа, в творчество, в радость созерцания и любви; неужели ему будет отказано в сохранении всего этого? Но с другой стороны, ведь человек вживается и в скупость, в эгоизм, в честолюбие; неужели и это должно быть сохранено? Ясно, что одной потребности человека в бессмертии мало не только для бессмертия, но и для того, чтобы сделать бессмертие мыслимым.
Прежде веры в бессмертие должна быть вера в то, что истина может быть отделена от лжи. Некоторая неухищренность, прозрачность души необходима для такой веры. Бессмертие же человека есть наиболее для него внутреннее и интимное, что не может быть ему навязано или наложено на него; но оно не может быть и создано им самим, потому что у него нет для этого сил.
Отсюда мы видим, что должно существовать такое деяние, на которое у человека всегда есть силы и которое связывает его
95
с источником бессмертия. Это деяние есть молитва, и она также — наиболее внутреннее и интимное.
Постичь молитву как чудо нет другого пути, кроме самой молитвы. Всякое чудо есть разговор, который человек ведет с Сущим, а потому всякое чудо есть молитва.
Нет большей лжи, чем изображать молитву чем-то противоположным действию. В молитве я стою один на один с Тем, Кто дает силу всякому действию. Именно эта внутренность, субъективность молитвы делает ее чем-то сугубо моим, так что понятие «чужой молитвы», строго говоря, противоречиво. Я, конечно, могу догадываться, что другой человек молится, но что с ним при этом происходит, я могу знать столь же мало, сколь мало я вообще знаю о сокровеннейших глубинах его духа. Или если я знаю это, то это уже не «чужая молитва» для меня, и мы с ним одно.
Субъективность, присущая молитве, есть и во всяком человеческом действии. Это сторона его высшей осмысленности, того, насколько человек понимает, что предпринимаемое им действие согласно с его судьбой. Конечно, он может понимать это весьма слабо.
Но молитва как бы фокусирует всю субъективность человеческой деятельности. Тем самым она, с одной стороны, выделяет все ее реальное, внешнее содержание как таковое, дает осознать эту деятельность как отличную от всякой другой и далее как направленную на должную цель. Так человек узнает, чего он хочет.
С другой стороны, молитва собирает воедино все субъективное, все чисто желательное в деятельности, и желательное исправляется таким образом, чтобы оно не было всего лишь желательным данного индивидуума, но развивалось в одном ритме с его судьбой и жизненным предназначением. Так сохраняется внутренняя сила и целостность человека, которые иначе легко теряются в многообразии его занятий и работ.
Самым фактом молитвы человек отвечает на вопрос: можно ли жить чудом? Да, можно, а иначе — нельзя. Тревога наших дней напоминает об этом. Мы не можем просто выжить. Мы можем выжить только как люди. Никогда не было таких надежд, как сейчас. Надо иметь такую надежду, чтобы она могла смыть не только мелочность неудач, но и катастрофу.
96
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
