13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Принципы православной антропологии
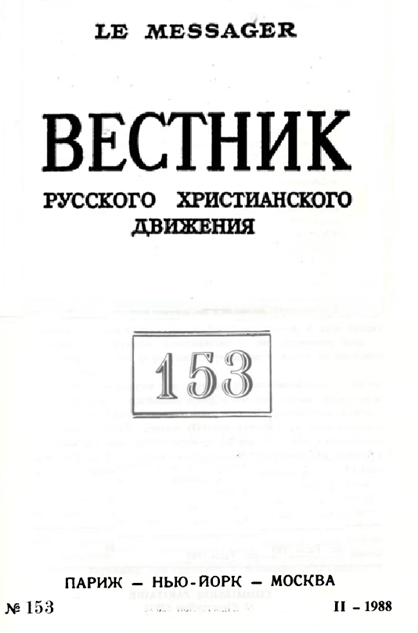
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ
ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ *
Вводные замечания:
1. Основные принципы христианской антропологии, христианского учения о человеке были намечены и развиты св. отцами, исходившими в своих построениях как из библейской антропологии, так и из духа новозаветного благовестил. Однако, надо иметь в виду, что главной задачей святоотеческого богословия была разработка основных догматов, — темы же антропологии св. отцы касались все же лишь попутно. В силу этого Церковь, в эпоху расцвета богословского творчества, не создала законченного учения о человеке, как не создала она и законченной системы космологии, — и это обстоятельство имело самые тяжелые последствия в судьбе Церкви. Церковная мысль подвергалась в данной области влиянию внецерковных течений, — и в недрах церковного сознания возникли очень серьезные и глубокие разногласия, которые касались именно тем о человеке, об историческом процессе. Уже в антропологии блаж. Августина мы имеем столь явное уклонение от общехристианского понимания человека, что если сравнить, например, «Исповедь» блаж. Августина с аскетическими писателями Востока (св. Макарий, св. Иоанн Лествичник, св. Исаак Сириянин), то становится ясно, как далеко разошлись христианский Восток и Запад в данной области. Все эти разногласия никогда не были предметом обсуждения и разрешения в плане вселенского хрис-
*) Печатается впервые, по рукописи из архива.
5
тианства, между тем они часто имели решающее значение в самых актуальных и насущных вопросах, стоявших перед христианским миром, и, таким образом, христианство стало раскалываться еще задолго до того, как этот распад был закреплен исторически, — и так и доныне самый дух Христова благовестил в отношении его к путям спасения, к пониманию человека и его участия в историческом процессе оказывается различным в отдельных христианских исповеданиях. Можно с уверенностью сказать, что сближение христианских исповеданий (в так наз. «экуменическом движении») в области догматической будет очень трудно до тех пор, пока не удастся достичь взаимного понимания человека и его исторической активности.
Но, конечно, не менее важна разработка вопросов христианской антропологии для современного мира, столь глубоко отошедшего от христианства. Никогда еще в истории европейской культуры так не обнажалась внутренняя неустроенность человека, его неумение овладеть тайной духовного равновесия, как в нашу эпоху. Современная научная и философская мысль с особым усердием занимается «загадкой» человека, — но вся эта огромная литература, в которой можно найти достаточное обилие частичных истин о человеке, не может подняться до той высоты в понимании человека, какую мы находим в христианстве, в его основных озарениях. Увы, современной научной мысли остаются чужды основные принципы христианской антропологии, — особенно это надо сказать о проблеме зла в человеке, о тех болезненных расстройствах в человеке, которые принимают все более страшные размеры. В интересах науки и философии лежит поэтому — приблизить христианское учение о человеке к современной мысли.
2. Прежде чем обратиться к систематическому очерку основ православной антропологии, необходимо ввести читателя в то, что можно Назвать источниками православного сознания в этой области. Здесь надо различать между богословскими и церковными данными: в богословском материале (прежде всего у ап. Павла, а затем в великих догматических течениях, связанных с христианской темой1) мы находим ряд ценнейших формул, поистине гениальных интуиций, часто еще недостаточно изученных. Особое значение приобретает здесь идея первородного греха, столь глубоко, хотя и односторонне разработанная блаж. Августином. 2 Все это еще не приведено в необходимую ясность, изучены лишь
6
membra disjecta3 — а главное нет надлежащей Исторической сводки всего материала.
Но рядом с этим, мало еще изученным богословским сокровищем стоит то, что мы назвали «церковным материалом», что включает в себя все церковное творчество, непосредственно находимое в богослужебных текстах, в живых излучениях церковной жизни, в жизни святых, — все, что вводит нас во внутренний мир церковности, как его можно пережить лишь «извнутри». Религиозные созерцания, живые показания духовного опыта — все это помогает нам проникнуть в дух тех формул и идей, которыми живет церковь, питаясь от церковного предания, живого в прошлом, живого и в настоящем. В качестве примера приведу то, что дает нам, православным, праздник Пасхи: в пасхальных озарениях раскрывается такая полнота восприятия мира и человека, основополагающая в христианстве идея спасения сияет таким богатством света, радости и правды, что уже в одних пасхальных вдохновениях открывается нам поистине «велия благочестия тайна» (1 Тим. 2, 16). Может быть только на Пасху мы научаемся видеть мир «в свете Христовом», как призывает нас Церковь на ежедневной утренней службе. Вне пасхальных озарений мы все бываем придавлены видением той тьмы, которая царит в людях и в жизни: эти злые чары закрывают от нас внутренний мир человека. Мы часто называем эту плененность мысли эмпирическим материалом, «трезвым реализмом», но именно реализма здесь мало: здесь гораздо больше зачарованности внешними данными, чем трезвого погружения в подлинную сущность человека. В свете же пасхальных переживаний мы хоть на время становимся способными стать выше обыденных фактов, освобождаемся от давления внешней периферии в человеке. Самое драгоценное, что несут нам пасхальные переживания, есть чистая радость о людях, какая-то светлая приветливость к ним. И эта радость и эта приветливость вовсе не зависят от тех или иных свойств в человеке и именно потому не могут быть заглушаемы восприятием его темных и грешных сторон. Мы обращены, иначе говоря, в этот момент вовсе не к эмпирической реальности в человеке, равным образом и не к какой-то отвлеченной «сущности» человека (к его «идее»), но интуитивно прикасаемся к скрытой за внешней оболочкой внутренней жизни человека, скажем богословски к сиянию образа Божия в человеке — в каждом человеке. Пасхальная радость даст нам силу, не соблазняясь внешними данными, прикоснуться к тому, чем жив извнутри
7
человек, что, по выражению одного швейцарского психолога, есть «élan vital spirituel»4 в человеке. Мы имеем поэтому все основания утверждать, что до всяких богословских построений нам дано в Церкви (говорим особенно о пасхальных переживаниях, расширяющих наше сердце) живое и непосредственное восприятие образа Божия в человеке, как подлинной и действенной реальности. В каждом человеке нам может открыться эта тайна внутреннего мира его, этот немерцающий свет в нем. Это откровение о реальной действенности образа Божия в человеке принадлежит к числу основных исходных интуиций в православной антропологии, т. е. не зависит от велений богословствующего разума. Но именно потому оно и имеет руководящее значение для богословского осмысления этих непосредственных данных церковного опыта.
3. Brunner5 очень удачно противопоставляет подлинного человека (der wahre Mensch) действительному человеку (der wirkliche Mensch). Подлинный человек это homo absconditus, до которого мы доходим, лишь руководясь описанными выше пасхальными или подобными им переживаниями. Ап. Петр (1 Петр 3, 4) говорил о «сокровенном сердца человека», а Господь говорил о том, что «сердце наше там, где сокровище наше» (Матф, 6, 21) что значит, что в человеке есть и нечто более глубокое, чем его сердце ибо само сердце уже прилепляется к тому, что дух человеческий избирает, как свое сокровище. Св. Григорий Нисский (De opificio hominis Сар. И) говорит даже о том, что если в человеке есть образ Божий, то в нем есть и такая же «непостижимая сущность», как она есть в Боге. Однако homo absconditus (der wahre Mensch — по терминологии Бруннера), конечно, не может быть мыслим в всецелой отделенности от эмпирического человека; поистине здесь можно употребить терминологию Халкидонского догмата «о нераздельности и неслиянности» этих двух сторон. Однако, верно и то, что «подлинный» человек остается порой настолько «отодвинут» в глубину, настолько скрыт, что только очам любви (особенно материнской любви) может открыться то, что в данном человеке где-то в глубине есть его нераскрывшаяся подлинная природа. Весь смысл так наз. «духовной жизни» заключается как раз в том, что человек освобождается от всего привычного, заученного, деланного, обретает внутреннюю целостность, становится «самим собой». На языке православной аскетики это называется «простотой», при которой внутренняя сущность человека
8
(der wahre Mensch) не искажается во внешнем выражении человека, в его «эмпирическом характере», но получает свое прямое раскрытие во внешней жизни человека.
Это различение «подлинной» природы в человеке6 и его эмпирического характера одинаково относится и к каждому отдельному моменту в жизни человека (при «статическом» рассмотрении его) и к жизни человека в целом (т. е. при «динамическом» рассмотрении его). Человек «загадочен» в обоих этих аспектах, и соотношение «ядра» личности и его эмпирической оболочки («характера») не остается неизменным и неподвижным в течение всей жизни. И сам человек часто сознает несоответствие его глубины и его эмпирии, мучится этим, доходя иногда даже до утери психического равновесия. 7 В этом случае становится особенно ясным, что духовное «ядро» в человеке не может быть истолковано лишь как некая потенциальная энергия: наоборот, оно действенно, хоть и подавлено и заглушено всем тем, что сложилось в эмпирическом слое его личности. Тайное действие духовного «ядра» не связано, конечно, с тем, что в современной психиатрии именуется «комплексами»: «комплексы» создаются на почве конфликтов в чисто эмпирическом слое личности, мы же говорим о соотношении метафизического и эмпирического слоя в личности.
После этих предварительных замечаний, которые нам понадобятся в дальнейшем, перейдем к систематическому изложению основ христианской антропологии в их понимании в православии. Надо, однако, иметь в виду, что автор настоящего этюда, хоть и остается верен богословской и церковной традиции православия, все же вынужден в ряде пунктов, с полным сознанием личной ответственности, выдвигать формулы, которых не знает традиция или на которые в ней даны лишь намеки. Оправданием ему служит то обстоятельство, что в православном богословии мы не имеем пока подробной и общепринятой разработки проблемы антропологии.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Обращаясь к вопросу о происхождении человека, сразу же скажем, что православие твердо стоит здесь на почве библейской антропологии, т. е. признает, что человек появился на земле не в порядке «естественной эволюции» живых существ, но сотворен был особым и отдельным актом творения. Конечно, это радикаль-
9
ное выделение человека из порядка природы надо признать общехристианским учением — здесь нет места расхождениям в разных исповеданиях. Однако, приходится принять во внимание и то, что гипотеза Дарвина (столь соответствующая общим тенденциям естествознания) о происхождении человека в порядке «естественной эволюции» настолько сильно повлияла на научную философскую мысль ΧΙΧ-ΧΧ вв., что даже серьезный кризис трансформизма не смог ослабить этого влияния. Хотя нет ныне ни одного серьезного ученого, который отрицал бы чрезвычайные затруднения в объяснении того, как появился человек на земле, — но все же стремление обойтись без библейского учения об особом «творении» человека остается, к сожалению, руководящим у подавляющего большинства ученых. Но человек ведь не состоит из одного тела, даже если бы удалось обойти все трудные пункты8 в палеонтологии, систематике животных, в эмбриологии, то остается труднейшая проблема проявления в человеке высшей психической жизни. Не будем входить здесь в перечисление и анализ ряда неразрешимых трудностей в проблеме «психической эволюции», но просто скажем, что между психикой животных и психикой человека различие действительно столь глубоко и существенно, что только фанатическая приверженность к учению о появлении человека в порядке «естественной эволюции» побуждает ослаблять или не замечать этого различия. А между тем душевная (и духовная) жизнь в человеке не может быть отделяема от его телесной жизни сфера тела и сфера душевно-духовная не «склеены» вместе, а образуют в нем живое единство.
Одно признание правды библейского учения о творении человека, конечно, вовсе не разрешает еще всех загадок в вопросе о связи человека и природы — это нужно категорически подчеркнуть. Мы настаиваем лишь на том, что никак нельзя ослаблять самое существо библейского учения, как это нередко находим мы в таких истолкованиях библейского учения, при которых оно приравнивается к «мифу» или признается имеющим «символический» характер. Когда, например, мы читаем у Бруннера,9 что «Библия не может иметь никакого притязания на то, что она обладает особым, основанным на Откровении знанием о происхождении человека», то на это мы как раз говорим: Библия именно на это и притязает. Можно, конечно, отвергать все учение об особом месте человека в космосе, но тогда никакой христианской антропологии построить невозможно, — но ведь даже внерелигиозный подход
10
к теме человека все более и более приводит к признанию «загадки» человека. 10 И так странно, что во имя рабского подчинения преходящим гипотезам науки верующие люди отказываются от библейского учения о человеке, тогда как сама наука («нейтральная») приходит к положениям, давно выдвинутым Библией...
Принимая безоговорочно библейское учение о происхождении человека, мы подчеркнем еще раз, что здесь важен лишь принцип особого творения человека Богом. Проблематика происхождения человека вовсе этим не отстраняется она лишь вдвигается на надлежащие рельсы и создает правильные основы как для выяснения связи человека и космоса, так и для углубления в тайну человека — в его «составе», в динамике, движу щей его развитие, в внутренней закономерности этого развития.
ОБ ОБРАЗЕ БОЖИЕМ В ЧЕЛОВЕКЕ
Для чистого богословия имеют неоценимее значение те строки библейского рассказа о происхождении человека, где говорится о том, что созданию человека предшествовал «предвечный совет». Для антропологии же важно то, что за этим следует, а именно — что Бог создал человека «по образу и подобию Своему». Как известно, в ранней христианской письменности (уже у Оригена, у св. Иринея и дальше) утвердилось такое различение двух слов «образ Божий» и «подобие Божие», что согласно этому толкованию «образ Божий» человеку дан, подобие же задано. Тот идеал «обожения» (theosis), который с самого начала (особенно у св. Макария Великого, у св. Афанасия Великого) положил свою печать на все моральное учение христианства (на Востоке), как раз и определяется задачей стать «подобным» Богу11 (в соответствии со словами Спасителя: «будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный» — Мф. 5, 48). Но если относить слова о «подобии Божием» к задаче человеческой жизни, то какое содержание вкладывать в понятие «образа Божия»? Здесь открывается целый ряд вопросов, в разрешении которых резко расходятся христианские исповедания. Особенно остро стоит здесь вопрос о том, сохранился ли образ Божий в человеке после грехопадения, в раннем протестантском богословии, вообще в его построениях до XIX в., мы находим решительное утверждение, что в грехопадении человек утерял образ Божий и ныне весь человек стоит «под гневом Божиим».
11
Это учение настолько, однако, трудно удержать, что в протестантском богословии довольно рано появляется учение о «reliquiae imaginis Dei», ибо без этого невозможно понять наличность в человеке высших его свойств, отличающих его от животных. Все, специфически присущее человеку (humanitas), сохранилось ведь в нем — при всей реальности его поврежденности благодаря греху. Но справедливо острит по этому поводу Бруннер,12 что «kleine best zum Frager grosser Dinge wird». Вообще все это учение о reliquiae imaginis Dei «овеществляет» понятие образа Божия или же вносит в него недопустимую расплывчатость. Бруннер13 пытается спасти положение различением в человеке «формальной структуры» (которая и заключает в себе всю силу его humanitas) и «человечности по содержанию» (das Menschliche als Inhalt, как «жизнь в любви»); только последнее и утеряно человеком, по Бруннеру. Никакого «остатка» образа Божия в «формальной структуре» человека Бруннер вовсе не хочет видеть, т. e. humanitas вовсе не связана для него с учением об образе Божием. Человек не растерял в грехопадении всего того, что делает его человеком, что возвышает его над природой, — значит humanitas не зависит от образа Божия. Иначе говоря, для понимания человека (как он есть — der wirkliche Mensch) учение об образе Божием не нужно, оно ничего не раскрывает в загадке человека, не является «конститутивным» понятием в христианской антропологии, но в лучшем случае имеет, говоря терминами Канта, «регулятивный» характер.
Для православного сознания это выпадение понятия образа Божия из христианской антропологии (поскольку она имеет дело с «der wirkliche Mensch») представляется чудовищным уходом от библейского учения о человеке. Конечно, тут действовал известный богословский мотив (отожествление imago Dei и Justitia originalis, потерянной после грехопадения), но при всей богословской сложности, здесь наличествующей, как можно было придти к положению, что образ Божий человеком утерян, хотя природа человека осталась все же несравнимой с природой других живых существ? Для православия различие между der wahre und der wirkliche Mensch, при всей силе и серьезности его, при богословской сложности его, не таково, чтобы допустить утерю человеком образа Божия. Мы уже говорили о том живом восприятии действенности образа Божия в человеке, которое составляет здесь основную и исходную интуицию православной антропологии, — и никакие богословские затруднения (что, собственно, и лежало в основе утверждения
12
и Лютера, и Кальвина) не могут обесцветить силу и смысл этой интуиции. С особой силой находим утверждение реальности и действенности образа Божия у великих аскетов (у св. Макария Великого, у св. Иоанна Лествичника, у св. Исаака Сириянина), — дело идет здесь не о конструкциях богословствующего разума (как мы характеризуем относящиеся сюда взгляды Лютера и Кальвина), а о некой первичной, а потому незыблемой, правде непосредственного восприятия. Конечно, этим вовсе не решается вопрос, в чем следует видеть содержание понятия «образ Божий», — и тут как раз достаточно места для богословских гипотез. Мы больше чем «веруем» в реальность и действенность образа Божия в человеке — мы воспринимаем ее, и эта коренная исходная интуиция есть некая Ариаднина нить, на помощь которой приходится полагаться, чтобы не запутаться в лабиринте богословской проблематики. Добавлю свое личное утверждение: потускнение двух великих идей христианской метафизики — идеи творения (в томизме, для которого творение не может быть философски утверждаемо, но которое должно принять лишь в порядке веры) 14 и идеи образа Божия (в богословии протестантизма) есть печальнейшие результаты отхода от того понимания мира и человека, которое изначала было в христианстве и которое сохранилось в православии.
Если «объем» понятия образа Божия в православии охватывает всю реальность humanitas, т. е, относится не только к der wahre, но и к der wirkliche Mensch, то как мыслить содержание этого понятия? Мы переходим здесь к новой теме в построении христианской антропологии.
О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ БОЖИЙ»
У св. отцов мы находим много попыток определить конкретно, в чем следует видеть образ Божий — его связывали то с разумом, то со свободной волей или с совестью, но всегда с тем, что ныне (т. е. в человеке «действительном», уже носящем в себе грех) мы находим в человеке. В общем можно сказать, что образ Божий связывают с духовной сферой в человеке однако не так, чтобы можно было бы отделять образ Божий в человеке от его «естественного» состава. Иными словами, ничто не дает основания, вернее — ничто не позволяет мыслить человека «двусоставным» — natura pura + образ Божий. Человек, как он дан нам в действительности,
13
живет единой жизнью; все стороны, все «аспекты» его существа, будучи «неоднородными»15 и иерархически не равноценными, связаны в живое, поистине органическое целое. В этом смысле должно сказать, что человек всегда и во всем духовен, только духовность может иметь разные формы и в иерархическом смысле может занимать не одно и то же место в жизни человека. Между прочим, о теле человека должны мы сказать, что оно живет в постоянной и интимнейшей связи с духовными и душевными процессами, хотя и подчинено в своей жизни своим особым законам. Уже здесь становится ясным, что тело человека не «феноменально», т. е. не исчерпывается лишь эмпирической сферой, но сопринадлежит к метафизике человека, но к теме о теле мы еще обратимся дальше.
Если человек всегда и во всем духовен, то это верно и в отношении к тем случаям, когда человек живет исключительно чувственной жизнью, которая держит в плену духовную жизнь, деформирует ее. В этом смысле надо прямо сказать, что понятие «чувственности» вовсе не исключает момента духовности, но означает лишь определенную форму духовности (т. е. ту, в которой доминирует и управляет всем в человеке его чувственная сфера). Конечно, это низшая ступень духовности, но даже всецело отдаваясь чувственным влечениям, человек и в них становится «ненасытным», не хочет знать «конца», — т, е. жаждет и на этих путях Бесконечности (а обрашенность человека к Бесконечности и есть характерная черта духовности). В этом порядке можно было бы принять тезис блаж. Августина о том, что в человеке всюду можно усмотреть действие concupiscentia («похоти»): человека нельзя ведь оторвать (ни в познании, ни в активности, ни даже в созерцаниях) от чувственной стороны. По удачному выражению известного неотомиста J. Maritain, человека нельзя «ангелизировать», мыслить его хотя бы в некоторых моментах обладающим «чистой» духовностью. Такой нет в человеке, — и блаж. Августин неправ лишь в том, что он видит в concupiscentia руководящую силу у человека. Если человек не есть тело + душа + дух, если он есть живое единство всех его сил и живет единой жизнью, то это значит, что он всегда и во всем и телесен, и духовен.
Из сказанного вытекает еще одно положение, само по себе бесспорное, но часто забываемое. Если при цельности человека духовная сфера может в иерархии сил занимать разное место,16 то из этого следует, что мы духовны не только тогда, когда обращены
14
к Богу, но и тогда, когда обращены в иную сторону, т. е, — что есть светлая духовность, возводящая нас «горе́», но есть и темная духовность (уходящая от Бога и уводящая от Него). Не только есть злые духи, но и человек, когда грешит, живет все же духовно (да и самое понятие греха предполагает наличность духовной стороны в человеке).
Но в таком случае уже заранее можно сказать, что понятие образа Божия и понятие духовной сферы не могут быть отожествляемы — образ Божий есть ведь и в грешнике, но его нет в грехе. Мы стоим здесь перед очень трудной задачей так построить понятие образа Божия, чтобы, сохраняя его основное значение в конституции человека, не ослабить основного смысла его, как образа Божия. Не потому ли Лютер и Кальвин отожествляли imago Dei с Justitia originalis, что не умели уяснить, где же образ Божий в грешнике, если он совершает грех?
Отдельные духовные функции в человеке (разум, моральное сознание, свобода и т. д.) все несут на себе печать поврежденности, печать греха: как lumen naturale rationis (естественный свет разума) не свободен от возможности ошибок, так и в моральном сознании и особенно в свободе эта печать поврежденности выступает повсюду. Даже о совести человека можно сказать, что и в работе совести часто встречаются ошибки, извращения... Как выйти из тупика, в который мы попадаем таким образом? Этот выход откроется нам, если мы воспользуемся тем терминологическим различением, которое намечено Халкидонским догматом в учении о том, что в Богочеловеке при единстве личности наличествует две природы — божественная и человеческая, «неотделимые» одна от другой, но и не «спивающиеся» одна с другой. В свете этого различения мы должны отдать себе ясный отчет в следующем: природа в людях не только «одинакова», но она «одна» у всех,17 а личность у каждого своя — несравнимая, несмешиваемая. Конечно, никакая «природа» не должна быть мыслима без своей ипостаси,1* а человеческая «природа» в особенности: человеческая природа живет в каждой личности, ее ипостазирующей, своей особой жизнью, и вне «ипостаси», вне момента личности она уже не живая, а опустевшая, умершая. Было бы, однако, неправильно считать духовные свойства в человеке (его духовную «природу») функционально зависящими от момента личности, как и обратно — неправильно было бы считать момент личности функцией духовных процессов в человеке. Непроизводна, невыводимо не из чего личность
15
в человеке, но так же непроизводны, невыводимы ни из чего (т. е. и из момента личности) разум, свобода, моральное сознание. И все же: природа (говорим сейчас о духовной стороне в человеке) и одинакова и даже единосущна у всех людей, личность же у каждого своя. Это не дает права отделять момент личности от духовной сферы в человеке, но позволяет и даже требует их различать. Между прочим, уже здесь выступает различие между понятием личности и индивидуальности, а также теми философскими обобщениями, которые отсюда вырастают — между «персонализмом» и «индивидуализмом». Каждая личность (неотделимая от своей природы) индивидуальна: понятие индивидуальности относится к единству личности и природы, в их взаимодействии, в их развитии. Но личность может бороться со своей природой, противостоять ей, может влиять на жизнь природы в ней, и это противоборство личности и природы означает утерю той первозданной justitia originalis, того «богоподобия», которое было до греха: до греха было такое отношение между личностью и природой, которое действительно было «богоподобием», ибо в Боге «сущность» не «противостоит» Св. Троице. Грех же, поразив природу человека, вдвинул в существо человека неизбежность противоставления или противоборства личности и природы.
Мы приблизились здесь к очень важному пункту. Различение личности и природы в человеке позволяет нам отнести сферу греха к природе человека, не затрагивая момента личности, — и это ведет нас к положению, что образ Божий надо видеть как раз в личности, а не в духовной сфере вообще. Если это принять, то тогда мы можем до конца осмыслить основную антропологическую идею в православии — а именно, что с грехопадением не утерян образ Божий, который остается действенным, т. е. продолжает связывать нас с Богом. Духовная же природа (разум, свобода и моральное сознание) оказывается в человеке поврежденной, в то время, как «личность» не повреждена: она может быть придавлена и угнетена, ослаблена и ущерблена, но остается неповрежденной. Разбойник на кресте «о едином часе», по слову церковного песнопения, освободившийся через покаяние от своей неправды, мог это осуществить, ибо все его грехи, отягчавшие его духовную природу, не погасили в его личности творческих сил: он покаялся и спасся «о едином часе». Личность может властвовать над своей природой, может и подчиняться ей, и соотношение личности и природы в человеке может с известными ограничениями быть сближаемо
16
с тем различением «формальной человечности» и «человечности по содержанию», о котором говорит Бруннер и которое позволяет ему выпутаться из затруднений, создаваемых тем, что, по его теории, утеря образа Божия не означает утери humanitas.
Но войдем немного глубже в понятие личности. Собственно, в точном и полном смысле слова это понятие применимо только к Богу: в Боге все от Него Самого, Бог есть Абсолют, causa sui, «самопричина», и нет в нем ничего внеипостасного, нет никакой «сущности», которая не открывалась бы во Св. Троице. 19 Потому Бог и есть Личность (во Св. Троице), что в нем все лично, все «ипостазировано». В человеке же личность вообще «зреет», «развивается», т. е. овладевает своей «природой» не сразу, а медленно и постепенно — и притом ограниченно. По мере созревания человека в нем многое получает печать личности, становится выразителем и проводником личности, но очень многое остается все же вне этого, вне подчинения личности. В том-то и сказывается вся внутренняя антиномичность в человеке, что он есть “тварная» личность, что он не есть собственник своей природы,20 а, так сказать, «включен» в нее она ему дана, он ее «vorfindet» «преднаходит в себе», по выражению Авенариуса. При всем том личность в человеке является субъектом его жизни, ею развития, его судьбы, источником его творческих устремлений, носителем сознания ответственности,21 она сознает себя автором своих действий, признает себя ответственной за них. А с другой стороны, человек ограничен со всех сторон — прежде всего тем, что над ним (Бог, высший духовный мир, все «трансцендентальное» логика, сфера ценностей, и г. п.), тем, что рядом с ним (социальной средой, нравами, вообще «социальной традицией»), и наконец, тем, что под ним, т, с. всей дочеловеческой природой, ее законами, ее «слепыми» процессами, игрой случайностей в жизни земли, в жизни космоса. Собственная природа отдельного человека — телесная и духовная — со всей силой наследственности, первых детских, со всей влиятельностью их, еще не подвластных воле ребенка впечатлений, — все это извнутри сжимает личность, утесняет ее и часто уродует. Среди всей этой массы отовсюду наседающих ограничений личность таит в себе, однако, неискоренимую потребность и возможность творчества, свободы, свободы до такой степени безмерной, что человек может вступать в борьбу и с внешней природой, и с людьми, и даже с Богом, не говоря уже о борьбе с самим собой. Личность
17
в человеке, в свете этого, есть самое загадочное и непонятное в нем, ибо, завися от «всего», она все-таки как бы «сама от себя», она как бы изначальна, не из чего невыводима. Можно сказать, что личность в человеке настолько несоизмерима с ее эмпирическими проявлениями, что здесь, очевидно, мы имеем дело с какой-то исходной двойственностью в человеке. Яснее всего это выступает в моральном сознании человека, в том, что он судит — и самого себя, и других людей, и даже Бога (проблема Теодицеи); впрочем, это противоставление себя всему имеет рядом с собой и интерес ко всему, приспособление к миру и жажду овладеть миром. Моральное сознание все же выражается, по верной формуле Канта, в «категорических императивах», отказаться от которых моральное сознание не может, хотя сам человек может вообще отказаться от морального сознания, стать на путь имморализма.
Русский богослов Несмелов,22 который стремился антропологически обосновать систему богословия и философии, анализируя начало личности вообще, особенно отмечает ущербленность в человеке начала личности; он видит в этом ясное свидетельство того, что это только «образ» Абсолютной Личности (Бога). Только приняв такую характеристику момента личности, т. е. видя в ней «образ», как бы «сияние» некоего Первообраза, Личности Абсолютной, мы можем, по мысли Несмелова, построить понятие «тварной личности», уяснить себе смысл этой загадочной антиномии. «Личность» есть начало внеприродное, внекосмическое, метафизическое, — а потому в человеке личность (как образ Абсолютной Личности) невыводима из его природы, из внеличных или безличных процессов в человеке. Простое констатирование этого факта непроизводности личности иногда останавливается на полдороге, как это мы находим в трансцендентализме, между тем личность в человеке явно уходит своими корнями в неисследимую метафизическую глубину. Однако, мы не имеем никакого права, никакого основания видеть в личности человека как бы метафизическую законченность, т. е. строить систему плюрализма (как напр. у Фихте младшего). Только понятие «образа Божия», связывая личность метафизически с Богом, охраняет нас от незаконного плюрализма.
Заметим тут же, что библейское указание на «дыхание божественной жизни», которое осуществляет образ Божий в человеке,23 само по себе, без напрасных новых метафизических трудностей, корректно объясняет отношение человека к Богу, как личности
18
к Личности. Уже Плотин стоял перед этой же проблемой (у него это проблема о соотношении души индивидуальной и мировой), но он не мог иначе ее решить, как лишь с помощью идеи эманации. Отсюда и идет учение о том, что в человеке есть «частица Божия», «искра» Божества, «Fünklein» М. Экгарта. Для христианской же антропологии дух человеческий онтологически не одинаков с духом Божественным, и если нам «дана власть быть чадами Божиими» (Иоанн, 1, 12) — то по благодати. Личность в человеке есть лишь образ личности в Боге, есть лишь проводник «света истинного», исходящего от Бога.
Но этим всем мы коснулись лишь одной стороны в «загадке» человека. Смысл идеи «образа Божия» должен быть освещен еще с другой стороны, в нем заключенной.
(продолжение следует)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Обзор этих учений см. в книге архим. Киприана «Антропология св. Григория Паламы».
2. См, особенно N. Р. Williams. «The idea of the Fall and of original Sin», London, 1927.
3. См., напр., упомянутую книгу архим. Киприана, а также книгу 11. Wh. Robinson: «The Christian doctrine of Man», Edinbourgh, 1920.
4. См.: Ferrière. «Le progrès spirituel», Paris, 1927.
5. Brunner. «Der Mensch im Widerspruch», Berlin, 1937.
6. О «третьей стороне» в человеке (о человеке в Церкви), см. ниже: «Соборность...»
7. В этом отношении очень приближаются к христианской антропологии построения психиатра Kühkel. См., напр., его «Arbeit am Character» и другие работы, особенно его учение о «Zeitbild» в человеке.
8. Они недурно собраны в очень ценной, хотя и склонной кое-где к поспешным обобщениям недавней книге G. Salet & Z. Lafon. «L’évolution régressive», Paris, 1943.
9. Brunner. «Der Mensch im Widerspruch», s. 413.
10. См. прославленную книгу Alexis Carrel: «L’homme, cet inconnu»,
11. Отожествление imago и similitudo в протестантской догматике, если не ошибаюсь, основано на раннем отожествлении понятия imago Dei и justitia originalis, а отсюда уже неизбежно считать imago = similitudo. К этой проблематике см., напр., статью Dr. Schumann в сборнике «Imago Dei», Giessen, 1932.
19
12. Brunner, «Der Mensch im Wiederspruch», s. 526.
13. Ibid., s. 166.
14. См. об этом замечательную книгу известного неотомиста Sertillanges: «L’idée de la création et ses retentissements en philosophie», Paris, 1945. Sertillanges номинально (как и Фома Аквинат) сохраняет идею творения но только номинально.
15. Так наз. дихотомическое понимание человека (дух + психо-телесная сторона) или трихотомическое (дух + душа + тело) хоть и по-разному, но все же утверждают «неоднородность» различных сторон в человеке. У ап. Павла, давшего основные идеи для христианской антропологии, как известно, встречается и дихотомия и трихотомия.
16. Мы говорим здесь об иерархии «аксиологической», т. е. в отношении ценности разных сфер; онтологически же духовная сфера занимает в иерархии бытия, конечно, высшее место.
17. О «сдиносушии» в человеке см. ниже.
18. Этот тезис Аристотеля метафизически был договорен Лейбницем в его монадологии. W. Stern, в своей замечательной книге «Person und Sache», все же неправ, когда против оставляет живым существам неживые «вещи».
19. Без этого пришлось бы вводить (как эго и делает напр. М. Ekhardt) в жизнь Абсолюта теогонический процесс, в котором Св, Троица является posterior по отношению к Gottheit.
20. В этом, в сущности, смысл противоставления Geist и Bios у Scheier («Die Stellung des Menschen in Kosmos). Впрочем, Scheier здесь явно был под влиянием системы Klages.
21. Brunner считает сознание ответственности центральным в человеке («D. Mensch im W.», s. 212), и даже сводит все христианское учение о человеке к учению об ответственности (там же, стр. 209), но ведь еще важнее должно быть учение о личности, как субъекте сознания ответственности.
22. О Несмелове и его книге «Наука о человеке» (тт. 1 и 2) см. мою книгу «История русской философии» (т. 2, гл. 3).
23. Биосфера существовала в мире, согласно Библии, до Человека, следовательно, «дыхание жизни», сообщенное человеку, говорит, очевидно, о «дыхании» жизни Божественной,
20

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ (1881-1962)
ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ *
(Продолжение)
«СОБОРНОСТЬ». НЕ «ПОДОБОСУЩИЕ», А «ЕДИНОСУЩИЕ»
Христианское понимание человека может быть правильно истолковано, лишь если иметь в виду человека, пребывающего в Церкви. К двум понятиям «истинный человек» и «действительный человек» мы должны теперь прибавить третье понятие «человек в Церкви». Почему? Потому, что пребывание в Церкви и живое участие в ней, как Теле Христовом, как богочеловеческом организме, создает «новую тварь», о которой говорил Апостол. Кто пребывает в Церкви, — а для православного сознания Церковь есть Тело Христово, — тот, хотя в своей греховности и есть лишь «действительный человек», но в благодатной среде церковной он находится уже в ином плане, чем те, кто живет вне Церкви. Та отделенность людей друг от друга, их взаимонепроницаемость, которая есть следствие греха, как бы исчезает в благодатном действии Церкви, — и чем глубже мы входим в жизнь Церкви, тем ближе становимся мы друг к другу, поистине становясь «членами» единого Тела Христова. Освобождение человека от тех перегородок, которые воздвиг грех между людьми, может, конечно, иметь место и вне Церкви — вообще всюду, где между людьми разгорается близость в любви и добре, где невидимо действует Христос. Но в Церкви люди, фактически даже не связанные «естественной» любовью или дружбой, становятся все же близки во Христе. На высшей стадии этого церковного взаимосближения мы находим чувство чистой радости о человеке, то доброжелательство, которое как бы переливается через край в светлые дни Пасхи. «В сей день возрадуемся и возвеселимся в онь» — поет Церковь в дни Пасхи; но праздник Пасхи есть основа и каждого воскресного богослужения, — и радость пасхальная, может быть неузнанная или слабо воспринятая, звучит в храме каждое воскресенье. С удивительной простотой эта
*) См. начало в «Вестнике РХД» № 153.
67
радость о людях проявлялась у преп. Серафима, который встречал людей, приходящих к нему, этими именно словами: «радость моя». В богословских учениях славянофилов (Хомякова, Киреевского, Самарина), строивших свои антропологические воззрения под влиянием святоотеческой письменности, особенно развилось это учение о влиянии Церкви. «Каждый человек, — писал Хомяков, — находит в Церкви самого себя — не в бессилии своего духовного одиночества, а в своем духовном единении с братьями». Киреевский, написавший немало ярких страниц о роковых последствиях атомизирующего индивидуализма, искал «цельности» человека в укреплении духовной жизни, которая углубляет связь отдельной души с Церковью. Самарин резко противоставлял самоутверждение, развиваемое индивидуализмом, тому слиянию с Церковью, которое является торжеством творчества в личности. Не является ли все это комментарием к словам Спасителя о том, что кто хочет спасти свою душу (т. е. изолирует себя от других и уходит в свою личную жизнь), тот погубит ее.
В Церкви с большей или меньшей силой преодолевается все то, что является перегородкой между людьми — в этом и заключается веяние соборности, присущей Церкви, которая в своей мистической глубине есть Тело Христово. Такое взаимоотношение отдельной личности и Церкви остается, конечно, закрытым для внешнего взора и даже для нашего самосознания, но дыхание Церкви преображает душевный строй тем, что ослабляет силу атомизирующих тенденций, столь возросших в новейшем индивидуализме. В этом смысле Церковь, ослабляя перегородки между людьми, действительно возвращает нас к самим себе, к первозданной сращенности людей в живое целое. В этом порядке естественный «социальный инстинкт», естественное сближение людей между собой есть отражение в нашей жизни, стоящей под знаком греха, благодатной силы церковности, не окончательно утерянной после греха. 24
Это учение о «соборной» природе человеческого духа с особенной силой развилось в русской философии, искавшей преодоления духа индивидуализма, столь ярко проявившегося в западной культуре нового времени. Не только у славянофилов, но и у тех русских философов, которые были чужды славянофильству, мы находим то же стремление к преодолению крайностей индивидуализма на основе новой антропологии. Таковы интереснейшие в этом направлении построения Чаадаева (находившегося под влиянием французских «традиционалистов»), Пирогова, отчасти
68
Достоевского, Л. Толстого. «Но особую выразительность получила эта тенденция в замечательных построениях кн. С. Трубецкого о «соборной природе человеческого сознания». С. Трубецкой, исходя из построения трансцендентализма (в его учении о наличности в нашем познании надиндивидуальных, «общеобязательных» моментов), учит о том, что во всяком акте познания «мы держим собор со всеми людьми», т. е. что акты познания, хотя и протекают в рамках индивидуального сознания, но вытекают не из него, а из общечеловеческого «соборного» начала. С большой остротой критику «гносеологического индивидуализма» продолжал затем Н. О. Лосский, — и вообще мысль, что в рамках индивидуального сознания проявляет свое действие надиндивидуальное («соборное») начало, все время повторяется в русской философии.
В Западной Европе в личности всегда особенно подчеркивается ее своеобразие, ее индивидуальность, вообще, в полном соответствии с духом римского права, столь глубоко вошедшего в духовный мир Запада, отстаиваются права отдельной личности. Конечно, утверждение прав отдельной личности на творческое развитие, борьба личности против рутины, против эксплуатации ее обществом — все это соответствует христианскому учению о ценности личности, ибо в христианстве личность получает небывалую значительность в благовестии о воскресении личности, о «восстановлении» ее первозданного своеобразия, о нерастворимости личности в Абсолюте. Сам Спаситель сказал: «в дому Отца Моего обителей много». Действительно, в христианстве — и только в нем — проблема «каждого», проблема «заурядных», «бесцветных», по видимости лишенных всякой оригинальности людей получает свое разрешение в идее воскресения «каждого» человека для вечной жизни в Боге.
Но неправда и крайности индивидуализма вызывали всегда реакцию и в самой Западной Европе — что мы находим во французской школе «традиционалистов», в немецкой романтике (особенно в «исторической школе» юристов), в культе человечества у Огюста Конта {Grand Etre), наконец, в социологическом реализме (в «органической» социологии Спенсера, Лилиенфельда и др.). Сюда же примыкает и метафизика Шопенгауэра с его учением о principium individuationis (как имеющем силу лишь для феноменальной сферы) или метафизика Фехнера и Вундта с их учением о личности («гребень волны в океане духовного бытия») и утверждение
69
(у Вундта) закона «сохранения духовных (безличных В. З.) ценностей»... С другой стороны, в построениях трансцендентализма «гносеологический субъект» решительно отделяется от эмпирической личности, возникает понятие «Bewusstsein überhaupt» как «носителя» всех трансцендентальных функций. Сама личность здесь становится личностью лишь через приобщение к подлинным, сверхиндивидуальным ценностям, только в них достигает своего цветения.
В проблеме личности выступает таким образом два полюса — ее своеобразное, неповторимое «я» и другой полюс — надиндивидуальное в ней. Первое более чем скромно, оно в сущности бедно и ничтожно, если изолирует себя, но оно же цветет и благоухает, становится проводником и осуществлением высших ценностей, когда личность «выходит из себя», приобщается к мирам неличного, высшего бытия. Но и эти высшие ценности, эта сфера высшего бытия, в свою очередь, не живет вне личности — это только у Платона его «идеи» (высшее бытие) никому не принадлежат, не имеют вообще своего субъекта. 26 Ни личность сама по себе («persona pura») не может проявить себя без высшего мира, ни этот высший мир без личности не может войти в движение космоса и истории. И, конечно, трансцендентализм так же неизбежно впадает в опасность имперсонализма, как метафизический индивидуализм (крайний персонализм) обнажает лишь пустоту «ипостасного» момента, оторванного от внеличного высшего мира.
Если в Церкви преодолевается затемняющая сила греховности, воздвигающая перегородки между отдельными людьми, то, конечно, только в Церкви и получают надлежащее раскрытие дары, присущие индивидуальному духу вне Церкви и подверженные искажающему действию греха. Эта поврежденность индивидуального духа сказывается, например, в работе индивидуального разума, обреченного постоянно на ошибки, lumen naturale rationis хотя и светит, но недостаточно, чтобы быть гарантированным от ошибок. Это относится и к коллективному мышлению (в силу чего истина может оказаться — что часто и бывает — на стороне ничтожного меньшинства). Вообще, наш разум может притязать на непогрешимость лишь становясь церковным разумом, разумом Церкви. Конечно, понятие «церковного разума» относится к Церкви лишь как Богочеловеческому организму, к Церкви, живущей Святым Духом, в силу чего церковный «коллектив» и преображается в «Тело Христово». Оттого в классической формуле, принятой
70
уже на первом Соборе в Иерусалиме, читаем: «изволися Духу Святому и нам» (Деяния, 15, 28). Преображение «собрания» в «собор», эта тайна явления Церкви уже не как человеческого коллектива, а как Богочеловеческого организма, имеет место не просто там, где собрались верующие люди, но где также «изволися Духу Святому». Истина на соборах, по православному учению, обеспечивается не канонической правильностью их, а лишь присутствием на них благодатного действия Св. Духа, что узнается Церковью через «рецепцию» решений Собора. 27 Вообще никакие вдохновения и даже гениальность индивидуального разума не обеспечивают нам истины — в православном нашем сознании хотя полная свобода и дана индивидуальному разуму, но истина всегда дана лишь церковному разуму. В этом очень важный пункт нашего расхождения с духовной установкой в протестантизме, где приоритет индивидуального разума (столь легко переходящего на путь богословского рационализма) отстраняет священный смысл церковного предания, чем отвергается иерархический примат Церкви в отношении индивидуума.
Но все сказанное о соотношении Церкви и индивидуального духа относится не только к разуму — еще больше оно относится к дару свободы. Мы коснемся этой темы позже (см. ниже — о зле в человеке), теперь лишь укажем, что дар свободы реализуется в нас в полноте и подлинности лишь в Церкви, которая собственно и есть истинный субъект свободы, не знающий той двусмысленности, которая фатально присуща отдельному человеку в его движениях свободы. Mutatis mutandis — это относится наконец и к нашей совести: как чисто индивидуальная функция, она, увы, так часто оказывается ненадежной, постоянно подвергается искажениям. Характерны в этом отношении слова тайной молитвы, которой молится православный священник во время литургии: «избави мя Боже от лукавыя совести». 23 Даже сердце наше, оставаясь средоточием духовной жизни (согласно библейско-христианскому учению) может быть лукаво, — на сердце может лежать «мрак», по выражению одной православной молитвы. Надо обратить внимание на слова Спасителя о «злом и добром сокровище» (Мат. 12, 35) и еще слова Его: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мат. 6, 21), что значит, что сердце человека следует за тем, что признает дух человеческий, в последней своей глубине, своим сокровищем. Эта infirmitas mentis, эти колебания человека есть
71
конечно функция его свободы, но свободы ослабленной, ослепшей. Вообще самоизоляция личности, отрыв от воздействия «сочеловеков» (Mitmenschen) по-новому освещает онтологическую неполноту духовного бытия в личности — ей нужно восполнять себя тем, что стоит за пределами личного бытия. Школа трансцендентализма глубоко права в том, что то, что нужно личности, есть не просто трансиндивидуальное, не простой «коллектив» или социальная среда, — личность питается тем, что по существу надлично, надэмпирично, — «трансцендентально». Однако, вся сумма трансцендентальных функций, по настойчивому утверждению строгих кантианцев (Cohen и др.), не обладает никаким «бытием», как его нельзя приписать и «гносеологическому субъекту» у Риккерта и его школы. Вопреки всем этим утверждениям школы трансценденталистов мы утверждаем: сфера высших ценностей должна иметь свой субъект. Уже доникейское учение о Христе, как Логосе (приводившее к признанию, что были христиане еще до Христа — как Сократ, Платон и др.) намечало путь для разрешения этой проблемы. Только в доникейском богословии Логос, как Сын Божий, и логос космический отожествлялись; как известно, преодоление этого «космологизма» в учении о Втором Лице Св. Троицы и составляет главную заслугу св. Афанасия и каппадокийцев. Субъектом трансцендентальных функций в человеке нельзя поэтому признать Божественный Логос (пребывающий в мире, но по существу являющийся не от мира): этим субъектом нужно признать Церковь. Потому-то infirmitas mentis преодолевается не в простом «очищении» нашей humanitas (что с такой силой выражено, например, в антропософии), а лишь через приобщение к Церкви, к ее благодатным силам. Лишь эта благодатная сила, лишь действие Св. Духа преображает «действительного человека» (der wirkliche Mensch), — и тогда индивидуальный разум становится церковным разумом, индивидуальная свобода освящается29 даром свободы, живущей в Церкви («стойте во свободе, — завещал Галатам апостол Павел, — которую даровал нам Христос»), свет «естественной» совести, «естественного» морального сознания, приобщаясь к «свету истинному» в Церкви, освобождается от «естественного» затемнения, создаваемого действием живущей в человеке греховности. С этой точки зрения моменты «трансцендентальности» есть не что иное, как выражение соборности, присущей человеческому духу. Если неправда метафизического абсолютирования отдельной личности (метафизического
72
плюрализма) бесспорна именно в силу наличности в каждом отдельном сознании трансцендентальных функций, то столь же велика неправда и чистого трансцендентализма, который утверждает наличность трансцендентальных функций, не имеющих своего субъекта. Источник метафизической устойчивости личного начала (что утверждается в благовестии о воскресении каждой личности) лежит не в самой личности, а в ее включенности в Церковь: личность есть не «часть», а неотделимая от целого, от Церкви форма жизни. Потенциально всякая отдельная душа включена в Церковь (почему Церковь и есть истинный субъект и носитель «ценностей», как трансцендентальных функций), но она должна питаться от Церкви, реально приобщаться к божественному дыханию, в ней действующему.
Начало личности в человеке хотя и есть источник ее своеобразия, ее «единственности в своей единственности» (das Einzelne in seiner Einzelheit), по выражению Шопенгауэра, но все же начало личности в человеке имеет ущербленный характер, ибо это лишь образ Божий как личность. Само это понятие «образ Божий» означает, что в ней отпечатлелся образ Абсолютной Личности — и без связи с Абсолютом (через Церковь и только через нее — ибо вне Церкви личность не может вступить в непосредственное отношение к Богу), т. е. теряя «образ» Абсолюта, она становится ничто. Самосознание, видение самой себя, существование для самой себя есть непроизводное начало в личности, и его нельзя понять иначе, как только дар свыше.
Сопряженность отдельного человека с человечеством образует таким образом полюс социальности в личности, совершенно неотделимый от внутренней жизни личности. Ныне социальная психология пришла к построениям, весьма близким к развитому выше учению, поскольку она признает всецелую коррелятивность понятий «я» и «мы». Нет «я» без «мы», как и обратно, — и эта их сопряженность имеет фундаментальное значение для социальной философии.
Но о каких «мы», собственно, должна идти здесь речь? С точки зрения социальной психологии, обследующей эмпирическую взаимозависимость людей, достаточно видеть это «мы» прежде всего в семье, а затем в национальном (или этнографическом) целом, от которого отдельная душа вбирает в себя способности, речь и т. д. Но не трудно видеть, что эту зависимость отдельного «я» от «мы» надо продолжить дальше. Развитие речи в отдельной душе связывает ее, конечно, с живым в данный момент составом
73
народности, но сам по себе язык (как явление «объективного духа», по выражению Гегеля) не есть функция данного поколения, ныне живущего, но связан с бесчисленными поколениями в прошлом. А все те общечеловеческие функции духа, которые учитываются трансцендентализмом, имеют ведь не национальный, не местный характер, — они общи у всех людей. Здесь мы подходим к поворотному пункту не в одной социальной философии, но и в антропологии — к основному различию двух метафизических концепций «подобосущия» (омиусианства) и «единосущия» (омоусианства). Термины эти, с которыми связана тринитарная проблема в богословии, с известными оговорками имеют силу и в нашей проблематике.
Обычная предпосылка и социальной, и индивидуальной психологии есть «подобосущие» — «одинаковость» психической и духовной жизни людей. С точки зрения чисто эмпирического изучения отдельных людей или целых обществ, до известной поры, конечно, можно было бы ограничиваться концепцией «подобосущия». Но поскольку возникает речь о тождестве духовных функций (в логических, моральных и иных суждениях), поскольку признаются «общеобязательные» формы духовных процессов, концепций подобосущия явно оказывается бессильной понять и объяснить это тождество и единство. Христианская антропология должна выдвинуть на место идеи «подобосущия» идею «единосущия «(по аналогии с единосущием во Св. Троице), т. е. идею метафизического единства человечества (взятого в целом — вне границ времени и пространства). Это единство вовсе не устраняет начала личности (как и во Св. Троице при единстве «сущности» утверждается троичность Ипостасей), оно даже постулирует начало личности, как ипостасного выражения единой «сущности» человечества. Одно лишь можно сказать: само начало личности получает в идее единосущия то ограничение, которое и делает невозможным метафизический плюрализм. То различение в человеке «личности» и «природы», о котором уже шла речь, получает здесь новое раскрытие свое: личность есть носитель своеобразия, природа — носитель единой у всех сущности. 30 И как момент личности нельзя мыслить в отрыве от «природы» в человеке, так и все функции индивидуального духа (разум, моральное сознание и т. д.) не могут быть поняты в отрыве от единства человечества, не могут быть поняты в одной их «трансцендентальности»,31 т. е. «обязательности» для всякого нормального человека. Соборность, установленная выше
74
в отношении к высшим проявлениям духа, связана поэтому с единосущием человечества — одно без другого немыслимо.
Но здесь может быть законно поставлен вопрос, насколько концепция «единосущия» человечества внутренно связана с христианской доктриной. Мы не можем здесь входить в подробности, которые могут быть развиты лишь в догматической системе, — мы ограничимся здесь лишь несколькими замечаниями.
Уже в антропологии ап. Павла мы находим немало мест, смысл которых правильно может быть истолкован лишь в свете идей единосущия человечества. В известном тексте из послания к Римлянам (5, 12) русский перевод (повторяющий раннее истолкование латинское у св. Амвросия) читается так: «в нем (т. е. в Адаме) мы все согрешили», — что уже блаж. Августин категорически толковал в смысле метафизического единства нашего с Адамом. 32 Но бесспорные филологические трудности такого перевода указанного текста давно уже склоняли переводить греческое ἐφ ὦ в смысле «вследствие чего мы все согрешили». Если и признать эту филологию (хотя и она не блещет бесспорностью), то смысл «метафизического единства» нашего с Адамом остается все же незыблемым, хотя он и не выражен в этом случае с достаточной ясностью. Все это место (Рим. 5, 12-19) говорит именно о том единстве нашем с Адамом, которое не есть «подобосущие», а именно «единосущие». 33 У св. отцов эта идея встречается, пожалуй, случайно, но всегда в такой форме, как если бы она была бесспорной для церковного сознания. Св. Афанасий Великий — и здесь сама собой напрашивается мысль, что мы имеем здесь отзвуки тринитарных размышлений и споров — читаем: «мы единосущны между собой, будучи подобны друг другу и имея друг с другом «тождество». 34 У св. Григория Нисского рядом с утверждением многоипостасности людей, «взятых поодиночке», говорится о том, что «человек в них один». 35 Отсюда надо толковать и слова св. Григория о том, что «в нас живет Адам». 36 «Все естество, — пишет он,37 — простирающееся от первых людей до последних, есть некий единый образ Сущего». Вообще эта мысль о некой «сращенности» людей в живое единство пронизывает собой все понимание у св. отцов человека и Церкви, как раскрытия божественного плана о единстве человечества в благодатной жизни Церкви. Ведь человек, как причастный естества Адама, участник и его падения,38 и Церковь есть путь спасения через «усвоение» и «приобщение» к искупительному
75
подвигу Спасителя: антропология здесь неотделима от сотериологии и экклезиологии и обратно.
Все это не означает сведения индивидуального существования к чистой феноменальности, — достаточно напомнить, что идея воскресения означает ведь метафизическую устойчивость личности. Единство же человечества нельзя понимать так, что некая единая природа «раздробляется», входя в отдельного человека, — нельзя, с другой стороны, понимать это и так, что люди просто «подобны» друг другу, построены «одинаково» — ибо тогда нельзя понять их единство. Только из идеи единосущия можно понять раздельность (многоипостасность) людей, метафизическую устойчивость индивидуальности, а в то же время подлинное их единство.
У одного из православных богословов последнего времени (митр. Антония Храповицкого)39 встречаем развитие мысли о единстве природы человеческой (при реальной многочисленности бытия человеческого) в применении именно к идее греха и спасения: сила первородного греха определяется тем именно, что он поразил единую природу, — из чего следует, что искупление, совершенное Спасителем, касается именно природы человека. Каждый отдельный человек (т. е. каждая «ипостась») должен усвоить для своей природы спасительную силу искупления. 40 Если серьезно вдуматься в различение (не разделение) «личности» и «природы», о котором было достаточно сказано выше, если видеть образ Божий именно в моменте личности, а поврежденность существа человеческого относить к «природе» (в которой мы «единосущны»), то из этого и вытекает то, уже в другом контексте развитое, понимание, что образ Божий не поврежден в человеке, а повреждена его природа. Из этих положений антропологии вытекают, конечно, весьма важные следствия в вопросе о путях и средствах спасения, но в это мы сейчас входить не будем.
«Всечеловечность каждого человека»,41 наше единосущие в нашей природе мы очертили со стороны духовной и душевной. Но «единосущие» в человечестве касается и его отношения к космосу, и здесь уже с третьей стороны обрисовывается начало личности в человеке. В отношении к Богу личность есть образ Божий, в отношении к социальному целому (Mitmenschen, по выражению Авенариуса) личность оказывается «соборной», т. е. имеет в себе основоположные для личности «трансцендентальные» функции, которые связывают ее с Церковью. Но личность, через данное ей
76
тело, связана и с космосом, дыхание которого через все “поры» входит в человека до такой степени, что человека еще в античную пору считали «микрокосмом». Войдем теперь в эту тему.
О ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
Хотя человек есть высшая форма тварного бытия, но в отношении космоса, взятого в целом, — с его бесконечностью в пространстве, с многообразием форм жизни, с неистощимостью его творческой мощи, — он ничтожен и слаб. Даже овладевая силами природы и подчиняя их себе, человек никогда не мог и никогда не сможет освободиться совершенно от своей подчиненности космосу. Ощутительнее всего человек переживает эту зависимость от космоса и законов его — в своем теле, через которое мы и подчиняемся слепым процессам природы. Есть что-то унижающее человека в том, что он так подчинен (через тело) страданиям, болезням, смерти, — но тело же является (как. это постоянно подчеркивалось св. отцами) и онтологическим преимуществом человека перед ангелами — тело есть средство прямого действования в мире, необходимое условие его творческого вхождения в космос. Но как понимать функцию тела в человеке?
Вне христианства проблема тела, материальной сферы, ставилась в религиозном сознании почти всегда (за исключением одного Египта) в тонах отвержения тела во имя духа. Антропологический дуализм с Востока очень рано проник на Запад — и даже в античном мире, где любование красотой тела срослось с религиозными переживаниями, находим мы чрезвычайное развитие этого дуализма в учении о теле как “тюрьме» для духа. Вообще, тело всегда признается в религиях человечества или чистым «явлением» — призрачным, феноменальным (индуизм), или началом порчи и зла (в парсизме, в мистериальном богословии в язычестве — вплоть до орфизма). Христианство собственно впервые в истории утвердило в религиозном сознании иное отношение к телу. Вся метафизика Боговоплощения, основная для христианства, покоится на признании прежде всего метафизической природы телесности, — что с особенной силой проявляется в учении о воскресении в теле. Тело принадлежит метафизически к существу человека, и смерть, разрушая тело, не может всецело его погубить: некий трудно определимый «остаток»42 как раз и создает возможность воскресения —
77
(без этого воскресение превратилось бы в новое творение тела). Конечно, «воскресение» не есть простое «восстановление телесности»:43 «сеется тело душевное, по слову ап. Павла, восстает тело духовное». Что это «духовное тело» не может быть понимаемо чисто спиритуалистически, лучше всего видно из того, что Господь по своем воскресении вкушал пищу, приглашал учеников «осяжите руки и ноги мои». Духовное тело, освобождаясь от ограниченности, присущей телу душевному, может быть исцеленным от заразы греховности, так что воскресшие в теле могут сподобиться Царства Божия, но человек может оказаться и сугубо обремененным своими грехами и должен будет войти «в воскрешение суда». Ничто так не выявляет православного учения о зле, как имеющем духовный характер, как именно это учение о «воскрешении суда», т. е. о реальности и по воскресении, в теле духовном, начала зла, подлежащего осуждению.
Метафизика телесности сопровождается в христианстве высокой оценкой ее. Ап. Павел говорил о теле, что оно «храм живущего в нас Духа Святого», и даже: «тела ваши суть члены Христовы» (1 Кор. 6,19,15). Правда, у ап. Павла есть и другие места — «плоть» (не тело) 44 противопоставляется у него духу: — «в членах, (т. е. в теле) нахожу закон, противоборствующий закону ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7, 22). Но дело идет здесь о человеке, уже поврежденном в силу «первородного греха» — здесь утверждается лишь то, что ныне начало греха «живет» в теле, т. е. что тело особенно пострадало от греха. Известная неясность, впрочем, остается все же в учении ап. Павла, как это тоже отразилось, например, в построениях католической догматики по вопросу о теле. Авторитетнейший догматик католической Церкви Schoeben пишет: «Все несовершенства и недостатки, которые присущи животной стороне человека, присущи конституции самой природы его». 45 Эта «животная сторона» й оказывается по учению католиков причиной того, что образ Божий в человеке не мог быть источником всецелой justitia originalis — в силу чего в католичестве и развилось известное учение о gratia superaddita (добавочной благодати), которая была отнята после грехопадения. Для Schoeben самое соединение духовного начала в человеке «с телом, легко поддающимся порче, несет с собой несовершенство и слабость, создает infirmitas mentis, чисто животная жизнь затрудняет и обременяет духовное начало в человеке». 46
78
Для православного сознания все это учение неприемлемо. Правда, тело «томит» человека47 и даже мучит его часто, — и в этом смысле необходима аскетика, которая расширяет власть духа над телом. Однако, смысл аскетики (в православном сознании) связан вовсе не с «гнушением» телом, не с боязнью его власти, а с признанием лишь, что от греха тело пострадало более, чем дух в человеке, что необходимо дисциплинировать тело. В этом отношении интересно отношение разных христианских исповеданий к «страстям», тем «бурным» психотелесным движениям, которые с таким трудом поддаются воздействию разума. Как известно, даже в психологии стоиков (довольно рано) мы находим смягчение первоначального тезиса о том, что «страсти» есть целиком «alogon» (неразумное начало) в человеке. Уяснение психического и даже духовного ядра в этих движениях человеческого существа мы находим особенно у восточных аскетов (напр. см. творения св. Иоанна Лествичника, особенно сурового аскета). Здесь выясняется, что страсти, при всей «ядовитости» их в жизни человека, имеют в своей основе светлое начало, и то преображение человека, которое достигается через аскетическую самодисциплину, «очищает» страсти не в смысле их уничтожения, а в смысле раскрытия того праведного ядра, которое есть в их глубине. Обобщая это положение, мы возвращаемся, в сущности, к учению ап. Павла о теле. «Тело ... для Господа», говорит апостол (1 Кор. 6, 13); и дальше тут же читаем: «тела ваши суть члены Христовы ... тела ваши суть храм живущего в вас Св. Духа ... Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божие». Это возвышенное учение о теле как бы соответствует взглядам некоторых церковных писателей, что образ Божий относится не к одной духовной, но и телесной природе человека. Хотя этот взгляд не имел успеха у христианских мыслителей, однако следует отметить, что самое творение материального мира Богом пробуждает искать в Боге основу для этого (или склоняет к чистому спиритуализму, — так, у св. Григория Нисского было учение о том, что материальность в мире вообще есть следствие греха).
Человек принадлежит Богу, как Его создание, принадлежит людям по своей «всечеловечности», принадлежит космосу, в который он включен, — но принадлежит ли он самому себе? Это не праздный, не риторический вопрос, — с ним связан таинственный дар свободы — доходящий до того, что человек может вступить в борьбу с своим Создателем. С тем же исканием путей, на которых
79
человек свободен от всего и от всех, с этим самоутверждением связана тема зла в человеке. Здесь мы подходим к вопросу очень сложному, но и в высшей степени существенному. Поистине прав один писатель, утверждавший, что система антропологии, которая не дает надлежащего ответа на вопрос о зле в человеке, явно не справляется с «загадкой» человека.
ЗЛО В ЧЕЛОВЕКЕ
Тема о зле принадлежит к числу самых трудных и темных проблем метафизики, — можно даже сказать, что отношение к этой теме является как бы испытанием глубины и значительности той или иной системы. Христианство тоже может быть рассматриваемо, как определенный ответ на эту тему, ибо христианство есть благовестие о спасении мира и людей от зла — во всяком случае — таков основной смысл евангельского благовестил. Но, конечно, отсюда еще далеко до определенной доктрины, и действительно учение о первородном грехе (общее для всех христианских исповеданий) получает форму доктрины уже поздно — впервые с полной определенностью у блаж. Августина. Во всяком случае учение о первородном грехе, как основе зла в человеке, осталось позже не поколебленным ни в одном христианском исповедании.
Что входит в проблему зла в человеке! Главный здесь вопрос — откуда в человеке зло именно в той форме «вольного» зла, того влечения ко злу, которое характерно для человека? Зло (вражда, борьба, страдания, смерть) существует в мире и до человека, но только в человеке мы находим волю ко злу, сознательное «одобрение» зла и даже своеобразное «творческое вдохновение» злом. Здесь существенно еще то, что мотивы зла в человеке лишь с поверхностной точки зрения восходят к «страстям», к власти чувственных движений. По существу же зло у человека имеет духовный смысл — чем дальше развивается история и богаче становится культура, тем более утонченные формы принимает зло, обнажая духовную свою природу, свой метафизический смысл. Точнее было бы говорить, что зло в человеке — не метафизично, а метэмпирично (мы различаем между эмпирией и метафизикой сферу метэмпирии, т. е. тех устойчивых движений, корни которых держатся в душе человека, но не восходят к так наз. «сущности», т. е. к метафизической стороне человека); хотя оно и уходит своими корнями в те
80
глубины человеческого духа, где решает человек, в чем его «сокровище» (по слову Спасителя), но оно теснейше связано и со всей эмпирической сферой. Именно потому проблема зла так и связана проблемой свободы в человеке. Последний «корень» зла заключается именно в свободе человека, в том, что ему дана сила быть «сыном Божиим» или враждовать с Богом. В свободе человек «соизмеряется» с Богом, и эта таинственная беспредельность свободы, как бы делающая человека «равным» Богу (во вражде к Нему) В? побудила Беме искать источник зла в Ungrund, т. е. «уравнивать» Человека в акте свободы самому Богу. Потому-то углубление в проблему зла в человеке приводило и приводит к разногласиям относительно понимания Бога как Абсолюта.
Дуалистическое решение вопроса о корнях зла в мире (в духе персидского или связанного с парсизмом манихейского учения) не может быть принято ни по философским, ни по богословским основаниям — супранатуральный монизм или единство в надмирной сфере с обеих точек зрения есть единственно приемлемая концепция. Но дуализмом страдают и те построения (как у Шеллинга, например), которые, под влиянием Беме, усматривают «темное» начало в сущности Бога. Христианское же учение неизменно утверждает, что зло имеет свои корни в тварном бытии — однако это учение вовсе не ослабляет всей трагичности темы о зле в мире. Что касается зла в человеке, то здесь важно утвердить «метэмпирическую» природу зла, и если грехопадение не создало в мире никакого онтологического расщепления, не привело к распаду космоса, то это значит, что и в мире, и в человеке не исчез проводник Божьего света, проводник добра. Только рядом с этим центром в человеке (как проводником света и добра), в нем имеется еще иной центр — проводник «темных лучей», исходящих от духов зла. Наличность двух центров в человеке не делает, однако, их онтологически равными уже по одному тому, что должно (согласно указанию Спасителя о том, что сердце наше там, где наше сокровище, и что значит избрание пути добра или пути зла нашим сокровищем совершается глубже сердца) признать такую глубину в человеческом духе, где нет еще никакой раздвоенности. Эта глубина и есть субъект свободы, и уже над этой глубиной возвышается духовная сфера, где идет в нас борьба добра и зла.
Что можно сказать о «субъекте свободы»? В его тайну трудно проникнуть, и потому не раз создавались гипотетические конструкции, основанные на факте, что «субъект свободы» глубже всей
81
духовной сферы («сердца», по библейской терминологии). В русской религиозной философии мы находим, например, у о. С. Булгакова (отчасти у Бердяева) учение о такой «первичности» актов свободы, что они оказываются еще «на грани бытия», т. е. до вступления в мир, — в них как бы дается «согласие» на то, чтобы «быть». Но это, конечно, явно мнимое понятие, ибо как уже возможен акт свободы, если нет еще субъекта свободы. Другие построения находим мы, например, у Вышеславцева,48 который видит в «самости» (Selbst) последнюю сущность индивидуальности, истинный субъект свободы. Все эти построения гипотетичны, а реальность, которую они хотят выразить, означает только такую глубину в актах свободы, которая ниже, глубже самой духовной сферы (или «сердца»),49 Все же, если не играть словами, то надо признать реальный, первичный субъект свободы, который действует — глубже сознания, назовем его «глубинным я» (в отличие от «я» эмпирического). Это глубинное «я» имеет дар свободы, но не владеет им, и это расстройство в духовном мире человека означает, что дар свободы вовсе и не принадлежит ему в его обособленности. В этом смысле верны анализы Канта, который относил акты свободы к трансцендентальной сфере: мы действительно обладаем ныне (после грехопадения) даром свободы лишь в Церкви и со Церковью; но это относится к личности уже как члену Церкви, а не к эмпирическому «я»? Если эмпирическое «я» нуждается в благодатной помощи Церкви, то тем более это нужно сказать о глубинном «я», — и весь смысл аскетики для православного сознания заключается не в организации нашего поведения (через эмпирическое я), а в благодатном преображении нашего глубинного я. Бессилие, немощь человека в отношении к своей собственной глубине ни в чем не сказывается с такой силой, как в чрезвычайной ограниченности нашей воли в этом влиянии на внутренний наш мир. «Сердцу нельзя приказать’ — гласит общечеловеческая мудрость: воля может регулировать поведение, но не может переработать нашего сердца. Отсюда и знаменитый закон «loi de l’effort converti» (закон иррационального противления. См. Рим. 7,15),50 выражающий, по верной формулировке Вышеславцева, «бессилие закона» в деле преображения человеческой глубины.
Все же человек обладает свободой, а потому так неотразимо в нас чувство ответственности даже за те дела, которые совершены нами «невольно». Но свобода ограничена в нас со всех сторон, а еще важнее то, что она ослаблена первородным грехом: идея
82
первородного греха и есть шаг к пониманию того, откуда зло в человеке.
Самая идея первородного греха входит в доктрину христианства в разных исповеданиях, но истолковывается она всюду разно. Не входя здесь в обсуждение этих различий в истолковании идеи первородного греха, важно признать наличность в человеке «центра» греховности, — это и есть источник наших падений, а главное — проводник «темных лучей», исходящих от духов зла. Очень существенна здесь не метафизическая (как, собственно, мыслят обычно протестанты),51 а метэмпирическая основа влечения ко злу в человеке. Для учения о метафизической «порче» человека нет никаких оснований в Священном Писании — кроме учения, что «грех живет в человеке» (Рим. 7,14), т. е. имеет некую глубокую основу в человеке, хотя и не заполняет всей сущности человека. Но нельзя, с другой стороны, основу греховности признавать восходящей лишь ИЯ эмпирической сфере; если не затронута грехом «сущность» человека, то самый грех (т. е. основа греховности) все же живет в человеке, имеет действенный свой центр, онтологически, конечно, «вторичный», но, что еще важнее, — паразитирующий на светлой сущности человека. Ключ к пониманию зла в человеке, его динамики заключается как раз в том, что энергия злых движений питается за счет энергий добрых и светлых движений (источник которых образ Божий), и эти злые движения «извращают», т. е. в другую сторону направляют, светлую энергию. Эта наличность двух динамических центров в человеке объясняет нам факт внутренней борьбы в человеке, постоянной потребности обманывать самого себя, представлять себе свои дурные движения в смысле будто бы добрых или логичных, имеющих свой смысл.
Грехом поражена природа человека, ставшая больной благодаря этому, но грех не лишил человека его образа Божия, начала личности, потому-то и возможно, подобно разбойнику на кресте, «о едином часе» сбросить силу греха и войти в правду богосыновства. Единосущие человечества есть ныне единосущие в болезни, но потому-то в Церкви мы обновляемся в «новую тварь», становимся способны святости, не по «магии» добрых дел или добрых мыслей (как то находим, например, в учении об очищении человека у антропософов), а через новую жизнь в Церкви. Крест, лежащий на нас вследствие грехопадения в раю, — тяжел, и оттого ложится на нашу душу печать «угрюмости», некоего внешнего долга, который гнетет нас. Но душе нашей открыты и другие переживания —
83
радость познания, радость любования красотой, радость творчества, — и отсюда рождается столь ныне глубокая и столь часто встречающаяся потребность уйти от несения своего креста, т. е. уйти от моральной темы, от работы над самим собой. Здесь лежит едва ли не наиболее глубокий источник современного богоборчества, здесь же лежит объяснение тех «вдохновений», которые рождаются от злых движений в душе. Они помогают нам отойти от работы над собой, подменяя труд инородными радостями... Но исцеление от зла все же зависит от «воли» человека, точнее от решения «глубинного я» (избирающего, в чем его «сокровище»); приобщаясь к благодатной силе, пребывающей в Церкви, человек может поистине «о едином часе» сбросить злые чары греховности, как это с необыкновенной выразительностью читаем мы в житии преподобной Марии Египетской.
Зло, как болезнь, движение зла, как паразит на неисчезающих в душе проявлениях Божьей правды (через приемлющий их образ Божий) помогают отделить человека от зла, им совершаемого. Даже в злых людях, даже в злых духах никогда не закрывается наглухо связь с Богом,52 и оттого «сердце милующее», по чудному выражению св. Исаака Сирианина, способно возносить молитвы и о злых духах. Тем более это возможно в отношении и к самым закоренелым злодеям. Но, увы, грешники отступают часто перед трудностью покаяния — и вместо покаяния отдаются новым грехам, закрывая от себя неправду и отталкивая от себя мысль о покаянии. Но в проблеме зла есть еще одна сторона, которая с новой точки зрения освещает всю тему зла. Я имею в виду понятие креста — что является ключом к раскрытию того, почему у каждого человека свой путь восстановления общения с Богом, а вместе с тем уясняет нам ту, часто загадочную, диалектику в жизненных путях человека, о которой принято говорить как о «судьбе», и о которой так замечательно сказано в книге Иисуса сына Сирахова (4,17-21): «кто вверится премудрости ... она пойдет с ним сначала путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его ... Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует и откроет ему свои тайны». Войдем в эту последнюю тему антропологии.
84
КРЕСТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аристотелевское понятие «энтелехии», столь важное для понимания жизни организмов, получает при изучении человека новый смысл, новое значение — оно должно быть относимо не только к телесному созреванию человека, но и к духовно-душевному развитию его. Однако понятие «энтелехии» непременно включает момент телеологичности, т. е. наличности «конечной цели» в развитии того или иного «организма». В каком же смысле можно говорить о том, что в созревании человека, в его духовно-душевной жизни есть какая-либо «конечная цель»? В современной религиозно-философской литературе (среди русских особенно возлюбил эту мысль Бердяев) не редко встретить идею, что в каждого человека вложена Богом особая задача; и это, конечно, верно. Можно сказать даже решительнее: в жизни человека, в его развитии всегда оказывает свое действие некоторый особый фактор, как бы некий идеальный образ (т. е. подлинное, «энтелехия»), который направляет в «свою» сторону жизнь человека.
В XIX в. имела большой успех идея «гармонического» развития всех сил и способностей в человеке — по крайней мере, в педагогике эта идея долго имела руководящее значение. Но человек построен вовсе не «гармонически», а «иерархически»; «равномерное» развитие всех сил человека не наблюдается даже в физическом созревании человека. Путь человека не в том, чтобы все силы, присущие ему, развились до возможной высоты, а в том, чтобы «главное» в человеке не было подавляемо второстепенными и малозначительными движениями. Иерархическая структура человека и ставит вопрос о том, что в той или иной индивидуальности является наиболее творческим и значительным. Конечно, тут есть всегда предпосылка, что у каждого человека есть своя задача в жизни, с которой он приходит в мир, но христианам иначе и нельзя мыслить путь человека. Отбрасывая идею безусловного «предопределения», связанную с целым рядом труднейших, если не неразрешимых, богословских вопросов, нельзя ни в коем случае отвергать мысль, что Богу дороги и нужны все люди, которых Он призвал к бытию, — а значит у каждого человека есть свой путь к Богу, есть свой дар от Бога, с которым он должен предстать перед Богом. Это и есть по существу, как мы сейчас увидим, понятие «креста» — которое имеет бесспорно руководящее значе-
85
ние для религиозного понимания людей, их судьбы, их злых и добрых, темных и светлых переживаний.
Понятие креста обычно отожествляется с понятием страданий и трудностей, которыми заполнена жизнь человека. Тут, конечно, много верного, но все тяжкое и трудное образует не «сущность» креста, а лишь его проявления, почти всегда неизбежные в движении человека «извилистыми путями» к премудрости Божией. Даже более: в сплетении внешних и внутренних зигзагов в жизни человека часто бывает нечто иррациональное, непостижимое, а иные судьбы людей можно признать прямо загадочными. Именно эту сторону в жизни человека и выражало античное понятие «рока», победить или ослабить который не дано людям (история Эдипа). На этой основе развилось и понятие amor fati (любовь ко своей судьбе), как выражение той непобедимой грусти, которая лежала в основе этой покорности своей непонятной судьбе. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt, — учили стоики: «кто хочет, того судьба ведет, кто не хочет — она тащит».
Но понятие рока не может быть удержано в христианстве, которое учит нас видеть в Боге Отца и призывает вверяться Промыслу Божию. Это освобождает нас от чувства безысходности, ибо в жизни каждого человека есть высший смысл, который может затемняться нашими грехами, но который не может быть ими отменен. В тайну индивидуальной жизни нас, христиан, вводит не понятие «рока», «судьбы», а понятие «креста» — притом креста индивидуального. Слова Спасителя: «если кто хочет идти за мной, отвертись себя и возьми крест свой и следуй за мной» (Матф. 16, 29) именно и означают, что у каждого человека есть свой крест. A priori должно быть ясно, что крест у каждого человека глубочайше связан с его индивидуальностью, со всей глубиной его, из которой вырастает неповторимое своеобразие каждого человека, но из этого же ясно, что только «взяв» свой крест, т. е. добровольно, от глубины души приняв его, мы найдем подлинную нашу индивидуальность, ибо будем со Христом. Очевидно, в нашем кресте раскрывается, находит себя наша индивидуальность.
Но если так, то понятие «креста» не может быть отожествляемо со страданиями, с тяжестями, нависающими над нами, хотя они и входят в него. Надо толковать «крест», как задачу, возложенную на нас Богом, как закон, энтелехийно определяющий созревание человека. Не вытекают ли наши страдания в жизни из того, что мы постоянно стремимся «обойти» этот закон, эту волю Божию, не
86
хотим идти путем, предназначенным для нас свыше? Конечно, в самом принципе личности, в глубоких движениях свободы заложена потребность жить «по своей воле», «от себя», и — отсюда трагический и неизбежный конфликт между сознанием того, что наш путь свыше определен для нас, и потребностью самому создавать себе план жизни и пути ее. Дар свободы тоже ведь дан нам свыше, он императивен, его нельзя подавить или уничтожить, но не нами выдумана и наша индивидуальная природа с ее интересами, исканиями... Найти равновесие между этими двумя одинаково глубокими началами в нашей душе редко кому удается без тяжкой внутренней борьбы — она смягчается лишь на путях религиозной жизни, т. е. на путях «следования Христу»: тогда мы на себе испытываем правду слов Спасителя: «возьмите иго Мое на себя ... ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матф. 11, 29-30). Это не amor fati, не рабская покорность непонятным велениям «рока», а вольное участие в «иге Христовом», в искупительном подвиге Его.
В конфликте свободы и свыше данного закона жизни выступает снова расхождение в человеке личности и его природы. В личность по самому ее существу вложена потребность творчества своей жизни — творчества свободного, от себя. Природа же в человеке предстоит перед ним, как нечто ему данное, «преднаходимое». Однако, в нашей природе, кроме всего того, что у нас есть общего с другими, есть и нечто вполне индивидуальное. Мы рождаемся от определенных родителей, в определенной стране и народе, в определенную эпоху в жизни того народа, к которому мы принадлежим. Наследственность физическая, культурная, социальная, все, что обволакивает дитя с ранних лет и определяет содержание и формы опыта, — все это мы «преднаходим» — до того, когда личность осознает себя «кормчим» своего «корабля». Единосущие, связующее нас с другими людьми, остается реальным, но оно покрывается плотной оболочкой «характера», слагающегося в то время, когда мы не владеем еще собой. Однако, и в эту раннюю пору личность вовсе не остается пассивной, — она «выбирает» между разными путями, открывающимися перед ней, хотя и не отдает себе полного отчета в сознании, почему выбирает одно, а не другое.
Весь эмпирический характер наш ко времени, когда мы можем и хотим управлять собой, предстает перед нами уже как «крест». По существу же мы сами очень ответственны за то, каков наш
87
эмпирический характер, наши привычки, состояние нервной системы, — но запоздалое сознание, что мы могли бы в детстве поступать иначе и иметь другие привычки, не облегчает, а лишь усложняет положение. Так часто люди становятся рабами своего «вчерашнего дня», своего «характера» — и в сознании своего бессилия, своих болезней как бы осознают свой «крест». Но, не отвергая всей эмпирической «массивности» того, что мы находим в себе в эпоху своего пробуждения к духовной жизни, надо сказать, что здесь есть много мнимого, т. е. мнимых трудностей «характера», от которых человек мог бы, если бы очень захотел, освободиться. Потому-то мы в зрелые годы с такой болью думаем о непоправимых ошибках в нашем детстве и юности — достаточно прочитать Confessions блаж. Августина, чтобы почувствовать, что, несмотря на все его явные преувеличения, он все же верно описывает то, что мы так часто в юные годы избираем именно дурные пути, дурное «сокровище», к которому и прилепляемся нашим сердцем.
Да, эмпирически если не все, то многое могло бы быть иначе, и наш «крест» не был бы так тяжел и обременен, если бы мы не делали столько неверных вещей в свое время. И все же, когда мы озираемся — уже в пожилые годы — на всю жизнь, мы не можем не видеть того, что, независимо от наших ошибок, от внешних, не от нас зависящих условий, была в нашей жизни, в нашем созревании какая-то «логика», непостижимая, часто иррациональная, но все же реальная и неумолимая. Иначе говоря, если в трудностях нашей жизни так часто и столь во многом мы сами бываем виноваты, если крест наш (в смысле этих внешних трудностей) мог бы быть иным, более «легким», — то в нашем созревании, в «логике» его есть своя закономерность, уже не связанная с нашими ошибками и грехами. Это и есть та «премудрость», о которой читаем в книге Иисуса сына Сирахова — ее пути извилисты, ибо наша душа была и есть «извилиста», но сквозь эти извилистости душа энтелехийно ищет того, что ей от Бога положено иметь. Нашей душе, именно по этой внутренней логике ее созревания, надлежит проходить разные испытания и трудности, — и они не были бы тяжелы для нас при одном условии, а именно: если бы мы «приняли» наш крест, добровольно, в доверии к Богу, подчинились тайной логике нашего созревания. В самом складе личности, даже в ее свыше данных дарах, часто таятся если не конфликты, то напряженность. Это уже не «извилистость» в нашей «природе», в эмпирических ее законах — это внутренняя неустроенность
88
в самой личности. Наследственность, эмпирически слагающийся характер осложняют, изменяют внешне эту диалектику созревания, но ее неустранимость все равно так или иначе проявится. Человек вообще — ни в начале своего жизненного пути, ни в процессе созревания — не является гармоничным; помимо иерархической структуры души приходится признать, что само это иерархическое соотношение разных сил и даров таит в себе неизбежность или аритмии, или запутанности. Конечно, мы можем мыслить для самой «неустроенной» духовной системы в человеке возможность покойного, безбурного ее восхождения к окончательному ее «устроению», но фактически мы постоянно констатируем исходную затрудненность души и почти неизбежность внутренних кризисов, провалов, шатаний. Какая-нибудь случайная эмпирическая черта (как, например, в биографии Байрона — его физический недостаток) вскрывает очень рано в строе личности такие движения, которые в раннюю пору и не могут найти спокойного, безболезненного развития.
Тайна человека заключена, таким образом, не в одной лишь структуре его (образ Божий, связь с человеческой средой, зависимость через тела от космоса), не только в динамике его жизни (наличность центра греховности в силу первородного греха, аритмия в движениях, свобода их), но и в задаче, которую данный человек призван решить через свою жизнь, чтобы предстать пред Богом, — иначе говоря, тайна человека скрыта в его кресте. В диалектике исканий часто мятущейся, часто путающей самое себя души раскрывается наш «крест», который нужно принять, нужно взять, чтобы мы смогли пойти со Христом, взять Его «иго», т. е. принять участие в спасении и преображении мира и людей.
ПРИМЕЧАНИЯ
24. В этом отношении особенно замечательно, что в чине православной утрени в одном из песнопений говорится о «языческой неплодящей церкви», т. е. утверждается некий остаток церковности (однако «неплодящей») даже в язычестве.
25. О всех этих мыслителях см. мою книгу «Истор. русск. философии» (т. 1).
26. В позднейших построениях, зависящих от Платона, «идеи» становятся «мыслями Божьими», т. е. обретают свой субъект уже у Филона. Это преобразование платонизма, по всей вероятности, произошло во втором веке до P. X.
89
27. Здесь мы касаемся пункта крайнего нашего расхождения с католической Церковью, в которой, в соответствии с живущим в ней юридизмом, истина на соборах обеспечивается одной их каноничностью.
28. Отсюда видно, что должно ограничить силу тезиса Бруннера, согласно которому чувство ответственности (как основное проявление совести) должно быть мыслимо, как чистая функция индивидуального духа, «чистой» совесть становится лишь в Церкви и через Церковь (как Богочеловеческий организм).
29. Освящающее действие Св. Духа не может быть отожествлено или даже сближено с той естественной «сублимацией», учение о которой (в отношении к теме свободы) превосходно развито Вышеславцевым в книге «Этика преображенного Эроса».
30. Мы увидим дальше, что это положение должно быть, конечно, ограничено в учении о чисто индивидуальных чертах «природы» человека.
31. Для Brunner, op. cit., S. 175, в чувстве ответственности следует видеть «das eigentlich menschlich Urphänomen», но это один лишь аспект личности и даже вовсе не первичный — не из него нужно выводить онтологию личности, а обратно.
32. «In illo omnes fuimus» было уже у св. Амвросия; у бл. Августина «De civitate Dei» omnes enim fuimus in illo uno, quando omnes fuimus ille unus.
33. Справедливо комментирует это учение св. Павла, как утверждение «всеобщности падения», F. Prat: «La théologie de saint Paul», 1942, V. I, p. 255, что и вводит сюда идею «единосущия».
34. Св. Афанасий. Послание II к Серапиону.
35. Св. Григорий Нисский. К Авлалию.
36. Там же. О молитве.
37. Там же. Об устроении человека. Гл. 16.
38. Св. Григорий Нисский. См. также его слова (Об устроении человека, гл. 16): «Божественным предведением и могуществом в первом устроении (человека) объемлется все человечество ... как бы в одном теле сообъята Богом полнота человечества». «Понятие ипостаси допускает разделение, но естество одно». (К Авлалию).
39. О митр. Антонии см. Флоровский. «Пути русского богословия», и в моей книге «История русской философии» (т. 2, гл. 4).
40. Отсюда вытекает очень важное для социальной философии положение, что действие первородного греха должно сказываться не только в каждом отдельном человеке, но и в коллективе, во всяком объединении людей: единство «природы» должно здесь проявляться даже сильнее. Наличность «темной сферы» во всяком коллективе должна быть учтена со всей силой в христианской философии истории, однако нельзя вместе с Niebuhr считать, что общество всегда неморально, всегда движется силами зла. (См. его книгу «Moral man and immoral society». См. также его книгу: «The Nature and Destiny of Man»).
41. Выражение о. С. Булгакова («Невеста Агнца», стр. 122). Таковы же построения Л. П. Карсавина («О началах»). О философии того и другого см. мою «Историю русской философии», т. 2, гл. 5 и 6.
90
42. См. учение св. Григория Нисского о «печати» (Sfragis), остающейся в силе и после разрушения тела.
43. Игнорирование этого легло в основу оригинального и замечательного учения русского философа Н. Ф. Федорова (см. о нем мою книгу «Истор. русск. философии», т. 2, гл. 5), учившего об активном «воскрешении» нами усопших.
44. «Плоть» (sarx) отлична от «тела» (soma) в терминологии ап. Павла, однако нельзя и преувеличивать смысл этого различия.
45. Schoeben Handbuch d. Dogmatik, В. II, S. 224 (Ed. 1925).
46. Там же, стр. 227.
47. Выражение преподобного Серафима: «томлю томящего мя», говорил он о физической работе, которую делал.
48. Вышеславцев. «06 образе Божием в человеке». Путь.
49. Вышеславцев отожествляет понятие сердца и «самости», но это явно расходится со словами Спасителя.
50. Baudoin. Psychologie de la suggestion et de l’autosuggestion. См. также Вышеславцев. Этика преображенного эроса.
51. Вот формула Brunner (op. cit. S. 130): «Mit der Sünde ist das Wesen des Menschen, nicht bloss etwas, im Wesen alteriert, verkehrt».
52. Brunner Ibid. S. 129 пишет: «C разрушением связи с Богом Gottesbezieung разрушен и образ Божий». Само по себе это положение верно, но как можно говорить о разрушении Gottesbezieung, когда Господь, по изгнании прародителей из рая, тут же дал им обетование спасения?
91
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
