13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Введенский Александр, «протоиерей», «митрополит»
Введенский А., «прот.», «митр.» Анархизм и религия
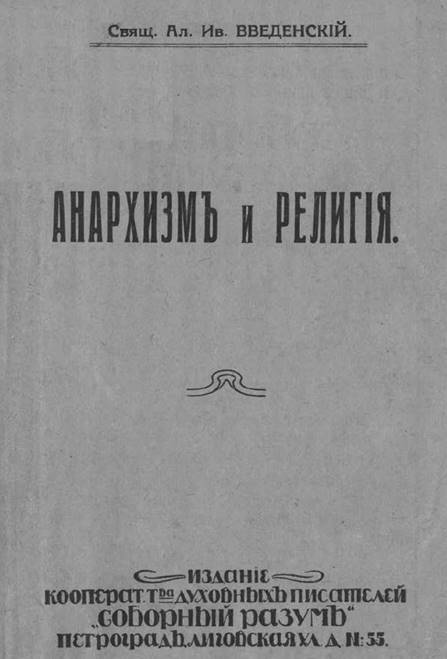

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Введенский А. И.
АНАРХИЗМ И РЕЛИГИЯ
Петроград
1918
I.
Революционный шквал, вздымая все новые и новые валы, докатился,— кажется на человеческий взгляд,—до последних пределов. И здесь я имею в виду не столько фактически существующую анархию, горечь которой мы все вкушаем так ощутительно, но идейный анархизм, как высшее, всецелое утверждение личности человека, как отрицание всякого «ἀρχῆ», всякого «начала», всякой власти. Это самоутверждение личности, доходящее до включения всего мира в узкие рамки индивидуального сознания (от Канта и Фихте до самого крайнего солипсизма, утверждающего, что solus ipse sum, что «существую только я сам», практическим выразителем какового учения на западе был врач Клод де-Брюне, а у нас Федор Сологуб),—с одной стороны, а с другой стороны—до гордого: «все позволено человеку» (Достоевский), или: «чего бояться человеку» (Горький),—со всеми вытекающими отсюда реально-практическими последствиями. Есть в этом учении несказанная пленительность. И рвутся смелые души за пылающими огнями—путеводителями нового, пусть дерзкого и безрассудного, но столь пленительного и чарующего учения религии. Ибо и как социалисты—анархисты
— 3 —
— 4 —
выступают иногда, как верующие без веры, как истосковавшиеся по Тому, Кого они не знают... Вы помните, как у Лонгфелло израненный юноша со знаменем в руке, с восторженным криком на пылающих устах поднимается по горной круче? Он уже почти изнемогает, он уже едва жив, но идет и идет. И упоен тем кличем, который непрестанно звучит сильнее и яснее: exelsior! Это—как у русского поэта:
«Выше, выше—вперед! Так, ведь, много для нас
В жизни целей, задач, идеалов.
Лишь тяжелым, упорным и вечным трудом
Ты достигнешь тех чистых реалов»...
И вот—анархизм говорит иное. Он говорит: «К чему этот упорный труд? Горькие муки? Слезы терпения, отравленные вздохи из-за невыполненных мечтаний? Бери, бери все! Чего бояться человеку? Что ему не позволено? И кто ему может не позволить?— Три стража издавна предстоят человеку: Бог, совесть и ἀρχῆ (власть, закон и принуждение). И эти три великие—это три великих миража, три пустых фантома».
Бог... О, сколько движений души, сколько сердечного трепета, безмерного благоговения вызывает это Единственное Имя, которое можно лишь великому первосвященнику и единожды в год, в сокровеннейшем месте—святая святых, произнести и бежать, а потом и единожды в год не дерзали глаголать неизреченное имя (Ягве) и еврейские первосвященники. Шли века. Изобретались телескопы, открывались законы движения планет, ум человека удивлялся красоте чисел в каком-нибудь дифференциальном исчис-
— 5 —
лении, и падало благоговение у vulgus’a-черни, но у тех, кто хранил верность извечному преклонению перед Непостижимым, ослепительные завоевания человеческой мысли не атрофировали зрительных нервов душевного ока, и оно по-прежнему пленялось и благоговело перед красотой Нездешнего Солнца. Тот, кто открыл закон всемирного тяготения и понял гармонию и таинственные законы чисел (дифференциальное счисление), не мог произнести Божьего имени, не снимая с волос головного убора (Ньютон)... Шли века. И вот—то, что у Жюля Верна казалось дикой и необузданной фантазией увлекательного и увлекающегося писателя-романиста, сделалось привычным фактом. Наши прадеды отказывались садиться в поезда железной дороги, так как полагали, что это—диавольское изобретение. Еще у Мопассана можно найти строки о том, что он видит, как настанет время, когда по дорогам помчатся экипажи, «влекомые иною силой, нежели силой пара». И то, что было предметом мистического страха у наших прадедов и «прозрением» у тонкого и изящного писателя, о, как это для нас обыденно и буднично! В самом деле: паровоз и автомобиль—что прозаичнее этих обыкновеннейших предметов? Мы летаем по воздуху, сносимся с заокеанскими пространствами через радио-телеграфы почти в мгновение ока, и лампа, волшебная лампа Владина, которую нужно потереть, чтобы желаемое стало данным,—право же, многое утеряло в своем волшебстве для нашего трезвого, практического, отвоевывающего все новое и новое, ума человека двадцатого сто-
— 6 —
летия... Для нас стало меньше тайн на земле, и нас уже не интересует небо и те, кто живут там. «Оставим небо ангелам и воробьям»,—вот, кощунственно· циничные слова современного социалиста (Каутский). И это еще хорошо, если только оставим. Мы объявляем войну Богу. В эпоху Возрождения в Италии один из герцогов-кондотьеров совершал свои налеты со знаменем в руках: «Я —враг Бога и сострадания». И сколько теперь таких врагов Бога и сострадания! Уходит «старый Бог» под натиском науки (Давид Штраус). Он умер («der alte Gott ist todt»—Фридрих Ницше), Он есть стеснение человека и Его нет и не может быть (Бакунин). Почитайте ежедневную прессу русских анархистов, всякие эти «Буревестники» и т. д. Те же мотивы, те же мысли. Ушел Бог. Свободен человек. Нет первого стража, стерегшего так долго человека. Ибо сколько грехов было не совершено, сколько преступлений не выполнено, сколько крови не пролито,—так боялся человек Того, Кто все видит! И не говорю уже об этих великих подвижниках, аскетах и анахоретах знойного Египта и Ливии, которые за счастье почитали отказаться от всякого счастья во имя Божие Напрасные безумные жертвы: ибо нет Того, Кому они приносились. «Религия есть обман попов, жреческая ловушка, освобождаясь от которой—легко делается человеку». «Как я рада,—говорила мне недавно одна интеллигентная женщина,—что я освободилась от всякой религии». Но... но как же жить без веры? Ну, хотя бы практически? Во что превратится жизнь, кем будет чело-
— 7 —
век? Он будет богом. Он будет заниматься даже себе-богослужением. Он не только скажет с Сологубом: «Я создал и создаю времена и пространства, и еще иные, бесчисленные обители... ибо все и во всем—я, и только я, и нет иного, и не было, и не будет». Он не только с Сологубом напишет «Литургию Мне», но и отслужит. Рассказывают, как однажды к некоему неумеренному последователю гегелевской философии (вернее, в фейербаховской ее модификации) зашел приятель и? увидел этого гегельянца лежащим на постели в восторженном состоянии. На вопрос приятеля, что он делает, гегельянец ответил: «Поклоняюсь самому себе»...
А раз человек бог, то он—высшее начало, он сам ἀρχῆ, и нет иной для него власти. И анархизм будет логическим выходом, принудительным и неизбежным, для всякого последовательного атеиста.
Но стоит перед человеком—даже атеистом—второй древний страж человечества: совесть. Она, со-весть, она соведает, вместе знает все, даже то—чего сам человек не желал бы знать, что больно и мучительно даже вскользь помыслить... Когда,—говорит предание,—спросили одного древнего мудреца, как научиться все помнить, он отвечал, что это—бесполезное знание: если бы можно было научиться забывать—это было бы драгоценно. И совесть не дает человеку забвения. Она мучительно напоминает человеку о сделанном. И недаром в одном из церковных молитвословий утверждается, что чистая совесть есть нужнейшая в мире
— 8 —
вещь. И никогда, и никуда не убежит от совести тот, кто ее осквернил,—рано или поздно настигнет она смертными муками тех, кто беспрепятственно думал обмануть, игнорировать совесть—Божью силу, Божий голос. Это—как у древнего Эврипида:
«Медленно, твердым шагом
Божья сила к нам движется.
Дерзких она карает,
Тех, кто живет неправдой,
Кто отвергает безумно
Жертвы богам и моленья.
За нечестивцем издали
Зорко следят бессмертные:
Казнь приближается тихо к ним
С каждым мгновением*.
Проблема совести ни у кого так не поставлена, как у Достоевского. Раскольников отверг совесть. Он убил старуху, чтобы узнать, можно ли, отрицая совесть, быть и действительно свободным от нее. «Мне надо было узнать,—говорит он,—вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу? Осмелюсь ли я нагнуться и взять, или нет; тварь ли я дрожащая, или право имею»... Раскольников не победил совести: совесть—его победила.
Правда, есть множество людей, которые победили совесть. Я читал недавно книгу одного врача на Сахалине, наблюдавшего преступников в течение ряда лет. Он говорил с убийцами, с ужасающими преступниками, специально интересовался вопросом о совести, и множество преступников ему говорили, что никаких угрызений совести они не испытывали. После самого кошмарного злодеяния они преспокойно отправля-
— 9 —
лись в веселые места, где проводили время в полное свое удовольствие. Некоторые из этих преступников (врач упоминает об одной женщине), с огромным преступным прошлым, всегда были в отличном, веселом настроении духа. Что эти факты говорят? Совершено препобеждение совести. Но какой ценой? Я не буду становиться на «обывательскую» точку зрения, которая, естественно, боится преступников со всяким и всецелым отсутствием совести. Для анархизма, как такового, преступление не есть ужас, а совесть—святыня. Наоборот, Раскольников есть неудавшийся тип, а женщина-убийца, сохранившая веселое расположение духа на всю дальнейшую свою жизнь, есть своего рода—идеал. Итак —можно препобедить совесть. Ее должно препобедить, если она стоит на пути к полному раскрытию, полному самоутверждению моей индивидуальности... И отходит, как бледная тень, бегущая перед всепобедным солнцем, второй исконный страж человека, великий враг его счастья—совесть.
Остается третий страж—ἀρχῆ, власть. Два идола пали. Трансцендентная, небесная сила, непостижимая, абсолютная—Бог. Он,—так всегда трепетно веровало человечество,—сотворил из ничего миры. Он—перед Которым миллиарды светил, миллиарды млечных систем есть меньше, чем ничтожество, Он уже ниспровержен анархистом. Но Он (как это говорили древние вавилоняне о первом из Божественной Триады—Ану) непостижим и далек. Ближе, рядом, вот тут, во мне, был второй враг и страж чело-
— 10 —
века —совесть. Можно, как мы только что видели, препобедить и совесть. И вот, когда человек свободен от Бога и совести, он не может не вступить в борьбу с третьим врагом на пути к своему счастью, своему самоутверждению и самораскрытию,—обществом, организованным ли в виде государства, или осуществляющим принцип власти каким-либо иным образом. Прежде всего, конечно, личность сталкивается с государством. Что такое государство? Возьмем хотя бы одно из новейших его определений: «государство есть правовая организация народа, обладающая во всей полноте своею собственною, самостоятельною и первичною, т. е. ни от кого не заимствованною, властью» (Б. Д. Кистяковский). Даже здесь, пусть в довольно скрытной форме, есть абсолютизирование и догматизирование, и еще того гораздо более — обожествление государства; здесь государство—земной Бог. Это исконносродное человеку обоготворение высшего коллектива человеческого—государства. Римляне говорили: «Salus respublicae—suprema lex» (благоденствие государства—высший закон). И, действительно, римское государство было тем всепоглощающим Левиафаном, этим чудовищем книги Иова: «Не упадешь ли от одного взгляда его (Левиафана)? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Нет на земле подобного ему: он сотворен бесстрашным, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости" (Иов. XL1, 2, 25—26),—чудовищем, которое Гоббес слил с государством в самой его абсолютной форме («l’état c’est moi).
— 11 —
И через два века это учение о государстве, но в еще более чудовищном, я бы сказал, сверх-абсолютическом, духе вырастает махровым цветком у Гегеля. Завершение нравственности и конкретную реализацию нравственной идеи Гегель видит в государстве. Но этого мало. Вся философия Гегеля есть гимн Абсолютному. Однако, это Абсолютное осознает себя только в человеческом духе. Человек же живет в государстве, развитие государства есть развитие человечества, следовательно—развитие и самого Абсолютного. Здесь—гимн государству, пафос государства доходит до своего кульминационного пункта. В конце концов, Гегель видел в государстве прямо «абсолютный дух», т. е. Божество. Итак, между государством и Божеством становится знак равенства. И ясно, и понятно, что, если человек низверг Бога на небесах и в себе (совесть), то он должен ниспровергнуть Бога на земле, поскольку государство — Божество. Какие же пути могут вести к этому? Таких путей два: через революцию к социализму, или к анархизму. Так обстоит дело в данный исторический момент. Что такое революция? И Гоббес, и Гегель ненавидели революцию. Им, певцам государства, революция была ужасна. С точки зрения Гегеля, это, так сказать, богоборчество. Но, в своей внутренней сущности, революция есть стремление к восстановлению попранной правды. Пусть прав Бердяев, когда он утверждает, что все революции, политические и социальные, направлены на механическое, внешнее разрушение, что природа их психо-
— 12 —
логически реакционна, так как всякая революция есть реакция против старого, а не творчество нового. Но, все же, революция есть всегда шаг вперед, а не назад, поступательное движение человечества в том историческом, пусть себе—нам непонятном, процессе, который неизменно совершается и течет. В данную минуту мы стоим перед социализмом. Даст ли он человеку, низвергшему Бога уже дважды —в небе и в себе, низвержение земного бога—государства? Ясного ответа на этот вопрос в современной научной литературе нет. Можно отметить, что вопреки Ян. Менгеру («Новое учение о государстве»), русские новейшие исследователи интересующего нас вопроса—профессор Шершеневич и особенно Кистяковский—определенно высказываются, что социалистическое государство, не выдвигающее новых правовых принципов (сравнительно с буржуазным), не должно противопоставляться по своей правовой природе государству правовому (буржуазному). Не будем здесь вдаваться в подробное рассмотрение этого вопроса. Здесь дело ясно по своему существу. Социалистическое государство имеет в себе безмерно больше нравственной правды, чем антихристианское буржуазное государство уже тем, что в нем (а не в буржуазном) сбывается положение Вл. С. Соловьева о том, что «всякий человек, в силу безусловного значения личности, имеет право на средства для достойного существования». Но в социалистическом строе непременно будут сбываться слова одного из основателей социализма, Платона, о том, что
— 13 —
приоритет в жизни человека принадлежит социальному целому, а не отдельному индивидууму. Ибо социализм всех считает «товарищами», всем хочет равного куска хлеба, равной доли под солнцем. Поэтому—мы видим, при попытках проведения социализма в жизнь, попытках, неизменно до сих пор кончавшихся (рано или поздно) крахом, умаление личности, принесение ее интересов в жертву целому, общему, «товариществу» (социализм от socius— товарищ, союзник), безразлично, — будут это сисситии древней Спарты, парижская коммуна, или что другое. Итак, социализм есть своего рода земной бог. Недаром, целый ряд идеологов и панегиристов социализма принимают социализм религиозно, прямо, как религию (см. хотя бы Я. Луначарского «Религия и социализм»). Нет, и здесь анархисту, само утверждающему свое я и свое волеизволение, не найти своего счастья. Он уничтожил Божество в себе и на небе не для того, чтобы кланяться Богу с глиняными ногами—государству в какой бы то ни было, даже в самой совершенной, форме. И он уничтожает ἀρχῆ, власть, государство, хотя бы и социалистическое...
Итак—пали три бога, три исконных врага человека: власть на небе, в человеке, на земле. Во имя чего же? Литература анархизма бедна. Когда анархиста (я имею в виду русского рядового анархиста) спрашивают об его анархизме, он говорит, что читал Бакунина, Кропоткина, Штирнера... В следующей главе мы разберем анархизм по его существу, а здесь остановимся
— 14 —
на Штирнере, как наиболее интересном авторе.
Книга Макса Штирнера (на самом деле, Каспар Шмидт, 1806—1856) «Der Einzige und sein Eigenthum» (1844) наделала много шума. По Штирнеру, род — фикция. Единственная реальность—единичная самодержавная личность. Она создает свой мир в своем представлении и воле,—потому ее достояние и простирается столь далеко, сколько она хочет. Она не признает ничего выше себя, не знает другого блага, кроме своего собственного, не служит никакому чужому закону, никакой чужой воле. Ибо для нее в действительности нет ничего, кроме нее самой... То, о чем напыщенно «вещает» нам «безлепицей измученный» Федор Сологуб, Штирнер выкладывает менее «поэтично: «Jch hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt!...»
II.
По мнению некоторых исследователей анархизма (проф. Новгородцев), Штирнер— наиболее крупный и самобытный из анархистов идеологов. Другие, наоборот, отказывают Штирнеру даже в серьезности (В. Виндельбанд). Во всяком случае, Штирнер не одинок, и здесь мы вкратце познакомимся с другими идеологами анархизма. После Прудона, который сейчас уже, конечно, не имеет власти над умами, после Бакунина, который также представляет собой скорее только исторический интерес, к старым вождям анархизма надо отнести и нашего знаменитого анархиста князя Кропоткина.
— 15 —
Творчество Кропоткина претерпело длительную эволюцию. И если вы прочтете его «Речи бунтовщика» (1885) и «Завоевание хлеба» (1892), а потом «L’anarchie, sa philosophie, son ideal» (1896) и, в особенности, «La Science moderne et i’anarchie» (1913), то пред вами предстанут два автора: в первых двух трудах это—ярко выраженный революционный утопист, а в последних—идеолог эволюции самого общества на основе воспитания людей в духе творческой и сознательной инициативы. Но и у Кропоткина, и у Прудона, и у Бакунина, и у других анархистов, о которых мы будем говорить дальше, есть нечто общее, роднящее коммуниста Кропоткина и индивидуалиста Тёккера—ненависть к государству. «Я—безгосударственник», отрекомендовался на одном из здешних митингов один из видных русских анархистов—Шатов. Для анархизма, как выражается Новгородцев,—переход к мирной государственной работе немыслим: бунт против государства составляет его существо. Но в анархизме можно, все же, наметить два течения коммунистическое и индивидуалистическое. К первому принадлежит не только Кропоткин с его идеями о федеративной республике, но и американские анархо-синдикалисты, работающие теперь в России. Но это уже компромисс между основным учением анархизма: абсолютной свободой человеческой личности и данной конкретной социальной обстановкой. Пусть себе анархисты конечным своим конкретным идеалом имеют хотя бы эти известные слова Руссо (в «Общественном дого-
— 16 —
воре»): «найти форму устройства, в которой каждый, соединяясь с другими, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы столь же свободным, как и прежде». Это уже будет, все же, некоторой изменой тому идеалу, несомненно—наиболее полно отвечающему существу анархизма, который имеет крайнее левое крыло анархизма: устроить жизнь без Бога и без власти, без стесняющих личность связей и без всяких ограничений свободы. Ибо существо анархизма есть полная свобода, полное раскрытие, полное утверждение моей человеческой индивидуальности, апофеоз, обоготворение личности. Личность в анархизме становится центром мира.
Ницше есть, несомненно, пророк анархизма, а его учение о «сверхчеловеке» есть апокалипсис анархизма. У человека множество инстинктов. Но самый сильный—воля к власти. Эта воля к власти разрывает со всякой цепью морально-дозволенного и недозволенного, почему тем самым она находится по ту сторону добра и зла. Для воли к власти хорошо все то, что происходит из власти и возвышает власть, дурно все то, что исходит из слабости и ослабляет власть. Центр тяжести всего не в истине, а в волении. Ничто не истинно— все позволено. С этого базиса начинается знаменитое требование Ницше о переоценке всех ценностей. Исходя отсюда, Ницше противопоставляет обыкновенному заурядному человеку, этому стадному животному, идеал сверхчеловека. Ведь, воля к власти есть воля к господству, а самое
— 17 —
высшее господство есть господство человека над человеком. Отсюда Ницше так ненавидит «мораль рабов». Здесь—основание его беспримерно-богохульственной критики Нового Завета, которую он сам озаглавил: «Антихрист". Должна быть не мораль рабов, не смирение и помощь скорбному, но апофеоз силы и звериности. Надо освободить в себе исконного «дикого зверя», надо добить лежачего. Те исступленные крики, которыми оглашались стены языческих цирков во время гладиаторских состязаний, когда, опьяненная звериным чувством, разнузданная толпа опускала большой палец вниз и кричала победителю «Pollice verso!» (добей его!),—те-же лозунги заменят у этого грядущего сверхчеловека христианскую заповедь о безмерной любви ко всем...
Несомненно, что современный анархизм есть завершительное звено всей цепи Ницшевских построений, как и само ницшеанство, при всей его внешней «ненаучности», есть конечный итог «научной» теории Дарвина о борьбе всех живых существ и о победе наиболее приспособленных. Но если мы не видим—ни буквально, ни между строк—у многих из современных анархистов Ницшевского апофеоза звериности, то Ницшевский индивидуализм, Ницшевский аристократический индивидуализм, всецело принимается виднейшими из современных анархистов. У французских, например, анархистов анархизм уже отказывается от исключительной связи с задачами рабочего движения, от связи с «увреиризмом" (оuѵreirisme) и становится на почву чистого гума-
— 18 —
низма, потому что уже просто человек, а не рабочий только, делается здесь центром идеальных стремлений. И Лорюло, и Себастиан Фор и Эмиль Готье выдвигают, как самое основание всего анархизма, личность во всей полноте ее запросов и во всей широте общечеловеческой солидарности. Здесь все больше и больше становится опасность перейти анархизму к чистому и простому индивидуализму, о чем свидетельствует один из больших знатоков современного анархизма, поляк Кульчицкий. Опасность этого сознается анархистами, так как идеалы анархизма, несомненно, бесконечно далеки от воплощения их в действительность. Малато в «De Iа Commune à l’anarchie» по этому поводу так выражается: «Если бы эта концепция общества без власти и оказалась трудно осуществимой, она была бы по крайней мере необходимым противовесом, препятствующим индивидуальной свободе потонуть в грядущем торжестве социализма».
В России, этой стране самых неограниченных возможностей, работа анархистов идет сейчас чрезвычайно усиленным темпом. В ту минуту, когда пишутся эти строки, нельзя предвидеть, во что выльется эта анархическая деятельность. Но более зрелый западный анархизм, который мы у себя так, истинно по-русски, перекраиваем, терпит кризис. Об этом можно судить по парижскому анархистскому съезду 1913 г., давшему картину полного распада анархического движения. Исследователи анархизма, не-анархисты, Кульчицкий и Палант, говорят об этом распаде весьма определенно. Но и не-
— 19 —
которые анархисты, как Проло и Лорюло, свидетельствуют об этом же. Так, Лорюло в своих «Les Theories anarchistes» пишет: «Несомненно, что уже, вот, несколько лет анархизм испытывает глубокий кризис. Он потерял всякий определенный характер. Это—несвязность в идеях и маразм в действии*. Анархизм задается слишком большой задачей. «La douleur universelle»— мировая скорбь (таково заглавие капитального труда Себастиана Фора по философии анархизма) вот, не более и не менее, с чем бы хотел -покончить современный анархизм. Что же выходит? Лорюло откровенно рассказывает, как последовательно отпадали, одна за другой, различные надежды, на которые хотел опереться анархизм. Это—грустная повесть...
Но — это всегдашнее, неизменное «но» — Россия хочет выявить миру новые, как думается русским анархистам, может быть— невиданные формы анархизма, так сказать, анархию анархизма. И здесь мы скажем, вместо всяких длинных дебатов, еще раз свое «но». Но еще Достоевский гениально заметил: «Покажите русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит эту карту исправленною. Никаких знаний и безграничное самомнение»...
III.
Между тем, анархизм бесконечно внутренне противоречив. Выдвигая, как абсолютный центр мира, человека,—анархизм
— 20 —
ничем не в состоянии оправдать столь грандиозные замашки. Здесь случается то же, что случилось с Л. Фейербахом, объявившим Бога каким-то чрезмерно-гипертрофированным человеком,—что довел Геккель до абсолютного абсурда, когда объявил, что Божество есть не более и не менее, как гигантское газовое беспозвоночное животное. Фейербах, в конце концов, ничего не мог привести для такого сверх-апофеоза человека, что заставило бы согласиться с ним. Не менее безнадежно и дело анархизма.
В самом деле, вся мировая скорбь, согласно Фору, исчезнет, когда человек выявит свое начало свободы. Но для этого, согласно Лорюло, нужно создать нового человека,—тогда создастся и новый мир. Помехой по дороге к этому стоит Бог или Сам по Себе, самым фактом Своего бытия, как утверждает русский анархист М. Корцов («товарищ Миша»), или же власть Его,, наместников на земле, сановников церкви»,—согласно Тёккеру. Во всей этой цепи требований все, начиная с основной посылки, требует в себя самой горячей веры. Анархизм, выступающий против религии, есть самая настоящая религия, пусть себе —религия без Бога, как она и de facto существовала у Конта, у Адлера ettutti quanti. И адепты анархизма, как и адепты социализма, должны быть верующими. И не просто верующими, но пламенно-верующими, если угодно, фанатиками веры своей. И когда конкретная действительность показывает всю утопичность анархизма, тогда, как свидетельствует Лорюло, вожди анархизма теряют свою силу: «энту-
— 21 —
зиазм апостолов не мог уже двигать массы и выводить их из их оцепенения».
И надо быть пламенно, слепо верующим, чтобы поверить в единоспасающую силу анархизма, заставляющую кричать: «Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Его»... Ибо слишком многое предлагает анархизм и— не дает ничего...
Центральный догмат анархизма—догмат об абсолютной значимости данной личности. Превращение человека в мировой центр несомненно — грандиознейшая попытка, которая, конечно, не анархистам впервые пришла в голову. Достаточно вспомнить одного Канта. Если Кант сравнивает ебяс с Коперником, то анархисты могут требовать себе еще более славных венцов, так как то, что Кант завоевал для теоретической мысли, они пытаются претворить в конкретный факт. Они имеют более, чем Архимедов рычаг. Если не имеют, то, по крайней мере, верят, что имеют. В конечном счете, их притязания, с точки зрения теории познания, вовсе не так нелепы и претенциозны, как это может показаться на первый взгляд. Если мы вспомним все это бесконечное,—трудно найти подходящее слово,—скрупулезное «крохоборство» современной (преимущественно немецкой) гносеологии, оторвавшейся от онтологии, оторванной, тем самым, и от подлинного бытия, все эти,—пусть себе строго-законные с логической точки зрения,—-выводы, приводящие к знаменитому Протагоровскому положению, что «человек есть мера всех вещей»,—то нас не должно удивлять, если есть люди,
— 22 —
которые всерьез ставят человека в центре всех вещей, в центре всего мира. Пусть здесь нет непосредственной связи, но интересно отметить указываемый факт. С формальной стороны, с научной стороны (поскольку гносеология есть наиболее «наукообразная» часть философии), современный анархист прав; он есть плоть от плоти, кровь от крови, практический выразитель тех теоретических идей, которыми живет современность. Любопытно, далее, отметить, что и с точки зрения столь авторитетного в современной научной психологии волюнтаризма, примата воли, современный анархист с его «волей к власти», с его мощным самоутверждением своего «я» и его свободы—также является идейным продуктом научных теорий известного рода. Таким образом, формально и научно, анархист принесет вам достаточное обоснование своего основного догмата. Но это не новый догмат. Совершается возврат изжитого, и древность глядит очами современности. Современный анархист—ученик софиста Протагора.
Однако, мы продолжаем утверждать, что учение о человеке, как мировом центре, как бы оно ни пленяло и ни возвышало, есть догмат веры с той только разницей, что эта вера не имеет религиозной санкции и религиозного фундамента, а тем самым оказывается зияющей пустотой. В самом деле, слишком трудно действительно поверить в мировую центральность моей вот, лично моей, маленькой личности. Здесь—два пробных камешка, и ни об один из них
— 23 —
не выдержит испытания разбираемый нами догмат. Внутренний опыт—первое, на чем спотыкается это учение. Возьмите духовный опыт любого человека. Не берите сверхчеловека. Шатов мне утверждал, что анархист должен быть сверхчеловеком. Но одно дело то, что должен, а другое то, что есть в подлинной действительности. Сверхчеловеков, я полагаю, нет и вовсе. Но, если бы мне их и указали, то, конечно, слишком немного. Это были бы чрезвычайные раритеты. Мир состоит из обыкновенных, заурядных людей, серой безличной человеческой массы, на фоне которой даже не яркая индивидуальность кажется иногда кричащим бликом. И вот какой-нибудь Чеховский Иванов-седьмой и его подлинный, а не вымышленный, не надуманный по поводу его опыта, подлинный его психологический опыт. Где здесь сознание своей личности, как мирового центра? Как источника всяческого—и прежде всего своего личного счастья? Такого опыта нет. И здесь — конец догмата. Едва ли можно сколько-нибудь убедительно спорить против только что сказанного. Нам могут возразить совершенно другое: «Надо разжечь у других это сознание, надо перестроит человеческую личность, заставить ее почувствовать себя, как абсолютную самоценность, самозначимость. Пусть это трудно, но это дело творцов, апостолов анархизма». Однако, здесь,—если бы такой опыт был даже проделан в мировом масштабе, здесь таится второй пробный камень, о который окончательно разобьется центральный догмат анархизма. По-
— 24 —
тому что, если нам могут возразить, что наличность сознания себя центромиром (да простится нам такой неологизм!) у некоторых (допустим,—хотя, сознаемся, весьма в этом сомневаемся,—что существует и подлинное, а не надуманное, такое мироощущение и миросознание) может, в дальнейшем, сделаться не редким исключением, а массовым фактом; то, во всяком случае, упасть на второй камень и остаться целым—представляется нам гораздо более затруднительным. Второй пробный камень—несоответствие абсолютистических притязаний анархизма и мировой действительности.
Если я есть мироцентр, если я всерьез принимаю Сологубовскую «Литургию Мне» и служу ее, не возмущаясь мыслью, чувством и совестью, (все—хотя и «устаревшие», но еще не для всех окончательно умершие, препятствия), то—я логически обязан сделать и целый ряд фактических выводов. И я их должен непременно формулировать так, как это именно сделал Сологуб (и, отчасти, Штирнер). Я управляю мирами. Я причина мира. Я конец их. Я творец человеческой истории. Я и причина той или иной доли того или иного индивидуума. Все—я, во мне, из меня, через меня. У Сологуба,— если принять, как данное, центральный догмат анархизма,—нет никакой юмористики, никакого шаржа. Все эти выводы не только логически возможны, но и логически необходимы, логически принудительны. Ибо все сказанное заключается в понятии абсолюта, каковым делает человека анархизм. Но то, что логически необходимо и неизбежно, то ф а к-
— 25 —
тически неоправдываемо в данном случае. То есть, анархист может утверждать, что он абсолют, он может в это глубоко веровать и, веруя, стать пламенным солипсистом (в солипсизме только анархист может пытаться найти логический выход из положения об абсолютном значении его личности.
Но может ли солипсизм, т. е. признание того, что весь мир есть я, только сам я, а все остальное—моя психея, как выразился Макс Форворн, грезы, мираж моего воображения и больше ничего,--может ли это учение быть в какой бы то ни было мере тобиз’ом vivendi? Я уже не говорю здесь о совершенной несостоятельности солипсизма, как гносеологического разрешения проблемы познания міра. Я не буду уходить в дебри философии, но ограничусь здесь только указанием на то, что фактически солипсизма, как целостного философского учения, нет и не было. Нет и не было и солипсистов- практиков, всерьез утверждавших, что весь мир только он, вот этот солипсист, а все и все прочие—его грезы. Правда, рассказывают, что один голландский врач— Клод де-Брюне—всерьез утверждал, что мир есть только его сознание и что с прекращением его сознания погибнет и весь мир. Говорят, что его друзья, опасаясь гибели мира и своего исчезновения, если у де-Брюне прекратится сознание, мешали ему спать. Здесь анекдотично и поведение друзей, но еще большим анекдотом является то, что де-Брюне мог всерьез разделять солипсизм. Анархическое движение, однако
— 26 —
настолько значительно, что едва ли оно хотело бы аргументировать свою позицию таким зыбким фундаментом, как чистый солипсизм. Но анархизм неизбежно должен приводить к солипсизму. Здесь—его конец. Ибо если я, безмерно притязающий на центральное положение в мире, объявляющий, что я—даже Бог (у Штирнера любопытное место: «О Боге говорят: «Тебе нет имени». Это относится ко мне: ни одно понятие не выражает меня, ничто, что выдается за мою сущность, не исчерпывает меня; все это— только имена. О Боге говорят еще, что Он совершенен и не призван, поэтому, стремиться к совершенству. И это приложимо единственно ко мне. Я самовладыка моей мощи; и я таков, когда сознаю себя единственным. В единственном сам самовладыка возвращается в свое творческое ничто, из которого он рождается. Какая бы сущность ни предполагалась выше меня, она ослабляет чувство моей единственности и тускнеет только перед лучезарным солнцем этого сознания»),—все эти безмерные, сверх-титанические притязания разбиваются о... факты. Анархисту надо либо с Гегелем (когда ему указали, что его философия противоречит фактам точных наук) воскликнуть: «Тем хуже для фактов!», либо смиренно склониться перед этими всемогущими фактами. А факты бьют солипсизм анархиста, разбивают на тысячи мельчайших осколков его гордое упоение самовладычеством, в пыль развевают анархиста-мироцентра. Я пока не буду говорить о Боге, а буду говорить о мире, который окружает каждого
— 27 —
анархиста (как и каждого не-анархиста), в котором он живет, центром и причиной бытия которого он притязал быть, и который... неизменно и непреклонно разбивает все эти заносчивые иллюзии. В самом деле, если даже согласиться, что анархист, выражаясь словами неоднократно уже цитированного нами Сологуба,— «создал и создает времена и пространства, и еще иные, бесчисленные обители», может зажигать новые светила и сокращать бытие их (всерьез этого анархист-солипсист тоже не может сделать, потому что, если даже согласиться с Кантом, что наши формы познания обусловливают мир, то, во всяком случае, даже мы подчинены этим формам с принудительной необходимостью: мы не могли бы, как бы этого ни пожелали, жить в четырехмерном пространстве, или заставить солнце освещать все не желтым светом, как это сейчас бывает, а, положим, фиолетовым),—то он безусловно бессилен перед тем, что называем мы роком, судьбой и т. п. Шопенгауэр обмолвился в одном из своих «Афоризмов», что жизнь человека так предопределена, что производит впечатление шахматной партии, разыгрываемой опытным и искусным игроком. Если с Шопенгауэром анархисту угодно будет не согласиться, если мы услышим гордое напоминание о том, что человек—«самовладыка своей мощи» (или, как, задолго до всяких Штирнеров, русская пословица выразилась: всякий—кузнец своего счастья), а посему каждый может Направить свою жизнь, как ему угодно,—в таком случае мы укажем этому
— 28 —
самовладыке на—хотя бы вот—эти слова идейного отца современного анархизма, Фридриха Ницше: «Мое существование есть страшное 1) бремя», которое он «давно сбросил бы с себя». Ницще пишет далее (это— письмо к его другу) о тех невыразимых физических страданиях, которые довели его до такого отчаяния. Да, вот, эти болезни, о которых так красноречиво писал тот же Ницше, болезни, от которых не свободен никто (d-r Erich Kindborg, один из лучших современных терапевтов, свидетельствует, что, как ни живи человек, жизнь непременно представляет ему, в конце концов, два равно-мучительных счета—подагру, или артериосклероз: на выбор), болезни, когда человек полагает, что все счастье только в том, что не болезнь 2),—вот, что сделает «самовладыка» с таким печальным и отвратительным явлением? Если бы он, мироцентр, был и владыкой его, он бы прекратил всякую болезнь, всякий стон, всякое страдание. Но—бессилен здесь гордый самовладыка.
И я уже не говорю здесь о смерти, этой, по выражению книги Иова, «царице ужасов». Мы все ее боимся и все не думаем. Одна из моих корреспонденток по религиозным вопросам в свое время писала мне, что
1) Курсив Ницше.
2) Наш А. П. Чехов, умерший от туберкулеза легких, живя в Крыму, со вздохом говорил, что все счастье—в том, чтобы иметь здоровые легкие. А Мопассан, страдавший тяжкой желудочной болезнью, утверждал, что единственное счастье в жизни—вкусно, много и хорошо есть.
— 29 —
думать о смерти, которой она, конечно, боится, это—значит отдавать ей заранее частицу своей жизни, а поэтому—не надо и думать о ней. Бурдо о смерти и отношении к ней большинства человечества замечает, что люди «стараются рассеять мысли об этой прискорбной случайности и полагают, что лучше избегнуть опасности, не думая о ней». Однако, здесь Монтэнь рисует верную картинку: «Они ходят взад и вперед, толкутся на месте или танцуют; о смерти нет никакого помина. Все это хорошо, но,—когда она приходит к ним, к их женам, детям и друзьям, захватывая их совершенно врасплох,—какие мучения, какие вопли, какое бешенство и отчаяние ими овладевают!..» fl состояние приговоренного на смерть? У Пшибышевского один из чахоточных его героев, знающий о своей близкой смерти, переживает адские муки от этого сознания. Конечно, Пшибышевский лишь талантливо изобразил то, что переживают многие тысячи тех, которые сознают неизбежность близкой своей смерти. Смерть ждет и анархиста-солипсиста. И еще менее имеет власти он над нею, чем над болезнями и далекими светилами...
Было бы слишком долго (и слишком наивно) задерживаться над всеми вопиющими нелепостями, с которыми немедленно сталкивается горделивое, но пустое и бессмысленное, утверждение о самовладыке-мироцентре-анархисте. Мир царит над анархистом, как и над каждым из нас; мир побеждает анархиста, как он побеждает и всякого, кто не с Единым Победителем— Христом.
— 30 —
IV.
Но нам скажут: «Вы сражались сейчас с ветряными мельницами. Ни один анархист не мечтает о космической власти. Он не хочет повелевать планетами и изменять законы бытия травинки в поле. Сологуб исключение. У анархизма другое: прежде всего надо перестроить здешний мир, устранить тяготу государства, убить этого гнусного Левиафана». Такого рода воззрение на сущность анархизма проникло и в научную литературу. Так, известный проф. Георг Адлер определяет сущность анархизма следующим образом: «Анархизм есть установившийся со времен Прудона термин для обозначения общественного строя с мыслимо широкой автономией индивидуумов и возможно полным отсутствием всякого правительственного принуждения». Здесь центр тяжести, таким образом, в социальном вопросе. Но мы берем понятие анархизма шире. Если заглянете в книжку Ц. Ломброзо: «Анархисты», если угодно будет посчитаться с Paul’ем Dejardins (см. «L’idee anarchiste»), то мы согласимся с формулировкой Ломброзо, который по пунктам перечисляет требования анархизма. В числе их на первом плане стоят четыре следующих:
1) Счастье—это право и объективная цель жизни человека.
2) По своей природе человек добр и достоин и способен быть счастливым.
3) Абсолютная свобода, возможность для каждого делать беспрепятственно все, что он захочет вот, условия счастья.
4)Все ограничения, внешние или социальные, внутренние или моральные, созданы искусственно и должны быть рассматриваемы, как причины несчастий и печали людей.
— 31 —
Таким образом, анархисты не ограничиваются только борьбой с государством, но высшая их цель счастье («Счастье, призрак ли счастья не все ли равно?»), во имя которого они объявляют себя центромирами (пусть это остается практически-невыполнимым требованием). Мы видели в предыдущей главе, что анархисту не удается до сих пор победить мировую неизбежность, мир—как таковой. И ближайшей их задачей является, поэтому, борьба не с мировым злом вообще, а прежде всего—борьба с социальным злом, в виде государства. По Бакунину, государство есть господство одного над другим, а потому деспотизм лежит не в форме государства, но в его сущности. Поэтому должно быть низвергнуто всякое государство. Как же это сделать? Бакунин,—этот отец, столп и утверждение анархизма полагает, что ближайшая задача анархизма есть создание анархии «в смысле разнуздания всего, что ныне именуется злыми страстями, и уничтожения всего, что на том же (современном) языке именуется общественным порядком». В запрещенной (до революции) книге: «Der Anarchismus und seine Träger. Enthüllungen aus dem Lager der Anarchisten. Berlin», между прочим, находятся слова видного немецкого анархиста Иоганна Моста о том, что динамит, покупаемый за деньги,—вот, что нужно революционеру. Надо деньги ибо нужен динамит. В динамите анархист видит спасение. Динамит есть Архимедов рычаг, который перевернет мир. И это—не только громкие слова. Анархисты претворяют их в действительность.
— 32 —
Мы знаем, что в России работал некий Нечаев, посланный в Россию самим Бакуниным, основатель нигилистического клуба «Народной Расправы», поставившего своей задачей террористические акты. Работали террористы и на Западе. В немецкой газете, со звучным именем «Вор", («Einbrecher», № 1, 1893 г.) призыв анархистов к индивидуальной экспроприации кончается следующими патетическими строками: «Вперед-же! Беритесь за воск! за отмычку! за лом! за молот! за топор! за бурав! за пилу! за щипцы! за дубину! за отвертку! за стамеску! за мышиный яд! за мешок! за веревку! за кинжал! за револьвер! за керосин! за бомбу! за огонь! Ура!!!»... Эти исступленные крики заставляют вспомнить слова Ломброзо, что «самыми деятельными адептами анархизма должны быть по большей части или преступники, или сумасшедшие, или те и другие вместе". И далее Ломброзо, разбираясь в типах известных анархистов, находит больных эпилепсией, истерией и т. д. Не менее любопытно суждение другого, еще более знаменитого психиатра, Крафт-Эббинга, который так говорит об этих политических миро-преобразователях: «Многие из этих ненормальных людей всю жизнь остаются на ступени бестолковых болтунов, но эта ступень есть преддверие к тяжелой неизлечимой душевной болезни, к paraoia expansiva. Легко может случиться с этими индивидуумами, что они, под суггестивным влиянием других, или под влиянием тревожных времен, утрачивают остаток рассудительности. Тогда они чувствуют влечение
— 33 —
действовать в смысле своих идей... Удивительно, что такие народные трибуны, демагоги и крамольники, во времена всеобщего сильного душевного возбуждения, могут увлечь за собою массы своим красноречием, пленить своею оригинальностью и эксцентричностью, зажечь своим безумным фанатизмом».
Так или иначе, здоровые или ненормальные (Ломброзо лучших представителей анархизма не считает ненормальными), но анархисты выдвигают методы террора—ради террора.
Таковы: Бакунин, Нечаев и др. Дикие призывы «Вора» претворяются в дело. Памятна еще бомба, брошенная анархистами в одном из парижских кафэ, искалечившая и убившая ни в чем неповинных посетителей кафэ (здесь, к слову, пострадал один из анархистов, проповедавший такие бессмысленные жестокости, как «красивый жест»). Анархизм, таким образом, возводит насилие, как сам себя оправдывающий метод пропаганды уничтожения всякого строя. Насилие является самоцелью, независимо от того, на кого и для чего оно направляется.
Но достигается ли этим что-либо? Террористический акт в парижском кафэ встретил достаточно-единодушное отрицательное к себе отношение среди самих анархистов. Может быть, наиболее из них гуманный, знаменитый географ Элизе Реклю по этому поводу и в свое время писал: «Анархия— верх гуманных теорий. Кто называет себя анархистом, должен был бы быть добрым и кротким; люди, смотрящие на преступление,
— 34 —
как на средство, марают наше учение; к несчастью, таких людей слишком много среди нас»... Да, Реклю трижды прав. Нельзя насилием достигнуть ничего. Насилие вызывает новое насилие. Непреложны слова Господни: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. XXVI, 52) и: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Апок. XIII, 10). Эти слова, воистину, не только аксиомы нравственности и духовности, а и аксиомы житейской действительности. Необходимо всегда иметь в виду, что обиженный затаит свою обиду, обойденный—свое оскорбление и т. д. Но психология обычного человека слишком далека не только от всепрощения, но и от просто прощения. Закон возмездия, вечная Немезида, ждет насильника, во имя чего бы насилие это ни творилось. Здесь—угол падения равен углу отражения. Правда, анархисту насильнику (как мы видели на примере Реклю, вовсе не все анархисты таковы) свойственна та психология преступника, которая так красочно и верно изображена в древней книге: «Нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: нет Бога! Во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки для него; на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением; говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла»; уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком его—мучение и пагуба; сидит
— 35 —
в засаде, за двором, в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным; подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище»... (Псал. IX, 24 30). Но—неизменен Божий суд: «обрушились народы в яму, которую выкопали; в сети, которую скрыли они, запуталась нога их... нечестивый уловлен делами рук своих». (Псал. IX, 16 —17). И пусть анархисты не кричат мне, что никакого Бога нет. Я согласен на то, чтобы подменить здесь «Бог» словами: рок, возмездие, историческая расплата и т. д.—что угодно. Для меня важен факт. Когда звук падает, он непременно отражается, знаю ли я отдел из физики, именуемый акустикой, или не знаю. Когда совершается насилие, тогда оно потенциально или актуально вызывает ответное насилие. На штыки можно опереться, но нельзя на них сидеть,—совершенно верно заметил Талейран. Насилием можно пытаться ниспровергнуть государство, утвердить индивидуальность, но нельзя утверждаться и обосновываться на насилии, как на сколько-нибудь надежном методе реформирования (и такого кардинального) жизни. Насилие принесет не свободу и самоутверждение личности, а гибель ее в буквальном смысле этого слова. Я буду, во имя анархизма, убивать, но и меня мои враги будут пытаться убить и, при удобном стечении обстоятельств, несомненно, и убьют. Здесь уже, конечно, для каждого анархиста явление, несомненно, неприемлемое.
Но, если бы анархист шел на смерть, если бы ему было безразлично собственное
— 36 —
уничтожение, лишь бы торжествовал его идеал. Если бы он повторил, вот, эти слова Нечаева, утверждавшего, что анархисту необходимо порвать со всем, что ему дорого в мире, и это сделать так решительно, что, «если он и продолжает жить в этом мире, то делает это только с целью тем вернее его уничтожить. Для него существует только одно наслаждение, одно утешение, одна награда, одно удовлетворение: победа революции. Днем и ночью он должен иметь одну только мысль, одну только цель—неумолимое разрушение». Даже при таком решительном, героическом настроении—польза дела, то-есть воплощение принципов анархизма в действительности, нимало бы не выиграла. Я не буду вдаваться в длинные рассуждения, а сошлюсь на современного французского анархиста Грава, который в своей книге: «La Societe mourante et l’anarchie» сознается, что идеи, которые так сильно волнуют анархистов, не могут, к сожалению, быть непосредственно реализованы. Конечно, Грав тотчас же оговаривается, что это обстоятельство—не основание для того, чтобы не работать для их осуществления. Однако, знаменательно, что сам Прудон заявил, что анархия—недостижимый идеал, правильной же формой социального бытия является всего скорее федерализм.
Так, выспренние идеалы анархизма заменяют человеческими, слишком человеческими, компромиссами. Да так и должно быть по своему существу. Анархизм рисует в своем воображении гигантский храм индивидуальности. Высоки его своды, легки его
— 37 —
стены, весь он бесплотная прекрасная греза. С тех пор, как существует мир, еще не было такого храма и, в общем, не было сколько-нибудь решительных попыток к осуществлению планов смелых архитекторов в подлинную действительность. Весь мир, в значительнейшей своей части, не только не хочет строить этого храма, но есть полное основание полагать, что, когда этот храм будет построен,—если он будет построен,—то человечество побоится в него войти. Оно опасается, что храм этот рухнет и задавит тех, кто дерзновенно пойдет в этот храм. Что за странные, казалось бы, опасения? Однако, они достаточны. Храм этот хотят построить на песке. Свобода индивидуальности, если не хотят превратить человечество в дикое стадо кровожадных зверей, непременно должна зиждиться на незыблемом нравственном фундаменте. Это должна быть не готтентотская мораль и не мораль Антона Менгера, утверждающего, что нравственность есть сила (следовательно, штык и кулак—лучшие методы нравственного воздействия). Здесь нет, ведь, нравственности по ее существу, а остается только одно слово—нравственность. Жонглирование этим высоким понятием, однако, далеко не безопасно со всякой точки зрения. Если меня потащат в храм, где, как львы и барсы, будут жить, во всей своей звериной красоте (а как о звере и необходимости пробудить его в человеке восхищенно поет Ницше!), индивидуалисты-самовладыки своей мощи, то я попросту испугаюсь этого сборища. Во мне заговорит са-
— 38 —
мый элементарный инстинкт самосохранения, который понудит меня немедленно покинуть такой храм или, еще лучше, совсем не переступать его порога. Если же я дальновиден, расчетлив и, к тому же, достаточно силен, то я буду самым решительным образом мешать тем, кто хочет строить такой храм. Такова психология тех миллионов людей, которые так боятся одного слова «анархизм» и которые не пойдут в храм анархизма, если бы он когда-нибудь и был выстроен.
Анархисты не могут не считаться с этим явлением. Ведь, они—поскольку существуют анархические федерации—желают коллективного анархизма. Они хотят по анархическому методу перестроить весь современный мир, так что, несомненно, выходят за грани чисто-личного анархизма (лично мне, как это сделали Штирнер и Сологуб, никто, конечно, не может воспрепятствовать освободить себя от каких бы то ни было норм и объявить себя чем и кем угодно). Поэтому они не могут не считаться с вышеуказанным собранием. А нравственного пафоса у них действительно мало. Для иллюстрации я приведу цитату из анархического журнала «L’Endehors»: «Наше отвращение к современному обществу ни в каком случае не принуждает нас иметь неизменное убеждение. Наоборот, мы боремся только ради удовольствия бороться и не мечтаем о лучшем будущем. Какое нам дело до будущих столетий, до наших внуков! Мы хотим насладиться моментом и, вне всяких законов, всяких правил и вся-
— 39 —
ких—даже анархистических—теорий, хотим мы руководствоваться только нашими чувствами, нашими страданиями, нашим бешенством и нашим инстинктом, гордыми быть самими собой». При такой нравственной болезни, параличе нравственности, где же можно думать о том нравственном пафосе, который должен создать гранитное основание для блистательного храма анархизма! Но у анархиста и не может быть подлинного нравственного чувства, так как анархист уничтожает оплот всякой подлинной нравственности—Бога. Безрелигиозная же мораль есть либо нечто несуществующее, либо это какая-то бледная, анемичная тень, пародия на подлинную религиозную нравственность. Бога же у анархиста нет, и Его он менее всего хочет. Шпицберг исступленно призывает к низвержению Небесного Царя так, как русская революция низвергла царя земного.
V.
Что мы видели до сих пор? Мы видели, как анархизм, выдвигающий индивидуальность, как высший мировой принцип, терпит крушения одно за другим. Он борется с Левиафаном-государством, и государство побеждает его. На насилие большей или меньшей кучки анархистов оно отвечает организованным насилием своего мощного государственного аппарата. Анархизм объявляет себя средоточием мира, но оказывается в полном плену у мировой зависимости. Анархизм ищет счастья, а встречает на каждом шагу смерть, болезнь и
— 40 —
тысячу других страданий. Но может анархист льстить себя другой надеждой? Да! Сейчас еще «смерть и время царят на земле», но он, как и Вл. Соловьев, не зовет их «владыками». Правда, не потому, что (как у Соловьева) все побеждает «солнце любви», но потому, что победят разум, наука, культура, прогресс. Сейчас есть болезни, но наука нас учит, что, шаг за шагом, человечество побеждает болезни. Сейчас мы не можем полететь на луну, но победили воздух. Вопрос о самой победе над физической смертью («Общее дело» Федорова) не есть уже нечто абсолютно невозможное: опыты с замораживанием живых существ Бахметева и некоторые операции американских хирургов (Каррер) по пересадке тканей и органов как будто проясняют горизонты и в этом отношении. Словом, нельзя ставить пределов достижениям человеческого ума. Вопрос идет о времени, и нет никакой логической невозможности, что человек когда-либо не будет, действительно, владыкой мира. Да, но спешим оговориться: владыкой физического мира. Есть новый, иной мир, горний мир—мир святыни, мир религии, царство мистического опыта, Божьи чертоги. Ими никогда не завладеет человек, в них никогда не будет господином.
Но мы уже видели, что именно Бога-то и отрицают анархисты. «Совсем Его нет. Какие там разговоры! Вы говорите, что, отрицая Бога, мы строим свое будущее на песке? Пусть! Пусть погибнем, но Бога нам не надо, и никакой грех нам не страшен.
— 41 —
Что бояться фантома, как бы он ни назывался?»
У Штирнера о религии мы читаем: «Решившийся восстать против всех современных требований и понятий, эгоист приступает к безжалостному и безграничному разрушению святынь. Для него нет ничего святого!.. Разрушитель святынь всеми силами своими восстает против всякой богобоязненности». И Штирнер иллюстрирует, как надо бороться с этой богобоязненностью: «Я одержим и хочу изгнать из себя «злого духа». Как приступить к этому? Я спокойно совершаю самый страшный для христианина грех, грех против Духа Святого хулу на Него (ср. Марк. III, 29). Я и не хочу прощения и осуждения я не страшусь». Самое возвышенное из религиозных учений, христианское учение о Боге, как любви, не удовлетворяет Штирнера: «Бог, который есть любовь—навязчивый Бог». Итак—долой Бога! Это—преступник (так у Себастиана Фора и озаглавлена одна книжка: «Преступление Бога»). Бог есть поповская выдумка, как открывает «Буревестник». Да разве все перечислишь, что говорят (Господи, прости мне эти мои цитаты!) анархисты о Боге? Но все эти бессмысленные и исступленные выпады против Бога не могут Его затронуть, конечно. Земного царя, конечно, спихнуть можно, но никто не досягнет до Небесного Царя. Строили люди вавилонскую башню, хотели достичь неба. Неба не достигли, работа пропала. И что бы ни кричал, кто бы он ни был—Бога он не оскорбит. И я не дерзаю выступать здесь «защитником»
— 42 —
Бога: слишком это было бы—простите меня — глупо. Бог есть Бог, что бы и кто бы ни говорил, ни думал, ни действовал против Него. Это, я думаю, в тайниках своей души, чувствуют и те, кто считают себя ниспровергателями всех святынь.
Мне бы хотелось здесь в весьма кратких словах показать, что анархизм напрасно борется против религии. В религии он может найти лучшее, высочайшее основание для своего верховного принципа: исключительной ценности человеческой личности.
Но прежде остановимся на минуту на бытии Бога. Он есть. Есть и для неверующего анархиста. У нас пять внешних чувств. Но есть шестое чувство—внутреннее, которое назовем мистическим. Им обладает каждый в большей или меньшей мере. Пусть самый «не-мистический» из анархистов попытается проникнуться настроением вот хотя бы этого прелестного Бунинского стихотворения: Бледно-зеленые грустные звезды...
Помню темнеющий лес,
Сырость и сумерки в горной долине,
Холод осенних небес.
Жадно и долго стремился я, звезды,
К вам в вышину,..
Что же я встретил? Нагие граниты,
Сумерки, страх, тишину...
Бледны и грустны вы, горния звезды:
Вы созерцаете смерть.
Что же влечет к вам? Зачем же так тянет
Ваша бездонная твердь?
В этом стихотворении нет слова Бог, но, если вы проникнетесь его настроением, то ощутите Бога, хотя бы это имя вам даже и было ненавистно.
— 43 —
Дыханием Божества проникнуто все. По чудесному выражению проф.-прот. П. Я. Светлова, Бог зовет нас и в бурных раскатах грома, и в тихой прелести майского утра, и в нежном румянце зари; и влечет нас к Себе из темно-синей бездны неба и слышится призывный голос любви Его из прозрачной глубины недвижимого моря, слышен он чуткому сердцу и в таинственном шелесте дубравы, и в дивных трелях соловьиной песни, и в тихом мерцании звезд полуночных, и в ясной улыбке младенца, и в дивной красоте человека; влечет нас к Себе и в высоком парении творческого гения, и в звучной потрясающей песни поэта, влечет приливом неизъяснимых восторгов искусства, тихими радостями науки, и горем, и счастьем,—во всей природе громко раздается призывный голос Божества». Не все слышат эти звуки. Как прекрасно заметил Шлегель: «Во сне земного бытия звучит, скрываясь в каждом шуме, таинственный и тихий звук, лишь чуткому известный слуху». Да, надо иметь религиозный слух. То мистическое чувство, которое есть чувство Бога и которое, в той или иной мере, есть у каждого, должно быть раскрыто, осознанно, опредметствованно. Это—как у Метерлинка: «Откуда происходит эта боязнь божественного в людях? Поистине—можно сказать, что чем больше движение души приближается к божественному, тем больше стараний прилагаем мы, чтобы скрыть его от взглядов наших братьев».
Таким образом, возможность чувствования Бога зависит только от нас самих.
— 44 —
И анархист не имеет никакой возможности, если ему угодно считаться, например, с логической возможностью, отрицать бытие Бога только потому, что он утверждает свою свободу. Известное анархическое выражение: «если есть Бог, то я не свободен»—не совсем верно. Человеческой свободе (если она для человека есть психологический факт) никто не может помешать, даже Бог: Он может только наказать. Но если бы даже и так: если бы бытие Бога ограничивало, даже лишало человека свободы, то разве от этого может уничтожиться факт бытия Божия, если Он существует? Ведь, такое утверждение есть не меньшая нелепость, чем отрицание мороза только потому, что я не могу без одежды прогуливаться по вольному воздуху во время мороза.
И Бог не только существует, но в религии, отрицаемой анархистами,—верховное утверждение свободы и индивидуальности. Мы, в частности, остановимся на совершеннейшей из религий—христианстве. Христианство утвердило ни с чем не сравнимую значимость каждой отдельной личности. Душа каждого человека дороже всего мира: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф. XVI, 26). Каждый, даже, казалось бы, погибший человек есть одна из тех овец, ради которой оставляются прочие овцы, чтобы найти потерявшуюся (Лук. XV, 4—6). Каждый из нас так ценен в очах Божиих, что Отец отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
— 45 —
вечную. И кровь Его омыла нас, и сами мы делаемся в христианстве богами.
В самом деле, нелепы с практической точки зрения и несостоятельны с теоретической все кичливые притязания на объявление себя центромирами. Но анархизм, в противовес толповому социализму (не идейно-христианскому, сохраняющему своему адепту всю ценность личности и всю ценность религии), так зло осмеянному Джеромом Джеромом, верно выдвигает ценность и ни с чем не сравнимую значимость каждого индивидуума. Но у анархизма эта ценность висит в пустом пространстве. Почему я так ценен? Добро бы, если бы я в самом деле был средоточием мира. Но, так как этого ни в малой мере нет, то эти притязания могут со стороны показаться либо дутыми и смешными, либо, если они отстаиваются серьезно, бездоказательными. Между тем, личность ценна—выше и ценнее всего мира. Но она свою ценность может обосновать только религиозно. Пантеисты будут говорить, что мы—эманация, излучение Божества, что в нас себя познает само Абсолютное. Христианство, препобеждающее пантеизм (как религиозно несовершеннолетнее учение), даст еще более глубокое утверждение ценности человеческой личности. Пантеизм сливает личности в Единое—Абсолютное до такой меры, что когда таинственная Майя будет препобеждена, то все мы вернемся в безразличие (и безличие) Парабрамы. Христианство утверждает личность и дает ей полную свободу. В христианстве нет и не может быть юридической санкции, вообще—никакой юри-
— 46 —
спруденции. Где Дух Господень—там свобода. Свободна и христианская личность. Ее никто не учит, но только Само Божество (I Иоан. II, 27).
Но эта свобода приобретает новое значение, а христианская личность приобщается к Абсолютному, которое воистину,—а не в пустых словах,—есть Центр, Основа и Жизнь мира. И поскольку человек причастен Божеству через Христа, постольку он делается средоточием но уже тоже подлинным вселенной. В сочинении св. Афанасия Александрийского «О вочеловечении Логоса» прямо говорится, что Он «вочеловечился, чтобы мы обожествились». Но это не делается механически. В подлинной религии нет механизма. Приобщение к Божеству, по Афанасию, совершается через сыновство, как бесконечное возвышение жизни, но не пантеистически, не путем механического слияния с основой мира. Нужно нравственное усилие огромнейшего напряжения. Многие поищут войти в Царствие Божие, но мало избранных. Таким образом, христианство утверждает бесконечную ценность человеческой личности, как и анархизм. Но оно никогда не скажет: «Как можно больше динамиту!» Оно выведет другое требование: «как можно больше любви!» Любовь—пусть это будет тот динамит, который взорвет всю неправду социальной действительности! Любовь—пусть это будет тот огонь, в котором сгорит все, мешающее подлинной, поистине божественной, свободе человека! Тогда на земле не только будут царить, как об этом мечтает анархист Грав, справедливость и свобода, которые
— 47 —
он пишет с большой буквы, но будет прямо рай.
И анархизм, поскольку он есть, в лице своих благороднейших представителей, пламенный протест против нынешнего социального—прежде всего, а потом и морального, угнетения человека,—должен всегда помнить, что только христианство даст ему незыблемый фундамент для его высоких требований. Но методы Нечаева, методы «Воpa» и т. д. должны быть не только брошены, но бесповоротно, решительно, со всей мыслимой силой осуждены. И так анархизм должен сделать не только во имя религиозной и нравственной правды, о чем он, впрочем, заботится меньше всего, а во имя торжества своих же идей. Не динамит, но любовь. Любовь со Христом. Такая любовь сделает большее дело, чем самая большая доза динамита: такая любовь сделает все.
Страница сгенерирована за 0.19 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
